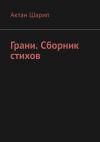Текст книги "Из моей тридевятой страны"

Автор книги: Елена Айзенштейн
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере,
используй, чтоб холод почувствовать, щели
в полу, чтоб почувствовать голод – посуду,
а что до пустыни, пустыня повсюду.
(3, 190)
Всемирность события Рождества передана словом «всюду», относящемся к пустыне. Не только пустыня – повсюду, Рождество длится, потому что переживается, вспоминается ежегодно. Описание Рождества поражает авторским вниманием к деталям: например, о родившемся Спасителе Бродский пишет: «сверток с младенцем». Младенца запеленали, но в слове сверток какой-то нечеловеческий, милый смысл: Бродский дает понять, что в этом Младенце еще не видно того, что будет явлено человечеству потом. Младенец плюс еще что-то. Этому свертку с младенцем, родственному Небу, и несут волхвы свои дары:
(Младенец покамест не заработал
на колокол с эхом в сгустившейся сини).
Представь, что Господь в Человеческом Сыне
впервые Себя узнает на огромном
впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном.
(3, 190) (1989)
Звучание пространства дается Бродским как «скрип поклажи, бренчание ботал»: младенец еще не может претендовать на звуки колокола, шутливо пишет Бродский, говоря о будущей славе Христа, о любви к нему христиан на земле, о любви Бога «в сгустившейся сини». И опять стихотворение заканчивается мыслью о необыкновенном расстоянии, на котором находятся Отец и Сын, трагически-бездомные, как бездомен поэт.
11 января 1990 года Бродский выступил в Париже в колледже Ecole Normale Superieure; там он познакомился со своей будущей женой, полурусской-полуитальянкой, Марией Соццани (по матери Берсенева-Трубецкая). 1 сентября1990 года в Стокгольме состоялось бракосочетание Бродского и Марии. Впервые за долгие годы Бродский обретает тот семейный уют, которого он был лишен долгие годы. Рождественские стихи 1990 года как будто предсказывали Иосифу Бродскому его недолгое грядущее счастье:
Не важно, что было вокруг, и не важно,
о чем там пурга завывала протяжно,
что тесно им было в пастушьей квартире,
что места другого им не было в мире.
Во-первых, они были вместе. Второе,
и главное, было, что их было трое,
и все, что творилось, варилось, дарилось
отныне, как минимум, на три делилось.5050
Автоперевод стихотворения «Не важно, что было вокруг, и не важно…» опубликован в «A Garland for Stephen» (Edinburgh: Tragata Press, 1991). Лосев Л. ЖЗЛ.
[Закрыть]
(3, 196) (25 декабря 1990)
Неожиданно современно звучит определение пещеры Рождества как пастушьей квартиры. Рождественская тема оказалась для Бродского сбывшимся чудом, когда Мария вошла в его жизнь. Способностью «дальнего смешивать с ближним», способностью объединять людей любовью обладает не только религия. Поэзия тоже наделена этим даром. Гудение ветра автор передает в самой мелодии стиха, его 16 строк (ж—ж—р—р—р—р—л–л—л—л—дь—дь—ч—ч—ш—ж). Взгляд младенца на сияющую звезду и взгляд звезды, несшей человечеству божественную любовь, сопоставляет автор, воспринимая звезду Вифлеема посланницей Бога, его нового завета людям.
Следующее рождественское стихотворение с итальянским названием «Presepio», создано в 1991 году. Бродскому кажется, что евангельская история в интерпретации человечества стала игрушечной, микроскопической:
Младенец, Мария, Иосиф, цари,
скотина, верблюды, их поводыри,
в овчине до пят пастухи-исполины
― все стало набором игрушек из глины.
(3,205)
Людям нравится по-детски играть в Рождество. Фигурками из глины видятся Бродскому не только Христос, Мария, верблюды и волхвы, но и все человечество, на которое Бог смотрит из своего небесного мира. «Тогда в Вифлееме все было крупней», – убежден поэт, пытающийся вернуть человечеству истинные размеры рождественского события. Вторая часть стихотворения противопоставлена первой:
Тогда в Вифлееме все было крупней.
Но глине приятно с фольгою над ней
и ватой, разбросанной тут как попало,
играть роль того, что из виду пропало.
Теперь ты огромней, чем все они. Ты
теперь с недоступной для них высоты —
полночным прохожим в окошко конурки —
из космоса смотришь на эти фигурки.
(3,205)
Христос превратился в того, кто из космоса наблюдает за людскими играми, за их маленькими, земными домиками, названные несколько по-звериному, иронично «конурками», Его жизнь продолжается там, в заоблачной дали, в космической пустыне Вечности, где уменьшаются одни и делаются огромными другие, где людские дела проверяются Страшным Судом Христа. В космосе продолжается рождественская история, история Христа, шагающего, может быть, в другую галактику:
Там жизнь продолжается, так как века
одних уменьшают в объеме, пока
другие растут – как случилось с тобою.
Там бьются фигурки со снежной крупою,
и самая меньшая пробует грудь.
И тянет зажмуриться, либо – шагнуть
в другую галактику, в гулкой пустыне
которой светил – как песку в Палестине.
(3,205) («Presepio») (декабрь 1991)
Прелесть стихов Бродского в человечности, в его взгляде на рождественскую историю простого землянина и христианина, в том, что читатель оказывается в духовном, метафизическом измерении, в вифлеемском небе Христа. Бродский помогает читателю увидеть евангельскую историю в новых красках, с метафизической высоты. Читатель благодаря Бродскому может «потрогать фольгу звезды пальцем», прикоснуться к мифу, проникнуться абсолютным уютом земного праздника, почувствовать непугающую высоту того подлинного Бога, которого Бродский видит над обывательским, простонародным, глиняным Христом. В своем стихотворении Бродский расширяет царство Бога до колоссальных, галактических, вселенских размеров. Как на иконе, которая соединяет фигурку Младенца Христа и Христа выросшего, так и в стихотворении представление человечества о мальчике Христе соседствует с авторским взглядом на Христа, шагающего в соседнюю галактику, в гулкую космическую пустыню. Название стихотворения символично. Оно указывает на итальянский художественный, живописный или иконографический источник, побудивший поэта к созданию текста: «Presepio» – ясли (итал.) человечества, колыбель христианства.
В 1993 году Бродский написал рождественские стихи, которые в собрании его сочинений приведены как стихи Марине Басмановой, с инициалами М. Б. В указателе В. Полухиной и Лосева они даны как стихи, обращенные к Маше Воробьевой. Это стихи – напоминание о чуде – чуде неизменности любви. Композитор Борис Тищенко познакомил Бродского с Мариной Басмановой 2 января 1962 года, в новый год, может быть, поэтому Бродский соотносит прожитые годы жизни с этой любовью, прошедшей через всю его жизнь:
Что нужно для чуда? Кожух овчара,
Щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.
И чудо свершится. Зане чудеса,
к земле тяготея, хранят адреса,
настолько добраться стремясь до конца,
что даже в пустыне находят жильца.
А если ты дом покидаешь – включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена.
(4,16) («25. XII. 1993»)
Чудо – в сохранности чувства, в сбереженности памяти о пережитом душевном опыте. Для чуда нужно совсем немного, пишет Бродский, намеренно используя простые слова, обозначившие «крохи», «пригоршни», из которых складывается его человеческая жизнь и история христианства. Его чудо бытия складывается из памяти о прошедшем, из связи настоящего, прошлого и будущего, ему для чуда нужны Пространство и Небо, слова лирики и душа той, кого он вспоминает как адрес чудо-стихотворений. Сохраненный адрес – связь между Прошлым и Будущим. В упоминании адреса нам видится отклик на строки Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» («Петербург, у меня еще есть адреса, / По которым найду мертвецов голоса»). В стихотворении Бродского 12 стихов, и это символично. Оно представляет собой как бы модель года и должно длится, как год, до нового Рождества. Стихотворение магически действует на читателя. Сам трехсложный амфибрахий вызывает ощущение кружения: кружения метели? кружения мысли? И вопрос, которым начинает Бродский, представляет собой импульс, благодаря которому стихотворение движется вперед. «Что нужно для чуда?» – в первой строфе. «И чудо свершится» во второй как бы отвечает на вопрос, утешая адресата. Стихотворение читается как бы в двух направлениях: в устремленности к той, к кому обращается Бродский, и как рассказ о поэте. Его героиня – жилец в пустыне, которого ищет чудо Рождества, и автор – странник-поэт, который испытывает ощущение чуда в пустыне американского многолюдного бытия. Слово «пустыня», кочующее из стихотворения в стихотворение, обозначает пустыню земного пути поэта. Бродский не был в тот момент пустынно одинок, но в стихах все-таки говорит об одиночестве. Даже в конце жизни поэт ощущал эту пустыню вокруг себя, был сиротлив, как всякий поэт, как одинок Творец Вселенной, создавший человека – свое подобие. Чудеса, считает Бродский, тяготеют к земле. По мысли Бродского, мы сами создаем чудеса своей верой и любовью. Звезда на прощанье, о которой пишет Бродский в этих стихах, – чудесная звезда Вифлеема, электрическая звезда лирики, звезда поэзии, которую он включил для всех нас навечно…
В декабре 1994 года Бродский написал еще одно рождественское стихотворение, не отмеченное датой Рождества, но по настроению именно рождественское, обращенное к замечательной пианистке, Елизавете Леонской, с которой Бродский познакомился в июне 1986-го, во Франции. «В воздухе – сильный мороз и хвоя…» – полушутливые, ироничные стихи, призыв не падать духом, напоминание о вере в Бога и в себя; очень русские стихи, которые открываются картиной русского мороза, ватных, меховых одежд, упоминанием северного оленя и сугробов:
В воздухе – сильный мороз и хвоя.
Наденем ватное и меховое.
Чтоб маяться в наших сугробах с торбой —
лучше олень, чем верблюд двугорбый.
(4, 21)
«Жизнь под открытым небом» – жизнь тех, кто живет вдали от родины и чувствует свою отверженность. Вера Бродского в Бога – вера вне страха, не такая, как «на севере», где Бог – нечто вроде острожного коменданта. И не такая, как на юге, где вера в Христа – вера в свободного, беглого Бога, который воспринимается нарушителем, взрывателем общественных законов. Для Бродского Бог – возможность жить «под открытым небом» Искусства, сила, позволяющая быть по-настоящему свободным от государственных, территориальных, идейных догм. Эта вера помогает Бродскому оставаться между Севером и Югом, на своей территории – территории Неба, территории Поэзии:
На севере если и верят в Бога,
то как в коменданта того острога,
где всем нам вроде бока намяло,
но только и слышно, что дали мало.
На юге, где в редкость осадок белый,
верят в Христа, так как сам он ― беглый;
родился в пустыне, песок-солома,
и умер тоже, слыхать, не дома.
Помянем ныне вином и хлебом
жизнь, прожитую под открытым небом,
чтоб в нем и потом избежать ареста
земли – поскольку там больше места.
(4, 21) (декабрь 1994)
Последнее рождественское стихотворение Бродского, «Бегство в Египет» (2), созданное в 1995 году, существенно отличается от первого «Бегства в Египет», написанного в 1988 году, где основным мотивом был мотив чуда. Еще одно отличие: в первом стихотворении младенец не ведает о своей роли, во втором – знает, но молчит. Эти рождественские стихи написаны как будто о себе, о своей Марии, о своем втроем: 9 июня 1993 года родилась дочь Бродского, Анна Мария Александра. В 1995-ом ей два с половиной года. И опять, рисуя вечную картинку, Бродский пишет ее как бы с натуры: «пахло соломою и тряпьем», «Мария молилась; костер гудел», «Младенец, будучи слишком мал, чтоб делать что-то еще, дремал». И опять, как бы поверх земной жизни, «звезда глядела через порог». Бытие младенца дано, как в иконописи, в двух ракурсах: это и младенец, и взрослый, молчащий Христос:
Звезда глядела через порог.
Единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд ее означал,
был младенец; но он молчал.
(декабрь 1995)
Наверное, важна для Бродского тема говорения-молчания, как тождество речи Поэта. Говорение как сотворение мира, говорение как ответ этому миру, объяснение его. Младенец как молчащий стих Отца. Так же символична в стихотворении тема рождественской песочной метели («Молола песок метель»), аналог будущего хлеба Господня. И рядом – тема Ирода, мотив вечности зла, вечной угрозы расправы, но, вопреки всем лихам, тревогам и страхам, защита Господня передана в образе дыма, устремляющегося не в пещеру, а в дверной проем, чтоб не тревожить святое семейство. В стихотворении Бродского все действующие лица именно лица, живые вещи: и пещера, и дым, и мул, и вол, и звезда. Вся картинка пронизана уютом и ощущением защиты. Наверное, когда Бродский писал эти стихи, он чувствовал домашний уют своего дома, и ему хотелось, чтобы это ощущение осталось навсегда:
Спокойно им было в ту ночь втроем.
Дым устремлялся в дверной проем,
чтоб не тревожить их. Только мул
во сне (или вол) тяжело вздохнул.
Стихами о Христе-младенце он писал картину своего – и всечеловеческого семейного счастья. Это было его последнее Рождество.
2011
«Поэзия, следи за пустяком…»
Александр Кушнер
29 июня 2001 года. Книжная ярмарка на Манежной площади. Брожу вдоль рядов с книжками. Много участников, мало посетителей. Объявление по радио о встрече с поэтом Александром Кушнером. Иду по направлению к указанному издательству, думая найти толпу почитателей. Наверное, поэт будет читать стихи? Стоит сконфуженный Кушнер, рядом с ним – довольный и уверенный в себе издатель. Столик с книжками издательства «Прогресс-Плеяда».5151
(Александр Кушнер. Стихотворения (Четыре десятилетия). М.: Прогресс-Плеяда, 2000. 288 стр).
[Закрыть] И – ни души. Огорчаясь за поэта, чувствуя его смущение (стоит и ждет, когда кто-нибудь купит его книжку, даже не ждет, а просто вынужден стоять здесь из-за выдумки устроителей ярмарки), покупаю прекрасно, кстати сказать, изданную книжку. Издатель – – мне: «А теперь надо взять автограф у автора». Кушнер, стесняясь, как школьник, как автор, который издал первую в жизни книгу: «Но может, человеку совсем не нужно?!» Я, никогда не берущая автографов, сознавая всю ложность ситуации для поэта: «Ну почему же?» Кушнер надписывает книжку. 5252
Забавная подробность: вместо моей фамилии А. С. Кушнер надписал: «Елене Эйзенштейн на память о книжной ярмарке 2001 г в Манеже сердечно А Кушнер 29 VI 2001 г.», соединив меня со знаменитым кинематографистом: «Какая у Вас фамилия!»
[Закрыть]У него удивительно светлый и даже лучистый взгляд и прекрасная улыбка.
Знакомлюсь с новым сборником поэта. В книгу вошли стихи Кушнера из двенадцати книг за четыре десятилетия. Поэт мысленно назвал его «Decima». Кушнер – очень цельный поэт. Можно сказать, да не обидится на это автор, что он практически не менялся за сорок лет творческой судьбы. Я имею в виду верность Кушнера тому, что составляет для него предмет и сущность поэзии: «Поэзия, следи за пустяком, / Сперва за пустяком, потом за смыслом»5353
Вероятно, «пустяк» – это намеренная цитата из Гёте: «Ведь мало кому приходит на ум, что иной раз сущий пустяк побуждает поэта создать прекрасное стихотворение. И. П. Эккерман. „Разговоры с Гёте“. М., 1986. С. 310
[Закрыть]. Во внимании к пустякам, в интересе к незначительным, с точки зрения обывателя и не поэта, вещам – весь Кушнер. Нисколько не стесняясь, он отождествляет себя с рюмочкой в шкафу: «Я – чокнутый, как рюмочка в шкафу / Надтреснутая!» Для него – «вода в графине – чудо из чудес»; паучок на балконе, трудящийся над паутинкой, – почти брат. Подобно паучку, сам поэт – «бесполезное» и беззащитное существо, наводящее «оптический чудный прицел» на неприметные черты быта. Автор воспевает велосипедные прогулки, «холмистый, путаный, сквозной» Павловский парк и «голос в трубке телефонной», ночную бабочку, уснувшую на лацкане пиджака, и свою мечту о письме любимой женщины. Предметы, божества поэзии замечаются всюду. Кушнеру дороги все земные явления, и он боязливо сетует на то, что «в раю, увы, едва ли / Бывает дождь». Для него любое посмертие печально, оттого что жизнь ему представляется необыкновенно прекрасной: «…куда бы ни попали / Мы после смерти, будет как зимой: / Звук отменен, завален тишиной». Если вспомнить цветаевскую мысль об иерархии небес, то Кушнер, безусловно, живет не выше первых. Он любит землю и поэтизирует именно то, что видит внизу. Поэт «не отдаст недуг сердечный», способность восхищаться миром, страдать от желания выразить его прелесть, тосковать и горевать по вполне повседневным поводам, «страх за ближнего, дрожь и смятенье» за мир нечеловеческий – мир вечного мая, цветения и бесстрастия:
Он и не мыслит счастья без примет
Топографических, неотразимых.
Душа у Кушнера не только «тучка, ласточка», но и «вся – дрожь, вся жар она, вся – бред». Поэт считает себя вполне мирским существом, родственным людям, а вовсе не ангелам, от которых в недоумении отворачивается:
Она на пальцах у меня,
На животе, на языке,
И ангелы мне не родня!
И там, где влажного огня
Мне не сдержать, и на щеке.
Несмотря на эту близость дольнему, он восклицает:
Поэзия – явление иной,
Прекрасной жизни где-то по соседству
С привычной нам, земной.
Искусство рождается там, где меньше всего мешает «взгляд державы», то есть ближе к природе, к бабочкам и осам, в траве, под ногами. Музыкой должно стать то, что бесполезно прекрасно. Искусство – своеобразный щит, которым Кушнер заслоняется от несообразностей эпохи и страны, в которой живет.
«Не так ли мы стихов не чувствуем порой, / Как запаха цветов не чувствуем?» – спрашивает поэт. По мнению Кушнера, «все знанье о стихах – в руках пяти-шести, быть может, десяти людей на свете». Все знанье о стихах – в руках поэтов, а не критиков. Себя Кушнер видит в ряду этих знатоков. Ему обидно за читательское незнание любимого Батюшкова, и в то же время он не хочет разглашать тайну: «Тверди, но про себя его лазурный стих, / Не отмыкай ларца, не раскрывай копилки».
Отношение к Богу у Кушнера несколько изменилось в течение жизни. В шестидесятые он гневно отрекался от Бога, допускающего убийство детей: «Один возможен был бы бог, / Идущий в газовые печи / С детьми, под зло подставив плечи, / Как старый польский педагог». Позднее полное неприятие «вашего бога» сменилось пониманием творчества, добра и красоты Божьими приметами. Нынешний А. Кушнер ощущает Бога через любимые в жизни явления: «Я рай представляю как подъезд к Судаку». В одном из лучших стихотворений книги «По рощам блаженных, по влажным зеленым холмам…» Кушнер рисует свое восхождение в иной мир «за милою тенью» через воспоминание о земле, на которой побывал ребенком:
Монтрей или Кембридж? Кому что припомнить дано.
Я ахну, я всхлипну, я вспомню деревню Межно
Куда с детским садом в три года меня привезли, —
С тех пор я не видел нежней и блаженней земли.
Для него Бог «не в церкви грубой», а «над строкой любимого стиха, и в скверике под вязом». Обретение Бога, по Кушнеру, возможно в сочувствии и сотворчестве. Человечество лепит Бога своими делами. Поэт убежден, что душа – это «то, что мы должны вернуть, умирая, в лучшем виде». Стихи – такой возврат поэта если не Богу, то родной Земле.
Мысль о посмертии сопряжена у Кушнера с надеждой на встречу с душами любимых им художников, мыслителей, обыкновенных людей:
Нет ли Бога, есть ли Он, – узнаем,
Умерев, у Гоголя, у Канта,
У любого встречного, – за краем.
Нас устроят оба варианта
Кому-то из читателей такой «заземленный» взгляд поэта может оказаться не по душе. Но на всех не угодишь, а Кушнер меньше всего думает о каких-то канонах в этой области. Он настолько любит жизнь, что требует от иного мира наличия всего дорогого ему, узнанного на земле. Ему нужны в вечных рощах грибные дожди, и «мята, и мед, и, наверное, горе и мгла», нужна полнота душевного бытия в скорби и в радости.
Кушнер размышляет о своем месте в современной поэзии. Ему претит роль классика, он не желает «стоять на шкафу бессмысленным бюстом, топорща ключицы»; с иронией наблюдает, как иным «хочется под потолок». Мысли о возможной славе не соблазняют поэта:
О слава, ты также прошла за дождями,
Как западный фильм, не увиденный нами,
Как в парк повернувший последний трамвай, —
– Уже и не надо. Не стоит. Прощай!
И все же не может не думать о подведении итогов. Что останется в грядущем от его творческого труда? «Памятником» Кушнера звучит стихотворение «Там, где весна, весна, всегда весна, где склон…». Поэт с чуть заметной иронией думает о том, какую премию присудит ему бог поэтов. Своей заслугой Кушнер называет «не похожие ни на кого мотивы», самобытный взгляд на мир и то, что он сумел воспеть, вопреки хищному веку, «скатерть белую … с узором призрачным, как водяные знаки» – зыбкую красоту, чья ценность заметна только при разглядывании с пристрастием. Кушнер дорожит художнической независимостью, видит своей творческой заслугой верность тому, что не весит:
…музыку, как воду в решето,
Я набирал для тех, кто так же на отшибе
Жил, за уступчивость и так, за низачто,
За je vous aime, ich liebe.
В последнем стихотворении сборника Кушнер, одаренный способностью писать о любви к тому, что, как вода, убегает сквозь решето повседневности, с грустью замечает, что стихи – «архаика», что на смену поэзии пришла проза. Так ли это? Действительно ли третье тысячелетие не соединимо «с ямбами»? Хочется верить, что прозе жизни никогда не победить поэтического взгляда на мир, тех милых пустяков, из которых слагается «песня, одетая в дрожь».5454
Впервые//Нева, 2001, №10.
[Закрыть]
2001
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?