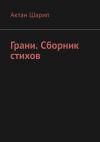Текст книги "Из моей тридевятой страны"

Автор книги: Елена Айзенштейн
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Образ шитья нового сердца как одежды, которую можно бросить к ногам Христа, звучит в цикле «5 этаж»7575
Посвящено Михаилу Шварцману.
[Закрыть] («Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги…»). Подобно Марии Магдалине, вытерший стопы Христа своими волосами во время Тайной Вечери, поэт, в одеждах стихов несет Христово страдание, воспринимает себя материей, по которой окровавленными ступнями прошел Спаситель: «Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги, / Когда Он шел с крестом по выжженной дороге, / Потом я сердце новое сошью». Стих поэта, несущего в сердце свет христианского чувства, как плащаница, впитал в себя страдание Христа, «пыль его ступни», «и тень креста», он и есть строитель внутригрудного Ерусалима души:
Есть все: тень дерева, и глина, и цемент,
От света я возьму четвертый элемент
И выстрою в теченье долгих зим
Внутригрудной Ерусалим.
(из сб. 1978 г.)
Е. Шварц воспринимает мироздание через его словесные эквиваленты: «мир есть только слово, / Но трудно – длинное! – прочесть все целиком» («Лоция ночи»). Жизнь недалеко от центра Петербурга – пребывание вне времени, в Ерусалиме Слова. В пейзажно-метафизических стихах последней книги закат над Обводным каналом воспринимается границей со страной «неведомого счастья, упоенья», с миром иным, в который не торопится поэт, жалея о «милой» жизни («Обводный канал»). Лирическая героиня Е. Шварц постоянно существует в каком-то пограничном мире, в котором она видит как бы две стороны жизнебытия, неслучайно у нее возникает такое понятие, как смертожизнь («Элегия на рентгеновский снимок моего черепа»), а мотивы нового и старого платья как аналога смертожизни звучат в стихотворении «Великий Вторник», посвященном матери поэта, Дине Шварц. Шкаф с мамиными платьями – образ материнского присутствия после смерти: «Ино мне кажется – ты долго, / Годами выбираешь платье / В той душной тьме, но выйдешь вдруг / Вся в новом, скажешь: «Вот опять я» (цикл «Дни Страстной»). Мотивы шелкового платья души, тяжести любви к образу духовного двойника («Тяжело любовь к себе нести») звучат в цикле «8 этаж». В стихах последней книги тело – «атомов стадо», «вече багровое» – всего лишь оболочка, взятое напрокат платье, которое подобная «божественному ветру» душа уже готова скинуть с себя, как помеху, не собираясь оставаться верной. Момент смерти представляется Е. Шварц расставанием души с одним телом и вторжение в новое («Не предаст меня тело коварное…», 2008).
В одном из стихотворений Е. Шварц говорила, что хотела бы спеть Богу, чего он не слышал. Это признание подсказывает: именно Бог, скрытный, таинственный, какой-то бог-ребенок, играющий с нами в прятки, и есть адресат стихов Е. Шварц: «Ты разве с нами так договорился? / Ты не искал, / Ты спрятался. Ты скрылся! («Игра в прятки»). Бог не соперник, а товарищ поэту: «Со мною спрятался… / И нас не отыскали»; Он тот, с кем нужно сразиться, помериться силами, ждет на другом берегу неба, вызывая Поэта на поединок («Тот, кто бился с Иаковом…»). Вариация традиционного библейского образа двери как встречи с Богом дается Е. Шварц новым видением поворота ключа смерти в скважине двери: «С этой стороны отворяет любовь, / А с той – это смерти ключ». Еще один архетипичный образ, обозначивший сложность существования Бога и его творения становится центральным в стихотворении «Моисей и куст, в котором явился Бог», где Бог представляется гомункулом в реторте («Фауст» Гёте), только ретортой оказывается земной шар, уподобленный то ли животу беременной женщины, то ли животу кита, в котором оказался пророк Иона, плывший в Ниневию, столицу Ассирийского царства: «О Боже – Ты внутри живого мира / Как будто в собственном гуляешь животе. / В ужаснувшемся кусте / Пляшут искорки эфира». Образ Бога далее трансформируется в терновый куст неопалимой купины: «по осени он цвел дождем» и «сыпью розоватой по весне», «теперь осыпан, как во сне». Поэт размышляет, чего ждет «Бог Авраама, Бог Иакова, Творец и крови, и Венеры», от человека, потомка Моисея:
Тебе не надо светлой Авеля
Души, Ты ищешь не любви, а веры,
Но только внутреннюю силу…
Вот Моисей – он прям и груб,
Его, конечно, до рожденья
Уже Ты пробовал на зуб.
(«Моисей и куст, в котором явился Бог»)
Бог Елены Шварц напоминает человека, который может совершить опрометчивый, разрушительный поступок; и Богу нужна поддержка ангелов, чтобы «творенья не спалить». Он, совмещающий в себе черты ветхозаветного и новозаветного Бога Иакова и Моисея, которого Бог «пробовал на зуб», проверяя на прочность, соединяет последующую историю Моисея и младенца Христа, для которого человечество – проверка сил (зубов), испытание собственной мощи.
Приходит Ангел – он садовник,
Он говорит, стирая пыль с куста:
Расти, расти, цвети, терновник,
Еще ты нужен для Христа.7676
http://www.reshma.nov.ru/alm/poezia/shvarts_stihi.html Возможно, Е. Шварц вспоминает поэму «Новогоднее», обращенную к Рильке, где Цветаева называет Бога растущим и уподобляет баобабу: «Не ошиблась, Райнер, Бог – растущий / Баобаб?». Цветаева М. Стихотворения и поэмы. СПб., 1990, с. 573.
[Закрыть]
В финале стихотворение – образ терновника, в который превращается куст-бог, напоминающий о Христовых страданиях. У Е. Шварц Бог – пустой сосуд, который должен наполниться влагой; Ангел-садовник, выращивающий неопалимую купину, великий Моисей, через которого явлен миру Ветхий завет, предтеча Христа. Терновый куст – «образ … души негрубый», символ распятия, все сожигающего, но не убивающего небесного огня («Неопалимая Купина», цикл «Дни Страстной»), образ души человеческой и угля уст, о котором Пушкин писал в «Пророке». Этот неопалимый куст «нам выцарапал Бог / На яблоке глазном ума». В метафоре «глазное яблоко ума» Е. Шварц актуализирует фразеологизм «выцарапать глаза», используемый в значении не отнятия, убивания, а в значении дарения, рисования, подобно японскому акварелисту. Неопалимая купина – образ вечного небесного огня и архетип страдательности жизни и творчества, подаренный человеку Богом.
«Перепутала себя со Вселенной»
Заглавие стихотворения «Земля товарная» возникло по аналогии с названием станции при подъезде к Москве – «Москва товарная». Можно сказать, Елена Шварц живет на станции «Земля товарная», потому что все время пишет не о земном бытии, а о духовном, творческом существовании. Поэт сокрушается, что «далеко до рая», что нельзя оказаться в лунном мире, откуда пошло человечество, живущее псалмами, стихами и музыкой. Слова о звездном небе для Е. Щварц полны особенного смысла. Из всего, что написано на бумаге, из всего, что написано нотами, из всего, «чем память набила мешок», ей было жаль «слова о звездах» (1989). В поэзии Елены Шварц мы не только наблюдаем любовь к звездам. Она видит себя сродни им и говорит о звездах, как о своих братьях: «Сей ночью подержись, не падай, брат»; «Теснясь, толкаясь, / Звезды высыпали на работу, / Вымыты до боли, на парад» (1, 326). Звездные, космические образы как бы в одном и том же лексическом ряду с образами лирической героини, и она в ночном полувидении, полусне оказывается частью движущихся космических тел:
В чреве ночи проснувшись,
В рубахе ветхой и тленной,
Я на миг – о, на длинный миг —
Перепутала себя со Вселенной.
(«В чреве ночи проснувшись…»)
Поэт видит себя загадочным иероглифом на небесном листе звездного неба, столь же огромным, как мифологическое чудовище или древнее божество: «Лишнее выросло: крылья, копыта, рог ли? / И макушку дергает тик – / Вот теперь я живой иероглиф / Разбегающихся галактик» («В чреве ночи проснувшись…»). Такое родство с космосом иногда тяжело для лирической героини, и ей хочется снова стать маленьким человеком, вернуться из мира больших зверей-созвездий: «Скорей, скорей в свои границы! / Я в звездной задохнусь пыли. / О, снова бы мне поместиться / В трепещущую под тряпицей / Крупинку на краю земли!» (1997) 7777
http://omiliya.org/article/elena-shvarts-stikhi.html
[Закрыть](1, 357) Пристанищем поэта оказывается то ли земная постель, то ли тетрадное поле. В цикле «7 этаж. Влияние Луны» Елена Шварц пишет о своем ощущении ужаса красоты, который связан для нее с картинами звездного неба, притягивающего и отталкивающего: «Я вижу павших звезд хлысты, / А эти – слившись лбами – кружат. / Обваривает сердце ужас, / Печальный ужас красоты». («Зимние звезды». №1.) Звезды уподобляются скользкому винограду, драгоценным камням и слезам, а планета тоже видится слезой, которую роняет поэт. В такой преуменьшенности звездной жизни, в очеловеченности ее, – родство небесных тел с поэтом, вдруг становится огромным, подобным планете:
Репейником кольнув, Юпитер
Горячий из-под века вытек,
И раздроблённою слезою
Слепой забрызган небосвод.
В стихотворении «О небо! Небо! Грустно мне!…» звездное небо замечательно уподоблено столовому, начищенному к торжеству серебру:
О небо! Небо! Грустно мне!
И вот ты вынесло, умильное,
И выставило на окне
Все серебро свое фамильное.
(«Лоция ночи», №73)
Поэту представляется, что Бог скрыт в его душе, спит в ней, и надо не потревожить его сон, не оскорбить словом: «Я НЕ УНИЖУ СПЯЩЕГО ВО МНЕ / ОГРОМНОГО СИЯЮЩЕГО БОГА» («8 этаж»). Вариация общения с Богом – видение ангела («Гость залетный дорогой»), спутника и двойника поэта в мирах иных, дорога вдвоем с ним – временная колея, проводы «до кометы золотой». Слово обозначает звездный, космический путь, который предстоит душе, откликающейся и на небесные, и на земные зовы: «Погостил – и проводи / До кометы золотой». В поэме «Луна без головы» (1987) (заглавие возникло под знаком детства и романа «Всадник без головы») поэт – «сестр» Луны, отправляющийся с ней на «комический парад планет»: «Окликнет кто-то: Луна! /И падаем мы в ад». «… – я тело верну и сращу / И забинтую шею своею кровью. / Вот и ищет она меня, / И прыгаем в конце концов – / В смурное облако – она, / Я – чрез табачное кольцо» (2, 150—151). Луна названа Селеной (в этом имени фонетическое созвучие с именем Елена), лирическая героиня видит себя не землянкой, а колхозницей Юпитера, куда возила вместе с Музой «хлеб на Юпитер на экспорт». Ироническое «колхозница» связано с ремеслом поэта; своим идеальным читателем Е. Шварц считает Юпитер. Луна «сестрой милосердия вечной» ходит и спасает землян, жалкого лунатика-поэта, воспринимающего лунный свет пуповиной, отделяющей от матери Луны. Автор показывает трагизм их разлучения: «Мне больно, Луна, а тебе не больно» и выражает готовность пожертвовать головой ради своей Лунной половины: «Когда-нибудь я брошу свою головенку / На футбольное поле – играй». Луна – Бог, которого «глотает» поэт, и небесный, свободный его двойник: «Ее двойник одет, она – нага, / Цыгана лик, сама себе серьга» (2, 151) 7878
Вероятна связь этих стихов с образом цветаевской Царь-Девицы (поэма «Царь-Девица»), у которой тоже только одна серьга, знак ее планетной парности с Царевичем: Айзенштейн Е. Сны Марины Цветаевой. с. 161.
[Закрыть]Поскольку Луна – сестра, можно поменяться с ней головами и взять себе Луну, сияющую, как рай. Поэма завершается образом скорбной Луны. Возможно, Луна воспринимается дверью, ключами от рая, поэтому Е. Шварц вспоминает Апостола Петра, гремящего ключами: «И связкой золотой / Гремит апостол Петр». Луна живописуется местом истинного бытия поэта, чудовищем, которое захватывает душу, впиваясь в него когтями в стихотворении «Сомнамбула»:
Были вроде понятья – совесть и честь,
Как заржавевшей краски опилки на дне,
Меня манит туда, где покато и жесть
Я не здесь, я давно уж не здесь – я в Луне.
Поэт-лунатик видит в России подобие лунной, метафизической родины: «Что же делать лунатикам русским тогда – вам и мне? / Вспоминая Россию, вспоминать о Луне» (1, 199). Политики в стихах Елены Шварц практически нет, но вот в стихотворении «Заплачка консервативно настроенного лунатика» звучит грустная ирония по поводу распада СССР: «Я боюсь. Что советская наша Луна/ Отделиться захочет – другими увлечена,/И съежится все потемневшая наша страна» (1, 199).
Нравился Елене Шварц миф о Диоскурах («Кольцо Диоскуров»). Видение двух воробьев на асфальте («венок живой из воробев тяжелых», «птичье кольцо живое») становится толчком к воспоминанию об абсолютно преданных друг другу братьях, Касторе и Полидевке, менявшихся местами в Аду, поводом к рассказу о себе и воображаемом бессмертном двойнике, «легком» и «лучшем», чем сама земная «сестра», который выведет ее из преисподней. Таким образом, в стихотворении «Кольцо Диоскуров» Елена Шварц фактически возвращается к теме Орфея и Эвридики, к теме выведение одним героем другого из преисподней, которая интересовала ее в стихотворении «Орфей». Но если тема Орфея и Эвридики вызывает мысль о роковой невозможности подобного возвращения, миф о Диоскурах дает надежду на спасение:
…Выведешь из Преисподней
Ты самого себя
Верю я – мы сольёмся
Как два воробья на асфальте
Как Диоскуры в полёте.
(«Кольцо Диоскуров»)
В «Инопланетной астрологии» (7 июля 2008) Елена Шварц смотрит на землю глазами астрологов Марса или Венеры, откуда-то из космоса, и ей представляется, что наша Земля должна восприниматься со стороны как «недобрая звезда». Земля уподоблена слезе из-под невидимого века, словно глаз гигантского страдающего чудовища. Поэту кажется, что от нашей Земли исходят пять лучей (вероятная аналогия – пятиконечная кремлевская звезда), подобие шипов (тернового куста?), как бы прообраз человечества, населяющего планету. У инопланетного (лунного) астролога Земля должна соотносится с Сатурном или с Ураном. Сама Земля, как иноземный астролог, не думает о человечестве, когда перемещается в пространстве, когда «восходит в новый дом». Со времен древнего Вавилона, астрологи делили жизнь на различные сферы, считали, что наше путешествие по жизни состоит из множества видов деятельности и эмоций, работы, честолюбия, надежд, снов и отношений. Вавилонские астрологи выделили двенадцать сфер жизни или домов (современное определение дома – «арена экзистенции») 7979
http://www.astrologic-cafe.ru/92.html.
[Закрыть]У Елены Шварц дом – символ космического пути Земли, ведущей жизнь, не зависящую от жизни призрачных, малозаметных, надменных землян. Человечество гордится своими делами, домами, которые для инопланетной астрологии всего лишь призраки. Люди слишком мелки для звезд, дарящих «судьбу» и «реальность». Стихотворение «Инопланетная астрология» трехчастно, трехстрофно. 1 строфа – инопланетный взгляд на Землю, 2 строфа – взгляд перемещающейся Земли в ее звездное небо (дом), 3 строфа – взгляд на перемещения дальних звезд как на источник перемен в нашей судьбе. Земля – «недобрая звезда», чьи перемещения и шипы – «как бы прообраз человека», его мрачности и холодности. Движение планет, уподобленных кораблям, ходящим в «дальность», дает человечеству свет, надежду, жизнь и судьбу. Вероятно, в своих стихах о звездах Е. Шварц вспоминает М. В. Ломоносова, поэта и эмпирика, его стихи о звездном небе.
Луна воспринимается Е. Шварц «зеркальцем» «над террою», отражением неложного образа Земли («Зеркальце Луны»). Земля как будто не хочет видеть своего правдивого лунного отражения: «Глаза Земли отведены». Вероятно, отношения между Луной и Землей для Е. Шварц были прообразом отношений между человеком и его Ангелом в космосе. Вселенная, в представлении поэта, подобна большому космическому взрыву и прорастанию цветка из почки. Рождение, творчество сродни проклевыванию космического яйца. Человек – «скотина», которую пасет бог. Если в первом стихотворении цикла «Рондо большого взрыва» бог – Садовник, то во втором бог – пастух, а поэт катится в эмбрион, обратно в яйцо, к сотворившему его Отцу («Поэт»). Галактики изображаются подобными табунам Пегасов, коням поэтического вдохновения; Время видится свитком Торы («Время свернется как свиток»). В стихах «Рондо большого взрыва» Елена Шварц выражает мысль, что когда-нибудь Вселенная вернется в ту точку, которую она покинула когда-то, а не разлетится в тартарары. Поэт высказывает мысль, что в грубой плоти (глине) человека томится сохраненная сердцем «Античастица духа», зерно, чуждое скрупулам глиняного начала, родственное звездной, беспланетной пыли. Поэт думает о космических косточках человечества, о его детстве («лунная сыпь»), о том, как детей света поглотила «болотная плоть» тьмы («Алхимия духа»), а все человечество сохранило «блёстку» в зрачках, поглощенный свет звездного происхождения («Прохожий»). Может быть, задается вопросом поэт, первый взрыв, с которого началась жизнь нашей Вселенной – это был взрыв Голоса? И в начале было не Слово, а Голос? Божественным вокализом видит совершенную жизнь Е. Шварц, а все, что ей противостоит, – хрипотой костного мозга вещества. Тело – «электронный саван» человеческого, космического «я». Космос изображается Шварц как Исход, путь невидимого Моисея вместе с человечеством из рабского, болотного, мутного Египта-плена «в точку нетленную». «Одно хорошо – в ней повсюду есть выходы» – Вселенная дается Е. Шварц как сияющий, поющий мир со множеством дверей (выходов). Смысл этого пения и сияния сегодня может быть неясен, не будет ясен, пока человечества, руководимое Никем, не вернется в точку, откуда оно когда-то вышло, в Отца, по идее Каббалы о том, что Бог есть единица, все происходит из единицы и к единице же возвращается.
Е. Шварц полагала, что «один лишь чертеж, / Только замысел созвездия Ориона, – / Доказательство Божьего бытия», – наглядное и стройное свидетельство божьего присутствия в нашей жизни. Стихотворение «Морозная ночь» не о ночи, не о волках, которые могли бы завыть на «всходящего Бога», а об авторской вере в торжество Бога. Таким образом, картина звездного неба, его очертания, его огни, его серебристая красота были для поэта олицетворением Божества.
«Как бы мне себя достроить»
При всем многобожестве Елены Шварц и увлеченности ее мифологическими, дохристианскими образами замечательны стихи, в которых звучит православная и христианская тема, осмысленная в индивидуально-авторских образах и в образах традиционного православия. Во второй день Святой недели, когда «все покачнулось будто в вере» и лирическая героиня ощущает свое неверие, икона Троицы видится птицей с подбитым крылом:
И Троицы на миг крыло
Как бы подбитое повисло,
Ума качнулось коромысло
И кануло на дно весло.
(«Так сухо взорвалась весна…») («8 этаж»)
Елена Шварц любила икону Богоматери-Троеручицы в Никольском соборе. Свою любовь к иконе она объясняла приворотом небесных сил, колдовским, магическим влиянием. Троеручица в Никольском соборе словно живое существо, ищущее любви поэта. В стихотворении «Троеручица в Никольском соборе» слышится почти простонародная интонация, Е. Шварц как бы говорит голосом всех верующих: «Если чего виноваты мы, грешные, / Ты уж прости, / Три свои рученьки темные нежные /В темя мое опусти». (май 1996) (1, 345)8080
Стихотворение впервые опубликовано в кн. «Западно-восточный ветер» (1997).
[Закрыть] Любимо Еленой Шварц слово «ковчег». Для нее не только футляр иконы подобен ковчегу («Синий футляр пресвятой Троеручицы, / Этот лазурный ковчег»), но человек – загадка, клад, ковчег, собрание многих душ: «О, всякий человек – ковчег…». Лирическая героиня Е. Шварц не просто обожжена, она сожжена, ее перестрадавшая душа не огонь, а пепел Клааса.8181
Из книги «Легенда об Уленшпигеле» (1867) бельгийского писателя Шарля Де Костера (1827—1879), слова его главного героя – юного Тиля Уленшпигеля, иносказательное напоминание о погибших и призыв к их отмщению.
[Закрыть] Вина поэта в том, что он пепел, а не огонь. В душе хранятся воспоминания о прошлых жизнях, которые она жила до земной, о ковчеге души, о желании летать; вся эта армия памяти кричит внутри души, разрывающейся на части разными «зверями», а поэт хочет быть «единицей», не хочет распадаться на множество, которое в нем клокочет: «Кричит гиена, дерутся предки, / Топочет лошадь, летает птица, / В сердце молчанье бывает редко, / Они не видят – я единица» («Отростки роговые на ногах —…», «5 ЭТАЖ»). Поэт ощущает гудение в себе голосов предков, которым подобны странная, звериная душа, ревущая нестройная лира. Лирическая героиня Е. Шварц мечтает обрести спокойствие и гармонию: «себя услышать я хочу». Возможно, стремление к единице у Е. Шварц вновь соотносится с кабалистическим учением о единстве Бога. Вероятно, стремление «себя услышать» – потребность ответить самым главным голосам своего «я», борьба поэта со стихией. В стихотворении цикла «7 ЭТАЖ ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ» Е. Шварц уподобила свою душу часовне, которая, вопреки насилию времени, продолжает жить молитвой:
Стою заплеванной часовней,
Нет алтаря и нет икон в ней.
И только ветер в ней шуршит,
Да мышка лапками стучит,
Но служба в ней идет.
(«7 этаж»)
Образ зажженной свечи – символ жизненных и духовных сил, испытаний и страданий пламенной души, неукрашенной, бедной, как часовня, но «служба в ней идет», но жизнь духа продолжается. У Е. Шварц всегда рядом простое, маленькое и гигантское. Вот и здесь мышка и ветер обозначают как бы две стороны поэтического диалога с большим и малым, с жизнью и со смертью. Что касается музыки стиха, замечательно, что последняя строка как бы выпадает из общего напева, звучит остановкой. Мотив самостроительства слышится и в стихотворении «У собора»: «Как бы мне себя достроить, / Как бы мне в себе устроить / Маленький алтарь?» (2001) (1, 426). Дело жизни – возвести словесный храм, словесную церковь («Не из камня, не из древа…», 2009), «…Быть личиной, лакуной, иконой, / Быть молчанием в ухо царю – / Тем, что вышептал мыш из-под трона»8282
Из кн. «Дикопись последнего времени» (СПб., 2001).
[Закрыть]. Поэт – личина, чудотворная икона, то, что не разгадано, не до конца понято, зарыто до срока в несказанном, замолчанном слове. Но подобен поэт и мыши, и моли, он незаметен, и человечеству хочется от него отмахнуться.
Преображение души в творчестве, когда свеча оказывается образом метаморфозы физического переживания в духовное, передано поэтом в стихотворении «Церковная свеча» (2009). Прелесть этих стихов в том, что они зрительно отображают перемену, совершаемую в поэте. Наклон свечи к востоку, вполне реальное наблюдение имеет символический смысл, этот наклон – образ Смерти (Бессмертия)8383
См. стихотворение Цветаевой «Деревья» (27 ноября 1935), где также наклон – символ тяготения к смерти.
[Закрыть] Наклон как отворот от жизни:
Меняя тело на свеченье,
Свой воск на свет исчезновенья,
Как знаменье Преображенья,
От тихого ли дуновенья
К востоку клонится свеча…
(«Церковная свеча»)
Свеча сродни овце Христовой и сокровенному лирическому слову. В последнем четверостишии поэт задумывается уже не о самой свече, а о том, Кто ее зажег, и эта мысль открывает в стихотворении метафизический подтекст: как в храме, можно зажечь свечу, так и в ином мире Кто-то зажигает свечу души человеческой «в безмыслии высоком», не думая о последствиях – о биографии, поэзии, жизни, судьбе. Жизнь видится через образ этой нечаянно зажженной и продолжающей гореть свечи: истаиванье – жизнь, церковная свеча как архетип жизни и смерти.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?