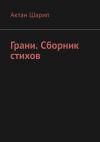Текст книги "Из моей тридевятой страны"

Автор книги: Елена Айзенштейн
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
«Тот, кто бился с Иаковом…»
О стихотворении Елены Шварц «Воробей»
Стихотворение Е. Шварц «Воробей» впервые было опубликовано в сборнике в 1982 году «Корабль».5555
Статья впервые опубликована: //Звезда, 2014, №8.
[Закрыть] В этих стихах Елена Шварц пытается говорить на языке библейского мифа о человеке и его взаимоотношениях с Богом и вспоминает главу из «Бытия» (32; 23—32), о поединке с Богом Иакова. Стихотворение разделено на две части. В первой части лирическая героиня вызывает Бога на поединок:
I
Стихотворение начинается риторическим вопросом: автор словно сомневается, ответят ли тому, чей голос столь тонок и слаб? Бог не назван по имени, как в ветхозаветной традиции, его имя дается через перифразовое определение – тот, кто бился с Иаковом. Длина имени, в котором зрительно воплощена победа Бога, утверждает исход этого странного поединка. Третий и четвертый стихи живописуют былинного героя, выступающего на поле брани. «Честный бой» – это уже не библейское, а наше, русское и богатырское, почти лермонтовское, из «Песни про купца Калашникова». В контексте одного стихотворения автор сводит несколько эпох: первых людей, богатырей русской земли, поэтов 19 и 20 века.
Библейский Иаков стремился помириться с братом. Но Исав не хотел мира. Иаков испугался гнева брата и обратился к Богу отца своего Авраама с просьбой избавить его от руки брата, а также отправил Исаву богатые дары. Иаков думал, что ему придется сражаться с Исавом, но помериться силами к нему вышел сам Бог. Иаков перешел вброд реку Иавок, перевел семью через поток, а затем, перед поединком, известным как сражение с самим Богом, «остался Иаков один». Отсюда строка Елены Шварц «Я одна. Я один», изображающая превращение лирической героини в Иакова. Два берега библейской реки между Иаковом и Исавом в стихах Е. Шварц преобразились в два берега неба. Так в стихотворении задается пространство – метафизическое место сражения.
Возвратимся к тексту Библии: «И боролся Некто с ним, до появления зари; И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним» (Б.: 32; 25). Поединок Иакова с Богом не окончился победой Бога. Как говорится в ветхозаветном тексте, Бог попросил Иакова отпустить его: «И сказал: отпусти Меня; ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» (Б.: 32; 26—28). Перемена имени в стихотворении Елены Шварц отражается во множественности «имен» лирической героини: воробей, мышь, Тохтамыш. Елена Шварц идентифицирует себя с птицей маленькой, невзрачной, невидной, некрупной. По цвету воробей напоминает мышь, то ли ползущую по земле, то ли летящую по воздуху. По сравнению с гласом Божьим голос поэта – только писк, воробьиный, мышиный. На вопрос Иакова об имени Того, с кем ему довелось сражаться, Бог не дал ответа: «на что ты спрашиваешь о имени моем?» (Б.: 32; 29). Этот мотив отразился в пушкинском стихотворении «Что в имени тебе моем…»:
Но в день печали, в тишине
Произнеси его тоскуя,
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я…
У Елены Шварц не Бог, а сам воробей вызывает сражение. Тема богоборчества, таким образом, претворяется Е. Шварц по-своему. Ее стихотворение, помимо библейского источника, содержит интертекстуальный «поединок» со стихами Марины Цветаевой, в частности, само начало стихотворения, «Тот, кто бился с Иаковом», заставляет вспомнить стихотворение Цветаевой 1916 года – «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…», которое, вероятно, обращено к поэту А. Блоку5757
Подробнее об этом: Айзенштейн Е. Сны Марины Цветаевой, 2003. с. 97—98.
[Закрыть] и тоже содержит мотив богоборчества и даже мотив ноги, идущий из истории об Иакове (поврежденное бедро): «Оттого что я на земле стою лишь одной ногой». Есть в нем строки, где Цветаева утверждает свою способность отвоевать любимого «в последнем споре», в споре, подобном Иаковому:
Я тебя отвоюю у всех других – у той, одной,
Ты не будешь ничей жених, я – ничьей женой,
И в последнем споре возьму тебя – замолчи! —
У того, с которым Иаков стоял в ночи.
Стихотворение Шварц было опубликовано в 1982 году, в год девяностолетолетия со дня рождения Цветаевой, и ее «Воробей» – попытка сразиться не только с Богом, но и с самым крупным поэтом первой половины 20 века – в Слове. Лирическая героиня Цветаевой оказывается в той же героической роли, как и героиня Елены Шварц, вызывающая Бога. Еще одна текстовая аналогия для Е. Шварц – поэма Цветаевой «На Красном Коне», где ясно звучит та же тема честного боя со сверхличностью, со Всадником на красном коне:
Посмотрим, посмотрим – в бою каков
Гордец на коне на красном.
(«На Красном Коне»)
Надо заметить, что желание сразиться в небе возникает у лирической героини Цветаевой как ответ на несчастливый сон, о том, что Ангел не любит,, то есть как реакция на недостаточность любви. Любовная тема у Елены Шварц звучит только в одной строке – предпоследней, о приключении. Если у Шварц ее Бог находится в оппозиции к героине как «русский – нерусский», «русские – хан», «множество – единый», то у Цветаевой ее Всадник – дан через оппозицию «красное – белое», он отождествляется для читателя со Святым Георгием и его воинством (таким образом, он скорее родствен героине, чем противопоставлен ей, поскольку святого Георгия изображали и на белом, и на красном коне). Бой, изображаемый Цветаевой, происходит в реальности, прохожей на сон. Место действия – тоже небо. В бою героиня поэмы оказывается побежденной Ангелом (Гением). В цветаевской поэме, как у Шварц, заметно колебание в отрицании пола: «Дитя моей страсти – сестра – брат – / Невеста во льду – лат!» У Шварц: «Я одна. Я один» – отказ от пола, обозначивший духовное противостояние: один дух. А дальше – тема мышиной малости лирической героини, противостояние Богу:
Мы с Тобой – как русские
и Тохтамыш —
По обоим берегам неба.
Здесь и воспоминание о монголо-татарском нашествии, и «На поле Куликовом», и «Скифы» Блока, поскольку Тохтамыш – монгольский хан эпохи Куликовской битвы. Любопытно, что в самом слове «Тохтамыш содержится «мышь», то есть лирическая героиня находится как бы внутри имени Бога, так обозначено родство с Богом, слиянность с ним, а также то, что во время битвы воюющие меняются местами. «Русские» не обязательно Поэт, а Тохтамыш не обязательно Бог. На чьей стороне правда? Кто победитель? То Бог, то человек-поэт оказывается сильнее. Если говорить об образе мыши у Цветаевой, то образ мышиной стаи встречаем в стихотворении о Москве как лирическом «я» автора: «спешит, сбегается / Мышиной стаей / На звон колокольный Москва подпольная». 5858
Из стихотворения Цветаевой «Чуть светает…» (1917). См.: Словарь поэтического языка. Марины Цветаевой. М.:Дом-музей МЦ, 1999. Т.3. с. 211.
[Закрыть]В пьесе «Феникс» с мышками отождествляются девки: «девки, как мышки, сидят в хоромах». 5959
Там же.
[Закрыть]В поэме «Крысолов» звучит тема Крысолова-поэта, уводящего из жизни на тот свет, то ли в искусство, в Лирику, то ли в Небытие. У Елены Шварц мышь летучая, ползучая, творческая, музыкальная. Известно, что Тохтамыш – хан, хитростью взявший Москву: 26 августа 1382 года Москва сдалась. Обратим внимание на случайную перекличку дат: 1982 год – год издания «Воробья», 1382 – год битвы Тохтамыша за Москву. Еще две вероятные текстовые параллели – «Ханский полон» и «Скифские» Цветаевой. Москва – ведь это цветаевская столица. В «Ханском полоне» Цветаева стремится в стан к ангелам, потому что ее Москва находится во власти Мамая (большевиков). В «Скифских» обращается к Борису Пастернаку, воспринимая его ханом, взявшим Москву (ее душу). Можно предположить, что для Елены Шварц в 1982 (?) году существовал некий поэт (хан), по отношению к которому она чувствовала себя, как Цветаева, разлученная с Пастернаком.
Вторая часть стихотворения – описание битвы. Ясно, что впереди – неравный бой – сильного Бога и человека-воробья, маленького, хрупкого, легко побеждаемого, серенького, но в стихотворении этот воробей – «живое, горячее, крепче металла». И это упрямое, непокорное существо предлагает Богу нанести удар первым (из любви к Богу?). Воробей-человек понимает, что Богу нужно ударить, чтобы почувствовать противостояние жизни. Богу скучна жизнь без сопротивления:
II
В боевом порядке легкая кость,
Армия тела к бою готова.
Вооруженный зовет Тебя воробей.
Хочешь – первым бей
В живое, горячее, крепче металла,
Ведь надо – чтобы куда ударить было,
Чтобы жизнь Тебе противостала,
Чтоб рука руку схватила.
И отвечу Тебе – клювом, писком ли,
чем я —
Хоть и мал, хоть и сер.
Человек человеку – так, приключенье.
Боже Сил, для Тебя человек – силомер.
Ответ Богу человека – это Слово, которое произносит человек-поэт, чей голос, по сравнению с Божьим голосом воспринимается всего лишь писком. Богу нужен прибор для измерения его силы, и вот таким прибором оказывается живой, сражающийся с ним человек. В последних двух строках – сразу две переклички с Цветаевой. Одним из интертекстуальным источником «Воробья» является цветаевская пьеса «Приключение», пьеса молодой Цветаевой, о встрече и разлуке двух равных сверхдуш – Казановы и Генриэтты. Таким образом, тема поединка равновеликих, равносущных душ есть и в пьесе Цветаевой. Казанова в гостинице встретился с Генриэттой, чье появление окутывается ирреальным светом. Генриэтта – лунный мальчик, лунный лед, существо, уходящее не только от Казановы, но и из жизни. Эта встреча с равной Генриэттой вспоминается Казановой нечаянно, когда он жизнь спустя снова оказывается в той же гостинице и видит на оконном стекле, алмазом по стеклу, надпись – «Забудешь и Генриэтту». Так что тема борьбы чувств, поединка между человеком и человеком есть и в пьесе Цветаевой, где любовь к Генриэтте дается как любовь к неземной, родной Казанове душе. Слова, вспоминаемые Еленой Шварц: «Человек человеку – так, приключенье», звучат почти в самых последних строках пьесы. Казанова не может объяснить Девчонке, о каких чувствах, о какой нечеловеческой любви идет речь:
Девчонка
<…> – Так что это за буквы?
Казанова
Так, – одно —
Единственное – приключенье.
Девчонка
Амурное?
Казанова
Нет, нет…
Приключеньем названо самое главное чувство его жизни. Поэтому, когда Елена Шварц использует слово «приключенье», оно звучит в ее «Воробье» так же иронически-двусмысленно, как в реплике Казановы к Девчонке, не сумевший бы его понять. Человек человеку то, что Казанове Генриэтта. Здесь отсутствует правда, а есть лишь слово, которое эту правду замещает и снижает. Вторая затекстовая ассоциация уводит в «Оду пешему ходу». Именно в этих стихах Цветаева славит Бога Сил, Бога Царств, и Елена Шварц, предлагая Богу честный бой, одновременно разговаривает с Цветаевой, вспоминает цветаевскую оду Богу – благодарность за то, что Тот сделал ее «ходячим чудом».
В этих стихах Цветаева отстаивает образ человека безмашинного, личности, противостоящей веку «турбин и динам». Ее благодарность Богу – благодарность пешехода, странника, ощущающего себя сильнее машины, а значит, сильнее времени:
Если есть в мире – ода
Богу сил, богу гор —
Это взгляд пешехода
На застрявший мотор. (БП90, 420)
В третьей части стихотворения Цветаева говорит о том, что и в царстве небесном она желает быть пешеходом, и в стихах Цветаевой, как в стихах Елены Шварц, есть эта потусторонняя перспектива:
Чтобы в царстве моллюсков —
На своих-на двоих!
(26 августа 1931, Мёдон – 30 марта 1933, Кламар)
Воробей Елены Шварц не пешеход, но ее царство того света в целом ряде других текстов дается отчасти как развертывание этой цветаевской метафоры. Тема движения – на первом плане и в третьем стихотворении цветаевского цикла «Бог» (1922):
О, его не привяжите
К вашим знакам и тяжестям!
Он в малейшую скважинку
Как стройнейший гимнаст…
Разводными мостами и
Перелетными стаями,
Телеграфными сваями
Бог – уходит от нас.
(БП90, 311)
В этой птичьей, божьей стае летит и воробей Елены Шварц. 6161
Важность птичьих образов в творчестве Шварц отметила О. Седакова: http://sedakova.com
[Закрыть]Последнее слово стихотворения – слово о поэте, сражающемся с собой, сражающемся со стихом, с другими поэтами, вступающего в битву с высшей любовью; слово о величии Бога, об игре Бога с людьми, проверяющего на людях крепость и мощь: «Боже Сил, для Тебя человек – силомер». И в этом финальном однокоренном сходстве (Боже Сил – силомер) изображено творческое сходство Бога и человека. Если сравнить буквенный состав слов, называющих Бога (Боже сил) и человека (силомер), то заметим равное количество букв, их семь, как нот в звукоряде, поэтому можно сказать, что в поединке нет победителя.
В стихотворении Ольги Седаковой об Иакове, «Иаков», «Легенда десятая», основной является тема сна Иакова, быстрого сна. Здесь быстрота как образ сновидения Иакова, в котором ему является Бог, с одной стороны, с другой – образ стремительности его познания. По-видимому, О. Седакова изобразила сон, который предшествовал поединку Иакова с Богом. А может быть сон и был поединком? В ее стихотворении ясно присутствует близкая Е. Шварц мысль о родстве Иакова со своим Богом. Сон здесь как поиск, как путь с посохом в руке, как постижение Бога, живущего в кубообразном небе (Бог как сердце неба). Иаков противопоставлен некому множеству, не избранных Богом:
Получается, что Иаков побеждает Бога своим сном, не желая этого, засыпающий Бог – это Бог внутри Иакова, усыпленный серьезностью отношения Иакова к небу и к его «новостям».
Интересно сопоставить стихотворение Елены Шварц со стихами Эмили Дикинсон, в которых тоже отобразился поединок Иакова с Богом. У Дикинсон акцент делается на хитрости Иакова, который утаивает от Бога свою истинную силу (привожу в своем переводе):
На маленьком Востоке Иордана
Библейский шрифт запечатлел навечно
Иакова-атлета славный подвиг,
С давнишних пор известный всем наречьям.
За поединком Ангела с Героем чутко Гора следила
Лицом к лицу боролись оба из последних жил,
И подкрепить слабеющие силы:
Позавтракать сердитый Ангел предложил.
– Благослови меня, – сказал хитрейший Иаков. —
Я знаю, что сильней
Тебя нет в мире никого.
Свет колебал руна серебряного ткань
С той стороны горы, где мужа ждали в стане – дома.
Так душу сохранил Иаков, изумительный Атлет,
Тот, лестью победивший Бога.
(«A little East of Jordan…»)
По мнению Эмили Дикинсон, победить ветхозаветного Бога можно только хитростью. Надо просто притвориться слабым, скрыть свою подлинную силу. В другом библейском стихотворении Дикинсон иначе написала о победе над Богом: «Подчиниться Богу – значит / Одержать победу» («Abraham to kill him…»). Мысль Елены Шварц, Ольги Седаковой и Эмили Дикинсон сближает вера в силы человека, в его способность быть богоподобным, совершенным.
2013
«Сокровенное, в слезах, едва прошептанное слово»
Образы Бога и поэта в творчестве Елены Шварц
«Внутригрудной Ерусалим»
«Поэзия для меня прежде всего – это такой инструмент познания, познания Бога, смерти, природы смерти, любви»6363
http://www.newkamera.de/shwarz/escwarz__.html,
[Закрыть] – однажды объяснила Е. Шварц6464
Статья впервые опубликована: // Нева, 2013, №5.
[Закрыть], – и самое необычное, притягивающее внимание в ее поэзии – это образы Бога и ангелов, того, что сопрягается в стихах Е. Шварц с представлением о посмертии, и образ поэта, который пытается проникнуть взором в запретный потусторонний мир и сделать его видимым. «Мы – перелетные птицы с этого света на тот», – написала Елена Шварц 12 июня 2009 года об умении поэта открывать пятую сторону света, незримую сверхреальность, способного внутренним взглядом отворить Эдемский сад поэзии, райский сад искусства. Поэты томимы двойной тоской: тоской по Богу и тоской по своей душе, которая, как перелетных птиц, гонит их вдаль. Птица – один из важных для Елены Шварц образов приближенности к Богу: «Птицы – нательные крестики Бога!»6565
Сюжет о птице в клетке О. Седакова назвала важнейшим, развивавшемся годами. Е. Шварц. «Перелетная птица» (Пушкинский фонд, 2010). Предисловие. Все стихи из кн. приводим по этому изданию. Стихи из двухтомника: Шварц Елена. Сочинения в 2-х томах. СПб., Пушкинский фонд, 2002 – с указанием тома и страницы в скобках. Остальные стихи – по интернет-порталу Вавилон:http://www.vavilon.ru/texts/shvarts0.html
[Закрыть]
Не случайно название последней книги поэта «Перелетная птица», данное посмертно. Поэт похож на черного голубя и воспринимается пастырем, вожаком, тем, кто научит вере, летит впереди («Сердце Страстной»). Не случайно у этого голубя крылья «с графитной», то есть с карандашной канвой: эта карандашная, письменная, писательская тема соединяет голубя с образом самого поэта. Голубь размышляет по поводу библейской легенды о смоковнице, не захотевшей воскресать («Дни на страстной»). Е. Шварц воспринимает смоковницу Анти-Лазарем, чья вина – в отсутствии усилия в ответ на божественное присутствие («Силе не порождала усилья»). Поэт обратен смоковнице, в него человечество всматривается как в библейского Иосифа – его братья («Ты силе и вере / Научи нас, мы всмотримся в тьму»), Поэт исполняет задание Бога, на его крыльях Бог написал свои заповеди.
Е. Шварц умела быть истово верующей, и эту истовость веры она передала в стихах. Вот как изображается чувство церковной соборности: «О, сколько раз, возвращаясь вспять / Пяту хотела, бросаясь в землю, / Церкви в трещинах целовать» (2, 102) (Поэма «О том, кто рядом» (Из записок Единорога? 1980)). Образ пяты – вообще один из сквозных в ее поэтике, совмещающей разнорелигиозные образы, дохристианские, из эллинистического искусства («я занозила пятку»), и христианские («Россия крещена»). Здесь и Ахиллес, которого мать Фетида окунала за пятку, и «Мальчик, вынимающий занозу» (в Средневековье шип являлся символом первородного греха, так что мальчик аллегорически – грешник, пытающийся спастись). Пятка – образ отмеченности, уязвимости; Е. Шварц всю жизнь ощущала свою отмеченную Богом лирическую пяту. Поэты – «кубики, частицы», муравьи ангелов, радисты, по облачной рации передающие тайносведения об Атлантиде, Ахиллы, связанные не только с христианской Россией, но и со всей мировой пракультурой:
Не ведая, мы источаем опись
Событий, дат и прочих пустяков,
Но выжмут спирт из муравьев.
Цап – рацию из облака украдкой
И шифром передам, настроясь на волну:
Россия крещена, я занозила пятку
И Атлантида канула ко дну.
(1, 58) («Новости дня»)
В стихах Елены Шварц много картин нескладной жизни, трудной судьбы, жизненной или метафизической, и редко живописность поэтического пера бывает такой яркой и радостной, как в стихотворении «Мне Бог приснился как гроза…»,6666
Из книги Mundus Imaginalis: Книга ответвлений. СПб.:ЭЗРО, Утконос, 1996. 7-ой этаж. Влияние Луны. «Створки». №3.
[Закрыть] где видение прекрасного, распустившего хвост павлина – рисунок заревых облаков:
Мне Бог приснился как гроза,
Всю ночь гремевшая в пустыне,
Луны катился вдаль алмаз
В потертый бархат темно-синий,
Хвостом павлиньим распустились
Лилово-алым облака,
В разломах молнии сквозились
Серебряные города.
Углился блеск по всей земле,
И грозный рай сгорал во мгле.
Красота неба дана в соединении с грозным началом («грозный рай»). и Бог в этих стихах – «грозный», а живописность напоминает лермонтовскую (Луны алмаз, темно-синий бархат неба, серебряные города). А в стихотворении «Соната темноты» (1975) Елена Шварц рисует Бога состоящим из сияния и копоти: из небесного блеска и сажи земного, человеческого, бытового ада: «Сиянье крыло пол-лица, / А пол-лица – душ наших копоть». Бог – главный шахтер, который с шахтерской лампочкой во лбу управляет людьми, чтобы дать свет небесным городам. Человеческая участь уподоблена работе шахтеров в забое:
Весь этот мир – рудник
Для добыванья боли.
Спаситель наш – шахтёр
И все мы поневоле.
На чёрную работу,
На шёпот бедной твари
Склонился он к забою —
Во лбу горел фонарик.
Он шёл средь блеска, мрака —
Пот с кровью пополам,
Чтоб было больше света
Небесным городам.
(«В шахте»)
Елена Шварц пытается ответить на вопрос, зачем мучительное болевое существование, оправдание того света в иных мирах: зачем, становясь углем, согревающим других, «для топки погибаем рая». Многие петербургские поэты работали в котельных, а в стихах Елены Шварц эта работа превращается в символ духовного земного труда во славу небес: «И мы в слезах и муке, <…> / Кромешный уголь добывая, / Для топки погибаем рая» («В шахте»). «Он сделал нас бездонными – затем, / Чтобы тоска не ведала предела», – напишет Е. Шварц об обреченности на страдание в стихотворении «Я думала – меня оставил Бог…». Надо сказать, образ Бога-шахтера идет из стихов Эмили Дикинсон: «Шахтерской лампой рудника / Осветит жизнь любовь».)6767
Из стихотворения Э. Дикинсон «I see thee better in the Dark…» («Я лучше вижу в темноте…»). В миниатюре «Эмили», Шварц пишет, что Дикинсон пекла имбирные хлебцы и спускала на веревочке чужим детям, потому что боялась людей вблизи и добавляет: «А больше она ничего не умела, даже стихи писать как люди, как все пишут. И рифмовать не могла и вообще бредила – с Вечностью переговаривалась как соседка с соседкой». (Е. Шварц. Видимая сторона жизни. СПб.: Лимбус ПРЕСС. с. 284). Эти слова можно отнести и к самой Е. Шварц.
[Закрыть], из поэзии Цветаевой («Заворожил от света Божья / Меня верховный рудокоп»6868
Из стихотворения М. Цветаевой «На что мне облака и степи…»
[Закрыть]). Как и у Цветаевой, есть у Е. Шварц стихи, проникнутые жаждой развоплощения, мечтой оставить земное «нелепо-двуногое» тело, и, подобно шипучей таблетке, раствориться в мироздании, как в воде. Иногда стихи о смерти полны иронии, Елена Шварц видит себя кружащейся на огненной карусели «то закатом в затылок, то мордой в зарю» («Мне моя отдельность надоела…»). Среди стихов на потусторонюю тему выделяются «Элегии на стороны света» (1978), в которых поэт пытается нарисовать возможные направления пути к Богу в четырех стихотворениях. Подзаголовки элегий: северная, южная, восточная, западная – задают направления мысли, образных линий. Поэт пробует сказать о том, с каким рвением и пылкостью Бог создавал человека, какой изувеченной оказывается человеческая жизнь наяву и о поисках совершенного мира Бога. Элегии – разговор с ангелом, видящим человека – свою земную половину – «среди тела змеиных колец», в неэстетическом, уродливом облачении земной плоти. Поиски ангела подобны движению корабля в тумане во мгле запустенья. Смерть – «ангела светлого роды», рождение сквозь земные страдания нового, небесного «я», соединение души с небесным телом. Счастливые совпадения с природой и земной жизнью отмечены эпитетом «изумрудный»: «изумрудную утку в пруду целовала», «изумрудную травку с гусыней щипала, рвала». Во второй элегии замечательно изображение страстного божьего творчества, Бога как пламенного ювелира, вдохновенного садовода:
А ведь Бог-то нас строил – алмазы,
В костяные оправы вставлял,
А ведь Бог-то нас строил —
Как в снегу цикламены сажал
И при этом Он весь трепетал, и горел, и дрожал,
И так сделал, чтоб всё трепетало, дрожало, гудело…
(«Южная»)
Поиски того света оказываются поиском южного полюса, открытием «белого, льдистого, сияющего» Бога: «Я тоже туда, где заваленный льдинами спит / Лиловый медведь – куда кажет алмазный магнит» («Южная»). Человек – непроросшее зерно, которое жаждет стать цикломенами в божьем саду. Лирическая героиня иронически отождествляет себя со страной Кореей («Восточная»), она тоже состоит из двух воюющих друг с другом частей: земной и небесной. Иронию слышим и в авторском эпиграфе ко второй элегии, в диалоге, обозначившем расставание с земным телом, ненужным, неважным в небесном измерении:
Девушка! Вы что-то обронили?
Ах, неважно. Это так – ступня.
Как перчатка узкая. И пылью
Голень поразвеялась, звеня.
Присутствие Ангела в элегии третьей воплощает ветер, дующий в висках; в четвертой душа подобна морю, морской раковине. Здесь же лирическая героиня видит Антихриста, деревянного, раскрашенного, нерожденного, с вечным холодом из глаз, а потом – Ксению Петербургскую «в гвардейском мундире до пят». Если образ Антихриста воспринимается чуждым и временным, то «святые приходят назад», видение Ксении Петербургской домашнее, родное. Спасением видится движение «на закат», этот полет не гармоническое состояние, а война, «где тени и части их воют и страждут», где можно утолить голод гранатовыми зернами Персефоны. Фактически тот свет у Елены Шварц – скорее ад, чем рай. Пятую элегию сам автор толковал путешествием в смерть. Комментарий к пятой элегии показывает, что автор пытался передавать в стихах некоторые образы, ему до конца непонятные, но пережитые подсознанием. 6969
Пятая элегия « – это путешествие туда и обратно <…>. Я не совсем понимаю финал этой элегии, когда душа как бы выныривает оттуда, почему-то там сидят волки… <…> И кто эти волки? Но то, что это правдивый опыт, я чувствую. Это и есть пятая сторона света». // Интервью в журнале «Контекст» №9, 5, 2000. Беседа с Антоном Нестеровым, 1999, СПб, 25 июня.
[Закрыть]Иногда же образы Е. Шварц явно носят отпечаток сознательной иронии, например, когда Смерть персонифицируется в образе старой колдуньи, которая вяжет крючком, не замечая шерстинок, попадающихся под руку, не замечая душ тех, кем прядется нить судьбы, шерстяная шаль истории. Душа поэта для смерти – это что-то вроде моли, впрядающейся в шаль старухи Смерти:
И вот – ко всем тебя привяжет,
Вонзив крючок.
И вот тебе уже не больно,
Вдали юдоль…
Смерть машет спицей, недовольно
Ворча: мол, моль.
(«Смерть вяжет»)
Мотив, музыка этого стихотворения, а также ряд образов обусловлены чтением Цветаевой,7070
См. стихотворение Цветаевой «Быть нежной, бешеной и шумной…»: «Моя земля прости на веки, / На все века», – на мотив которого написала стихи Е. Шварц.
[Закрыть] а моль – из Мандельштама, из стихотворения «К немецкой речи…»:
Образ ореха в «Трактате о безумии божьем» тоже продиктован стихотворением «К немецкой речи…»:
Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи?
(1, 179)
В «Трактате о безумии Божьем» показан совсем не добрый Бог, не «драгоценный луч», а похожий на ветхозаветного грозный жестокий, мучающий Бог. Поэт даже решает, что «Бог не умер, а только сошел с ума, /Это знают и Ницше, и Сириус, и Колыма», сумасшедший, раз допустил Колыму, сталинизм и фашизм. Ницше, видимо, – философия человеческого эгоцентризма; Сириус – небесное знание; Колыма – топоним, обозначающий географическую концентрацию человеческого и советско-сталинского зла. Основной пафос этого стихотворения состоит в том, что «вся тварь обезумела», и значит, – безумен бог. «Арахис-орех» – метафорическое осмысления происходящего, попытка оправдания мира через ту малую добрую его часть, превращение сумасбродного мира в творчество; смысловая скорлупа земного мышления, в которую художник слова облекает мысль о мире, обращая безумие мира в форму искусства: «И только надежда на добротолюбие тех, / Кто даже безумье священное стиснет в арахис-орех». Грецкий орех сказки Пушкина «Сказка о царе Салтане», орехи Вальгаллы Мандельштама сменил во второй половине 20 века орех земляной: возможно, намек на то, что мозг современного человека обмельчал? В ряде произведений звучит мотив неправоты Бога: «Мир – / Это самоубийство Бога / Чужими руками…» 7272
Елена ШВАРЦ. ЛОЦИЯ НОЧИ. Книга поэм. СПб.: Советский писатель, 1993. «О том, кто рядом. (Из записок Единорога», 1981)
[Закрыть](2, 101). Поэт сознает свою малость перед большим Богом:
И я смотрю с конца другого
В Твою трубу – и вижу
Дым, потом огни.7373
Вероятно, интертекстуальным источником послужила «Канцона» Мандельштама: «Он глядит в бинокль прекрасный Цейса – / Дорогой подарок царь-Давида…» (1, 176).
[Закрыть]
О, не суди меня сурово —
Я только звук и крошка слова,
Я только кровь, как все они.
Взлетает церковь к небесам,
В ней кровь гранатовая наша.
Зачем спеклась, зачем дымит
В снегах оставленная чаша?
(1, 243) («Рождество 1985 года»)
У Е. Шварц оставленной в снегах чашей Грааля оказывается чаша человеческих, общероссийских, снежных страданий во имя Христа, которая осмысливается в контексте легенды о Граале, о таинстве Евхаристии, символе причастия, искупления и вечной жизни. А в стихотворении «До сердцевины спелого граната…» стол Тайной вечери живописуется вечно длящимся таинством между Богом и человеком, находящимся от Бога на расстоянии подзорной трубы:
С какого-то стола, в какую-то трубу —
Я и тогда Тебя благодарю.
Пусть нож разрежет плод посередине,
Пусть он пройдет хоть по моей хребтине —
Малиновым вином Тебя дарю.
(«5 этаж»)
В роли Дарителя выступает не Христос, а поэт, который дарит Богу эмбрион своего творческого «я». Взаимосвязь между Богом и поэтом в цикле «8 этаж» обозначена также в образе подзорной трубы, в которую смотрит Бог:
Я нахожу себя пылинкой
Внутри большой трубы подзорной,
К стеклу прилипшей. Чье-то око
Через меня бьет взора током
И рушится в ночные дали…
(«8 этаж», «Отземный дождь (с Таврической на Серафимовское)»)
Е. Шварц умеет смешно говорить о несмешном: мир потусторонний, метафизический, да и собственное «я» даются в каком-то вещественном бедном, почти ироническом портрете:
Смотрю я по каналу вдоль
И вижу – он из мутных слез,
По берегам его комоды,
И мимо я скольжу, как моль
Из каталога неприроды.
(1,218) (цикл «Лоция ночи»,2)
Почему Е. Шварц не нашла какого-то более высокого, романтического образа? Почему моль? Ну, хотя бы какая-нибудь бабочка?7474
Есть в стихах Елены Шварц и черная моль – образ Ангела смерти Самаэля, который жрет книгу жизни. («Черная моль», 1999) (1, 395).
[Закрыть] В этом образе сразу бабушкины, прабабушкины заветы, воспоминания о прошлом русской поэзии, о старом Петербурге. Петербургские дома – тоже комоды, а душа поэта – бабочка, питающаяся шерстинками одежд культуры минувших времен:
Я думала – не я одна, —
Что Петербург, нам родина – особая страна,
Он – запад, вброшенный в восток,
И окружен, и одинок,
Чахоточный, всё простужался он,
И в нем процентщицу убил Наполеон.
Но рухнула духовная стена —
Россия хлынула – дурна, темна, пьяна.
Где ж родина? И поняла я вдруг:
Давно Россиею затоплен Петербург.
(«Где мы?»)
Петербург – родина души, «Северная Венеция», чахоточный город Достоевского и Раскольникова, «запад, вброшенный в восток», затопленный Россией, как наводнением, в котором, как прежде, «от боли чернеют кусты», а заемные парики и переводные голладские картинки не изменят мужицкого, страшного, пьяного взгляда России. Петербург представляется автору больным и мучеником, отдающим себя отечеству, страдающим за всю Россию, окающую и цокающую в его голосе. Поэтический Ерусалим Елены Шварц географически располагается где-то на месте нынешнего Петербурга. Подобно тому как патриарх Никон обнаружил под Москвой место, где рельеф повторял окрестности Иерусалима, Е. Шварц пытается найти эти черты сестры-подростка, подражающего «горяче-смуглому» брату Иерусалиму в чертах Петербурга: «И речка Черная пусть будет Иордан./ Я Кану галилейскую найду / Здесь у ларька пивного <……….>, / В пустую кружку льется дождь во льду – / Он крепче пития хмельного». Создается намеренно сниженный автором образ города Петербурга-Иерусалима как новой Голгофы. Автором вспоминается место распятия Христа, место захоронения останков Адама, гробница (находится в Назарете) современника Авраама праведника Мельхиседека. В цикле «Лоция ночи» Мельхиседек – как бы очевидец того, что происходит с поэтом в современном бытии, когда он словно повторяет путь Христа: «Мы по воде мерцающей бредем / За черною спиной Мельхиседека» («Лоция ночи», 2). Сравнивая историческую родину евреев с Петербургом, Е. Шварц отдает предпочтение не месту, где «Рахиль пекла оладьи», где «сребро оливы», «где небо ангелами каплет», а Петербургу, где «наш вонючий рай» – Коломна («Там, где печалью отравившись…»).
Внутригрудной Ерусалим не только поется: поэтическое существование дается в стихотворении «У круглых дат – вторая цифра ноль…» как шитье нового платья или тела: «Остановись! А то уже не в радость, / Но льется мне на плечи – мягко, душно. / На что мне столько? Что сошью я? – Старость. / Здесь хватит на широкие морщины, / На мягкое, свободное в покрое, / Объемистое тело. На одежды, / Пожалуй, царственные…».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?