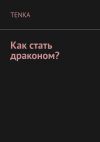Текст книги "Поклонение Луне (сборник)"

Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Вот я – верила… и Он меня спасал…
Свадьба у нас была шумная, на весь Василь. Муж мой, Ростислав Андреич, на пристани работал. Пароходы встречал и провожал. Я к нему на пристань вечерами приходила; обед ему в судках приносила. Он мне – ручку целовал… И я вздрагивала: так papa ручку mama целовал когда-то…
Ростислав Андреич на пристани – в колокол ударял… Он называл это: отбить склянки… Ему не нравилось, что я курю. Я когда курила, от него дым рукой отгоняла… вроде как комаров… Он мне все пенял: ты, Саня, загремишь с туберкулезом легких, если так будешь смолить! И что? Видите, живу. Доктор Борода мне эликсир от кашля пропишет… да лучше сигаретку выкурить, легче мокрота отойдет, кха-кха-а-а-а…
От Славы я сыночка родила. Веничку. Ах, Веничка!.. Веничка-а-а-а-х-кха-кха-кха… Хороший мальчик. Он для меня и сейчас мальчик… матери сын всегда мальчик, даже если и седой уже… Веничка меня очень любит. Он со мной жить в Василе остался, никуда не уехал. А Люсичка уехала. В Нижнем замуж вышла. Пять внуков у меня. Пять… ровно пять… как нас, детишек Беловых, было – пять… Четыре девочки и мальчик… Аня, Лиза, Аленка, Коля… и – Саня… Молодцы… молодцы… в честь бабушки младшенькую назвали…
Ростислава Андреича я давно похоронила. Уж четверть века без него живу. Как один день… И вся-то жизнь – один день… да одна ночь… Иной раз хожу к нему в Лосев переулок. С палочкой, медленно, по шажочку… добреду. Плачу на могилке…
Я уж давным-давно для Василя – старуха Сан Санна. Трудно народу выговорить: Александра Александровна, я понимаю, трудно. Сан Санна, так легче… Меня еще в прошлом году на Волгу, на пляж, на песочек, дети, Люсичка и Веничка, в кресле спускали: кресло со мной – по тропинке крутой – на руках несли! Они несут, а я смеюсь, дребезжу беззубым ртом: вы меня прямо как шахиню в паланкине тащите… по-восточному… а они мне: ну, так ты ж восточная у нас дама, мамочка, ты ж ташкентская пери! Гурия… А мы два твои слона, ты катишь на слонах… нет, на верблюдах! Мы верблюды твои! Ах-ха-ха-ха… кха…
А на пляже сижу в кресле, под белым зонтиком. Как встарь. Как – до революции… Люсичка зонтик кружевом обшила. Ветер кружева треплет… Река течет…
Ох, о-о-о-ох… Лучше затяжки хорошей в мире нет ничего…
А спросите, где мои драгоценности?.. Да где, где… Уж все проели-пропили… Уж все раздала-раздарила… Дарю и говорю: людям нужнее, чем мне. И вижу еще, пока не слепая, людские улыбки! И слышу, пока не оглохла, ахи и охи восторга! Как мало человеку надо на земле для счастья! А что, думаю, для сердца в камешке том?.. Денег стоит?.. не то это все, не то… Радость? Красота? Память?.. Человек изобрел на земле сокровища, и в них, дурачок, обращает свою жизнь. А жизнь-то – самое ведь драгоценное, а не эти цацки, ляльки, побрякушки… Так все алмазы-рубины и разбежались, как мышки с корабля… Так потихоньку и рассосались… Немножко осталось. Не в железном ящике уже – вот тут, в самосшитом мешочке… теперь – не надо в землю закапывать… теперь – никто не отнимет… я мешочек в палехской расписной шкатулке держу, в комоде. Вот на лето внучек привезут – я им последние бирюльки и раздам. Анечке – шереметьевский сапфир… Лизочке – золотую цепочку… Аленушке – браслет с брильянтами… а Санечке, тезке – изумрудное колье Императрицы… Иногда развяжу мешочек, гляжу на последние мои камешки старыми своими, подслеповатыми глазами, и думаю: а ведь это не камни, это мои слезы, они просто застыли и отвердели… это моя кровь и кровь мужей моих бедных… она просто засохла, стала жесткой, прозрачной… и сверкает… и жжет… а-ха-кха-кха-кха… Кха!.. кха…
На пороге гостиной – женщина. Черные густые волосы гладко зачесаны на затылок, забраны в тяжелые косы. Белая рубаха с кровавой вышивкой по вороту и рукавам делает ее похожей на крестьянку. Она стоит на пороге и смотрит, как спят все трое: мужчина, девочка и старуха. Девочка на диване; мужчина положил локти на стол, рядом с керосиновой лампой, а на локти – тяжелую лысую голову; старуха сидит в старом дубовом кресле, и можно подумать, она не спит, потому что глаза ее открыты, – но она спит, как лошадь, с открытыми глазами. Альбом открыт, и с коричневой старой фотографии глядит веселая парочка: Федор Шаляпин, смеясь всем холеным, барственным лицом, обнимает за плечи тоненькую девочку в шелковом платье с буфами, и глаза девочки летят перед ее фарфоровым лицом, как две бабочки. В блюдечке дотлевают окурки. В развязанном холщовом мешочке, что валяется на диване у щеки девочки, сверкает старое золото: колечки, брошки, цепочки, – горят зверьими глазами прозрачные камни забытой огранки. Девочка во сне сжимает в кулачке тесемку мешочка. Окно распахнуто в осенний золотой сад. Солнце медовыми, желтыми, огненными пятнами бредово, пьяно ходит по скатерти, по старым обоям, по ветхому абажуру, по спящим лицам.
– Вот тебе и грибы, – шепчет женщина, и верхняя губа ее с еле заметными черными усиками дрожит от смеха и обиды. – Вот тебе и грибы!
Далеко, как на небесах, поет петух. Далеко, как на том свете, звонит церковный колокол.
Краденая помада
Памяти жертв 11 сентября в Нью-Йорке
Они сначала жили у нас в Ленинграде, тьфу ты, у нас в Петербурге, все никак не привыкну к этой перемене. У нас в Питере, вот как лучше сказать.
Смешное семейство такое! Фамилия их была Белосельские. Я любила у них бывать. Не часто, но забегала. Мамка семейства, такая огромная, толстая, как толстая серая кукушка, все переваливалась с боку на бок, неуклюже по комнатам бегала – да, да, не ходила, а бегала, это по квартире-то! – пухлыми уютными боками сбивала на пол старинные, уже сплошь подклеенные вазы и клетки с волнистыми попугайчиками, и все куковала: “Ах, чайку!.. Ах, что это за чаек!.. Ах, да это ж не чаек, а просто какие-то писи тети Хаси!..” Носик крючком, седые букольки, а мамку звали не тетя Хася, а еще хлеще: тетя Двойра. Двойра – это в Ветхом Завете Дебора, это я в Библии нашла такое имя. Дебора – это я понимаю! Это красиво. Это звучит гордо. А Двойра? Дворничиха какая-то. Ох и добрая тетка была! К чаю все кнедлики с маком, облитые медом, подавала… Сама стряпала…
И даже в самые тяжелые времена, во все путчи-говнутчи, во все дефолты и голодухи к празднику тетя Двойра кровь из носу, а фаршировала щуку. Щучка фаршированная – о, это была песня! Я так классно никогда готовить не научусь.
Старая питерская квартира, соты коммунальные. И люди, как пчелы, жужжат. Стены обшарпанные, как не до конца облупленное вареное яйцо. Пахнет с кухни газом; горелки почти всегда включены. Зимой они включены для того, чтобы с кухни шло тепло. В комнатах, особенно в лютые морозы, в декабре-январе, ох какая холодрыга стояла! Я приходила, и на меня сразу напяливали шерстяные носки. Ух и носочки! Голландия просто отдыхает. Толстенные, полосатые, домашней вязки! Сама тетя Двойра вязала. А иногда и ее мамушка спицами двигала, бабка это, значит, самая тут старая в семье. Бабка тихо, послушно сидела в старом, глубоком как дупло кресле, оттуда высовывалась, ну точно как из дупла, ее высохшая птичья головенка на тощей сухой птичьей шее. Она напоминала мне больного, общипанного птенца. Над безволосой головой бабки стояли на полке три клетки с попугайчиками, один был желтый, другой зеленый третий синий, и все чирикали бойко, а слова никакие не говорили. Все тихо, молча и покорно ждали бабкиной смерти. Я это понимала. Ждали, но никогда не говорили про смерть. От кресла тихо тянуло соленой старческой мочой вперемешку со старыми, сладкими, типа “Красной Москвы”, духами. Если я пила за столом со всеми чай, я старалась отвернуть лицо и дышать в другую сторону.
Мне Юлька сказала, грозно и настороженно подвывая: ты че это отворачиваешься, Галька, а? Че-то там в углу заметила? Мышь? Мне стало стыдно, и я буркнула: да, мышь, пробежала уже, – и Господи! а Юлька уже на стуле ногами стоит и орет благим матом!
Со стула сняли; еле успокоили.
Юлька, Двойрина дочка, дочушка, дочурочка, поленце-чурочка. Отличная девка, ну своя в доску! Отпадная. Веселая, лягва, ниче ее не берет! Однажды ее в больницу запичужили, она жаловаться стала на слабость. Идет-идет по улице и на лавочку присядет, как старая бабулька. Ну, врачи, они конечно… Их медом не корми, дай человечка полечить. И с него – денежку содрать! Говорят Юльке: у вас то, се! Куча проблем, в общем! Неизлечимых! Но мы полечим, за хороший куш. Все для вас! Юлька из больницы сбежала. Я помню, я пришла к ним, а Юлька перед зеркалом сидит, губы красит. И стрижка у нее уродливая, просто тифозная. Все волосы с башки сняты! Как у скинхеда! Может, думаю, она скинхедкой заделалась? Все, кричит мне, меня увидя в зеркале, я излечилась! От рака, мать, излечилась, прикинь! Пошли все доктора на хер! Я задрожала, колени подкосились, и я прямо на пол села, на грязный пол, и платье в попугайских какашках испачкала, это бабка клетку уронила, и все рассыпалось – и зерна, и крошки, и говнецо. И никто не убрал. А я не увидела. А синий попугай мне вдруг крикнул по-человечески: “Р-р-рак! Р-р-рыба! Р-р-рак! Р-р-рыба!” На полу сижу. Как излечилась, кричу, как?! А Юлька мне: да пошла в Никольский собор, в морской, да хорошенько помолилась! А я кричу: а почему ж не в синагогу?! А Юлька все мажет губы перед зеркалом. А потом повернулась и орет, будто бы я глухая: а потому что Бог один! Один Бог! Нас много гадов, а Он – один!
Ей шло накрасить губы. Губы у нее были такие пухлые, полные. Инъекции силикона делать не надо. Анджелина Джоли просто отдыхает, отдыхает! Или уже, сволочь голливудская, не отдыхает, а завидует!
Да нет, забавная семейка, конечно. Немало я там развлекалась. К примеру, прихожу однажды – а отец, Самуил Моисеич, лысый такой, добрый такой, сам на клювастого попугая похожий, в гробу посреди гостиной лежит! Ну, натурально, в гробу! Я прямо вслух говорю: еп твою мать! Самуил Моисеич, что это с вами! А он мне: “Свами, – говорит, – Вивекананда!” И хохочет, громко рыгочет, прямо рычит от смеха, булькает весь! В гробу-то! Я ниче не понимаю. Первая мысль: спятил дедулька. Ведь живой еще. Глаза перевожу – и в полутьме, в дыме табачном фигуру примечаю! Фигура стоит, дым изо рта, белый квадрат под локтями, и скипидаром воняет! Черт, да ведь это старикана – с натуры рисуют! А он-то, в гробу, весь колыхается от смеха, как холодец: “Галичка, Галичка, ты ж не пугайся, деточка!.. это ж мене для вечности… для ве-э-э-э-эчности!..” Блеет, как баран. И я заблеяла вместе с ним, как веселая овца! А он кричит: “Возьми-ка вынь из шкапчика штофик!.. Там красненькое еще осталось!.. Щас из гроба встану – и сядем, вмажем с тобой, детулечка…”
Художник тот смолил аж до одуренья. Кистями барахтал по холсту. Картина вышла исключительная. Дядя Сэм в гробу смирно лежит, до полу красные складки бархатные льются, а в борт деревянной лодки гробовой белый голубь красными лапками вцепился. Голубя тот малеванец сам, из головы, сочинил. Но к месту. Все по делу. Все не по-детски. Я парня по плечу хлопнула и говорю: да, чувак, это непадецки! А Моисеича спрашиваю: дядя Сэм, это вы художнику должны денежку в лапку, вы заказали себе такую мощную картину? Так это ж дико дорого стоит, а? Он ржет заливисто! “Это я ему по его просьбе позировал! Это он мене должен! Щас заплатит, удод, и мы его… в лавку пошлем!..”
Коммуналка у Белосельских была на Литейном проспекте, и в лавку художничка послали на Невский, потому что тетя Двойра поручила парню купить еще хорошенький тортик в кондитерской “Север”, а Двойра называла ее по старинке: “Норд”. Парнишка принес из “Норда” шоколадный тортик, и мы навернули его под отличный кагорчик. А потом, когда все быстро съели и выпили и облизнулись тоскливо, дядя Сэм с хитрой рожей, похожей на веселый сморчок, вытащил из-под дивана еще бутыль, и это тоже было красненькое, он красное вино любил и торжественно говорил: от него в крови рождаются красные кровяные тельца! – а Двойра поджимала губы и презрительно поправляла дядю Сэма: “Не тельца, а тельцы”. И Сэм вскричал победно: “Эх, гулять так гулять, стрелять так стрелять, как поет великий Разъебаум! Юличка, свари-ка ты нам глинтвейн!”
И Юлька подпоясалась старым, прозрачным от жира, нестираным фартуком – и пошла на кухню, где от мороза полыхали все конфорки чудовищными синими зимними цветами, и вылила бутылку красного в обгорелую кастрюлю, и запустила туда цедру, и гвоздику, и корицу, и кардамон, и пес знает что, – все, что дома нашлось по сусекам, – а потом еще влила ложку меда и для верности сыпанула полсахарницы сахарку. У-м-м-м-м! Это был глинтвейнчик, я вам скажу!
А за окном бесился питерский январь, ветер дул как сумасшедший с Финского залива. При таком ветре щеки можно было как делать нечего обморозить. И Юлька сказала, прихлебывая горячий глинтвейн и грея ладони о чашку:
– Папа, хочешь новость? Я беременна.
И дядя Сэм сначала дернул бровями, раз, другой, а потом они задергались мелко, задрожали, а потом поехали вверх, все вверх и вверх, и я испугалась, что они сейчас соскочут со лба.
– Ишь? – только и смог выдавить он из себя, как масляную краску из тюбика.
И за столом повисло такое молчание… такое…
Ну, думаю, щас Сэм как запустит в стенку чашкой, такое у него стало лицо…
А тетя Двойра шумно, как насос, вздохнула и припечатала:
– Рожай. Воспитаем!
И все за столом сразу загудели, заблажили, загремели и зазвенели! Вроде как все превратились в рюмки, тарелки, ложки и вилки, такой стукотон поднялся! Обрадовались все этому будущему ребеночку, что ли? Я под шумок плеснула сама себе еще глинтвейна из кастрюли, зачерпнула половником старинным.
И тут вообще началось. Юлька отодвинула от себя чашку с дымящимся глинтвейном. И рожа у нее сделалась такая, такая! Ух! Решительная.
И опять все затихли. Фокуса ждут!
А Юлька лепит всем в рог:
– Я не буду, – говорит, – здесь, в этом долбаном государстве, ребенка рожать! Я, – говорит как режет, – хочу, чтобы он родился в свободной стране! Я не хочу, чтоб он загнулся от нищеты! От недоеда! Оттого, что у мамашки его от голода – молока в грудях мало! И я рожу его…
Тишина вообще стояла капитальная. Небесная. Как за облаками.
– В Америке! И он!
У Двойры глаза были круглые, как по циркулю.
– Будет! Гражданином! Америки!
– Матерь вашу, Юличка, за ногу, – радостно нарушил гробовое молчанье дядя Сэм, – а как же вы туда-то, в тую Америку, будете, блин, переселяться, хобот мне в рот?
Очень вежливый старикан был дядя Сэм.
Парнишка-художник онемел от восторга. Облизал испачканные шоколадом пальцы. Бабка слегка пошевелилась в кресле, и я услышала слабый котячий писк, и аммиачный запах поплыл, и прямо на меня. И я отвернула лицо, задержала дыхание и уже не видела Юльку, а только слышала ее голос:
– Очень просто! Я с Мишенькой списалась! Мишенька с Радочкой в Нью-Йорке щас живут! Делов-то! Как два пальца об асфальт! Он на нас на всех вызовы в посольство уже послал!
– А вдруг нас не выпустят? – трусливо спросила Двойра.
И тут парнишка-живописчик бодро так крикнул, на весь стол, аж рюмки забрякали:
– Выпустят! Всех теперь выпускают! Мы ж тоже в свободу играем!
Я погладила Юлькину толстую коленку под лохматой скатеркой и тихо спросила:
– Эй, Юль, а как ты его назовешь? Или ее?
– Вот рожу и назову, – сердито сказала Юлька и подняла красную рубиновую рюмку. – За Америку!
И все мы выпили за Америку.
Чудеса бывают всякие на свете, но все мое чудо-семейство действительно выпустили. Всем разрешили лететь; и даже старой безумной, уже безъязыкой бабке, что спала в кресле с открытыми глазами, чуть двигая в воздухе чуткой тощей шейкой. “Галька, – возбужденно кричала мне Юлька, пакуя чемоданы, – Галька, ведь это правда! Ведь это все правда, что мы уезжаем!” У нее шел шестой месяц, и живот уже начал хорошо, заметно выпирать. Ты там осторожнее, беспокоилась я, ты тяжести-то не поднимай, ты зачем полчемодана книжек нагрузила, что, в Америке книжек нет, что ли? “Там английские!” – бешено блестя синими выпуклыми белками, кричала Юлька. Ее потные волосы вились круче пружин. Я беспокоилась за все. Беспокоилась, как они устроятся в Нью-Йорке; на что будут жить; как и где Юлька будет рожать, в приюте для бомжей, что ли, ведь у семейства не будет ни доллара на хорошую клинику; попросту, что они будут жрать и где спать. На все на это беспокойство Юлька отвечала лишь одно: “Прорвемся!”
И я представляла, как Юлькин самолет прорывает стальным носом плотные серые тучи над городом Нью-Йорком – и ныряет вниз, еще вниз, кружит над аэропортом Джей Эф Кей, то бишь имени Джона Кеннеди, и торчат скелетные каменные пальцы небоскребов, и самолеты взлетают и садятся, как божии коровки, так их много тут, садятся чуть ли не друг на друга, и вот она, посадочная полоса, и вот он, паспортный контроль, и вот носовая английская речь вокруг, и вот она, новая жизнь. И пузатая моя Юлька идет уже по сверкающему залу аэропорта, прижимая к груди загранпаспорт с визой, а за ней тащится тетя Двойра, катит на колесиках чемодан, а за ней плюхает дядя Сэм и тоже тянет колесную сумку, величиной с кабана, а другой рукой везет кресло на серебряных колесиках, и в кресле сидит старая бабка, жамкает впалым ртом, глядит птичьими застылыми глазами на блеск и вспышки, на гладкие и радостные лица. Страна радости, твою мать! А у нас что, страна печали?!
Они улетели, и я потеряла их из своей жизни, ну, так идут по лесу и из корзинки теряют гриб. Ну, нескольких грибов не досчиталась, ну и что? Новые вырастут, и новые соберу. Да и в корзинке моей другие, крепкие грибы были. И я для кого-то тоже была грибом. Меня тоже кто-то срезал и в корзинку к себе положил.
Плевать. Все мы друг для друга грибы. Все мы друг другу – еда.
У меня дома интернета не было, матери было это дорого подключать, лишних-то тыщу рублей в месяц тратить, и я иногда ходила в интернет-кафе одно, к знакомой девчонке одной, она тут барменшей работала. Она меня бесплатно за компьютер сажала и шептала: давай, наяривай, пока хозяин не увидел. А часто и хозяина в кафешке не было. Я и рада стараться. Вот сижу однажды и вижу у себя в ящике письмо. Адрес незнакомый. Ух ты! Юлька! Из Нью-Йорка!
Письмо довольнешенькое. Огромное! Прямо Библия, а не письмо! Я жутко обрадовалась, сверх меры! А подружка моя видит, что я разулыбалась, такая вся счастливая сижу, и на радостях мне раз! – и бесплатно чашку кофе несет! Я сижу, кофиек халявный попиваю, от Юлькиного письма балдею. Везет же людям! Счастья полные штаны!
Ну хоть кому-то пусть повезет, думаю.
Вот так приблизительно Юлька писала, я щас по памяти не все точно воскрешу:
“Приветик, старушка! Как ты там? Как Питер? А у нас в Нью-Йорке все заебись! Приземлились мы, правда, еле-еле, такой полет был крейзи, через Атлантику-то нормально перепрыгнули, а только самолетик наш вшивый зашел на посадку, как поднялся такой ветер, мать, у-у! Дикий просто ветер. Самолет зашвыряло! Ну, я сижу, в подлокотники впилась как клещ и думаю: все, пиздец. Но так остоебенила вся эта нищая жизнешка в питерских наших трущобах, что вот она, Америка, рядом, под брюхом самолета, под шасси уже, и в ней и помереть не жалко! А про ребеночка думаю: эх, блядь, да ведь его одного только жалко, пацаненка, разобьется, еще нерожденный, мальчик это, по УЗИ уже сказали! Представь себе, подруга, я второй раз в жизни помолилась! Примерно так: святой Господь Бог, прости мне все мои припиздоны и заебушки! Оставь Ты мне жизнь, моему первенцу и моим шнуркам кислым, гляди, они сейчас от страха обосрутся! Милый Господи, все, все для Тебя сделаю, дай только хоть чуток пожить в Америке! И Он, представь, услышал! Блин, мать, я уверовала в натуре! Самолет как взмоет чуть ли не с полосы, опять в небо, шасси, как гусь лапки, подобрал, и еще часа два над Нью-Йорком кружил, топливо, собака, вырабатывал! Чтобы мы при посадке, если она жесткая будет, не взорвались к ебене матери! Ну и вот! Если я тебе пишу это письмо, значит, мы сели, ха-ха!
Баба Маня, как ни странно, была окей, я за нее больше всего волновалась. Она все к себе клетку с попугаем прижимала. Она ему туда святой мацы накрошила! Одного только паразита в Нью-Йорк взяли, остальных, ты ж помнишь, в Питере по друзьям раздали.
Мишенька встретил нас просто охуенно. Стол был – блин, как на приеме в Белом доме! Чего там только не было! Я уж и забыла про такую едьбу. Жрала как крольчиха, ну, нас же двое, он же тоже есть же хочет! А Мишенька мне все подкладывает, все горкой накладывает: ешь, Юлечка, ешь, солнышко! Ешь, ты уже в Америке! Статую Свободы только не съешь, она не шоколадная! Ели-ели, пили-пили, смеялись-смеялись! Устали. Спать легли. Матрацы у Мишеньки – мягче облаков! А простынки розами пахнут! Вообще хата – ошизеть! Не в центре Нью-Йорка, нет; в Квинсе, но это все один хрен, это все равно Нью-Йорк, а себе думаю: хорошо, братец, что не в Гарлеме! А он мне: а что вы все Гарлема боитесь, обычный райончик, только черножопых погуще! Ах, бандиты?! А у нас в Питере как будто бандитов, как клопов, повывели! Да что вы говорите! И все шутит в таком роде.
Обжились мы чуть-чуть. Я живот таскаю уже тяжелый, как гирю без ушей. Вот, думаю, парень-то мой богатырь! Как назвать, думаю? Ведь он родится – и уже гражданин Америки! Блин! Как? Джон? Ричард? Джошуа? Джереми? Джереми, отличное имечко. Это в честь пророка Иеремии! Папульке понравилось. А насчет себя он вообще дико ржал: я, говорит, в России был американский дядя Сэм, а в Нью-Йорке-то я кто?! Может быть, вообще Семен?! Сеня, может?! А я ему: по Сеньке шапка, по ебене матери колпак! В общем, ржем без перерыва. В режиме нон стоп.
А тут Мишенька наш хлебосольный вдруг нам и задвигает: я, мол, вас приютил, кормил-поил, да у меня ж своя семья, и вы тут у меня уже два месяца кантуетесь, и никто из вас жопу не почешет, хату себе найти, так я ж за вас ее вам уже нашел, хорошее место, не Нью-Йорк, правда, зато Нью-Йорк из окна через Гудзон видно, Джерси-сити называется, в кирпичном доме, мимо окошка идет пожарная лестница, так что если пожар, ржет, по лестнице на землю удобно стрекотать! Нам всем очень стыдно стало. Мамулька Мишеньке говорит: спасибо, Мишенька, вообще за все. Будем устраиваться, да только вот Юльке прямо завтра ведь уже рожать, может, еще поживем у тебя? А он такой злобный сделался. Будто бы и не Мишенька вовсе, а какой-то дракон, ебать его в рот. Орет, слюной брызгает. Ну, мы собрали чемоданчики. Он нас, спасибо ему, говну, на своей тачке до этого Джерси-сити довез, и я все на Нью-Йорк в окно любовалась, все еще не верила, что я тут, что все мы тут.
Красиво тут, мать! Все это страшные сказки, что в Нью-Йорке черный смог, до фигища машин и до фигища грязных проституток на Бродвее. Воздух чистый! Все врут про смог! Ветер, блин, морской, океанский! Соленый! Кайф! В Сентрал-парке – белочки хлебец из рук берут! На улицах все веселые, жизни радуются! Постной рожи не увидишь, даже у негров! Пусть америкосу говенно, пусть у него кошки скребут на душе – но он тебе кажет тридцать два голливудских зуба и поет: окей, окей! У меня все окей! Я, когда гуляла однажды вечером по Бродвею, голову задирала, ею вертела как веретеном, все разглядывала жадно, остановилась около отеля “Хилтон”, ну это, знаешь, знаменитый такой тут отель, ну очень крутой, тут номер до трех тыщ баков стоит, и думаю себе: а че, в честь этой дуры Пэрис Хилтон, что ли, отель назвали? Светская блядь. Как наша питерская говнючка Ксения Стручок. Деньги есть, ума не надо! Этот “Хилтон” – весь в огнях. Вашу ж мать, думаю, все горит и пылает! Все рекламы – веером, как хвост павлиний! Башка закружилась. Чуть не свалилась под фонарь и коньки не отбросила. Потом мне сказали: это, darling, у тебя был культурный шок.
Шок-шок, порошок! Наплевать. Мне главное было – ребеночка здоровенького родить! А мы в новой хате, обживаться надо, да хата-то, Галька, если честно, паршивая. У нас в Питере коммуналка наша засранная в сто раз лучше была. Хорошо, что мы ее не продали: папулька ключи дружку оставил, чтобы мы могли в любое время вернуться. Это он умно придумал, да? Старый мой попугайчик!
Хата тесная. Понятно, дешевая. По нью-йоркским меркам. Тыща баков. Однако ж надо где-то ее каждый месяц взять, эту долбаную тыщу! Мать на пособие подала, папулька тоже, я тоже. Отписали: удовлетворим вашу просьбу, если у вас будет хороший адвокат. А где он, тот адвокат? Он ведь тоже бабок стоит! Нашли адвоката. Он нам: десять штук, и вы встанете в очередь на грин-карту! Я сам похлопочу! О, думаю, ебушки, десять штук, ни хера! Думаю: питерскую квартирку придется на хрен продавать. Мамулька ревет! Бабка в кресле сидит и молчит. Приехали в Америку, забодай ее комар!
Адвокат выхлопотал нам пособие какое-то все-таки, мы ему денег нашли. Подтянули пояса потуже и нашли. Мишенька помог, и еще один родственничек, отыскали мы, он на Брайтоне живет, Левушка. Левушка-блин-коровушка, но при бабках чувак. С нас расписку взял, что мы, мол, в течение года… Я ору: года мало! Мы не заработаем! Он ручку погрыз и написал другую: в течение двух лет…
А я тут одно дело сообразила. Ты только не ржи, подруга, не смейся, а то живот заболит. Я по супермаркетам начала шататься. Ну, кошелек с собой возьму, понятное дело, но продуктов-то не расшикуешься купить на эти гроши. С железной сеткой в руке хожу меж рядов. Шастаю: туда-сюда, туда-сюда. Вроде как выбираю. У меня живот большой, ко мне все – уважительно. Лопочут по-английски, я ни хрена не понимаю, но киваю и улыбаюсь. И так иду медленно, медленно… заслоняю своей широкой жопой прилавок… и хвать – из-под живота своего сугробного – кусок сырой рыбы – или курицы – или там печенку, и жжик! – в карман. У меня, знаешь, такое платье было, специальное, для пузатых, мамулька пошила. Широкое как балахон, и с кучей карманов. Карманы как мешки. Озираюсь: никто не увидал?! Да нет, никто вроде. Хотя там везде камеры слежения! Так и наберу в карманы эти необъятные кое-чего. Слюнки уже текут. Мой младенец просит жрать! Сейчас, сейчас, говорю ему, сейчас мы с тобой затаримся, радость моя! А в корзинку, для отвода глаз, медленно и важно кладу так, кое-чего. Хрень всякую дешевую. Ну, чтобы хоть что-то купить и на кассе пробить.
Так я и приловчилась красть, мать! И мне не стыдно! Я нашему семейству денежную участь облегчала! И мальчонку кормила хорошо, то есть себя! И хохотала над собой: ни фига, Юлька-рогулька, че ты в Нью-Йорке-то творишь! Уголовщина какая-то!
Но остановиться уже не могла, да и весело это мне было, чертов адреналин, встрясочка такая! Ребенок мой, Джереми, в животе от радости кувыркается! Футболит меня! А я на кассу железную сетку несу. Плиз, улыбаюсь широко, во весь рот, как все они, пли-и-и-и-из! И кассир мне тоже: пли-и-и-и-из! И я ему на прощанье: сенкью вери мач!
А потом отойду в сторону и по-русски скажу тихо: Сенька, бери мяч! И опять хохочу.
А на улицу выйду – в карманы руку запущу, всю краденую снедь вытащу и в сумку набросаю. И, мать, героем по этому Джерси, еп, сити иду! А домой приду – мамулька хнычет: откуда это все, ведь у нас же денег нет, ты что, Юлька, ты ж пузатая, наглости в тебе хоть отбавляй, ты нам честно с отцом скажи, ты что, блядью заделалась?! Кому ты даешь?! За сколько?! Неграм?! Так ты ж, дура, заразу подцепишь, если без резинок!
Ну, Галька, я тебе скажу, я хохотала так, что у меня аж скулы болели. До коликов хохотала! А мамулька плакала. А потом мы вместе жарили свежую печенку на американской шикарной сковородке, и мамулька уже тоже хохотала и с аппетитом ела.
И вот однажды, я на сносях уже была, я зашла не в продуктовый отдел, а, знаешь, в наш, в женский, в бабий. В косметику, короче. Восторг! Умопомраченье! Каких тут только бабьих бирюлечек нет! И все фирма, и все дорогое, дорогущее. Тут тебе и “Ланком”, и “Ив Роше”, и “Клиник”, и “Эйвон”, и “Живанши”, и “Кензо”, и “Мэри Кэй”! И черт знает что и кто! И пудры, и тени, и тушь, и блеск, и румяна в шариках таких мягких, как темные вишенки или смородинки… и духи, духи! И вижу, таким военным строем, обоймой такой, патронташем убийственным выстроились помады! Сто помад! Тыща! Глаза у меня как примерзли к ним. Я сто лет не красилась уже. Только о жратве и думала. Да и не на что было бы все это покупать. А тут – вот оно все! Рядом.
Ну я и сказала себе: Юлька, ты ж смелая девица! Вперед и с песней! Не робей, воробей! Давай, давай, похить! Глупую такую, старую песенку ни к селу ни к городу вспомнила: похить меня, похить, похить, не похищалась я ни разу… Руку жадно так протянула. Мне наплевать было, откровенно говоря, какой у нее будет цвет. Розовый? Темно-коричневый? Сливовый? Земляничный? Ярко-алый? Кровавый? Малиновый? Или вообще цвета не будет никакого, так, блеск бесцветный, прозрачный? Начхать, шептала я себе, начхать, хватай скорей!
И схватила. И не заметила: камера-то – прямо над моей головой.
Ну, дура и дура, что с дуры взять. Оглянуться надо было! Головку задрать хотя бы!
Иду к кассе, натянуто улыбаюсь. Вот уже подошла. Кассирше все тридцать два зуба показываю. А их у меня по правде уже не тридцать два, а зубов двадцать осталось всего, еще в Питере все полетели, кальция, что ли, мало в костях. А кассирша мне странно не улыбается. На какую-то кнопочку под кассой пальцем давит, еп ее мать. И вижу – полицейский идет, плывет, толстяк, коп по-ихнему. Ко мне плывет! Я замерла. Помаду в кулаке, в кармане, крепко сжала. Так сжала, что она мне, гадина, в руку впилась! Коп мне что-то лепечет, сердитое. Кассирша на экране ему кадр остановленный показывает, в экран пальцем тычет. Маму вашу за ногу, догадалась я! Это они меня засняли! Все, улика налицо! И сяду я, блин, вместо роддома для нью-йорских бомжей и скамеечки, а рядом колясочка, в Сентрал-парке, и белочка ест из руки, в красивую и чистую американскую тюрьму! А сколько у них за кражу дают-то, соображаю, сколько, сколько?! Да ведь не знаю! Не знаю, но чувствую: много дают!
Везде, во всех странах мира за дерьмовый проступочек – тыщу лет дают. А за отмывку сотен миллионов баков – ни шиша не дают!
И меня пронзила вдруг мыслишка: эх, да везде несправедливость, а что толку, что мы сюда из Питера убежали! Одно утешает: ну мелкая кража-то, мелкая, меленькая такая! Помадочка жалкая… туда ее в качель… соблазнилась, блядь…
Коп меня за локоть – цоп! Я даже не вырываюсь. Он на меня так пристально глядит, огромный такой, горой надо мной навис! Я чуть присела от такой его величины. Не человек, а горилла какая-то! Орангутан. Боюсь. Двумя руками живот свой непомерный поддерживаю. А коп мне по-английски: плиз, кам виз ми! Ну я поняла: идемте со мной… И в сторонку отводит. К окну. И садится передо мной на подоконник. Одышка у него, грузный, толстый. В Нью-Йорке вообще много толстых людей. Гляжу я, мать, на него – глаза в глаза гляжу. И он же прекрасно видит, что я брюхатая и иностранка!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.