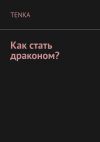Текст книги "Поклонение Луне (сборник)"

Автор книги: Елена Крюкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
Господи, Господи, Господи, опять, как в самолете, молюсь, в третий раз в жизни, ну что ж он на меня так смотрит! И вообще молчит! Заткнулся!
Молчит – и вдруг меня за руку берет. Ну, все, думаю, подлизушки начались! Ко мне-то, к пузатой рыбе фугу! Я усмехнулась так нехорошо. Надменно так. Он понял. Руку убрал. Я ему говорю гордо: ай эм рашен, энд ит из май бэби, – и на живот пальцем показываю. И думаю: блядь, я ж не могу ему сказать, не надо нас в тюрьму, пощади нас, кореш, отпусти нас!
Клянусь тебе, Галька, он все понял! Он все понял без слов!
И, ты знаешь, у него были такие глаза… ну, такие… такие…
Короче, я ни у кого никогда в России не видела таких глаз. Ни в Питере. Ни на Волге. Ни в Крыму, где мы с мамулькой когда-то отдыхали, в Симеизе. Ни вообще нигде.
И коп этот нежно так меня по руке голой гладит. И лепечет без перерыва, и я приблизительно понимаю, что он буровит: вот телефон, вот, позвоните, пусть позвонит по этому номеру тот, кто знает английский, ваши друзья, йес, йо френдз пусть позвонят, итс май фоун, май фоун, и пишет на бумажке, и тычет в бумажку толстым пальцем, и опять вдалбливает мне, внятно, громко, медленно: ворк! Ворк фор ю! Хэлп фор ю! Скрабвумен! Бат э гуд пэй! Гууууууд! Пэээээй!
И я, дурында, понимаю: работа, работа для вас, помощь для вас…
И тут меня осеняет. Он в тюрьму меня не тащит! Он помощь предлагает мне! Он тыкает мне в кулак свой телефон! Велит позвонить! Блин! Что это?!
И будто с небес, знаешь, подруга, слышу перезвон: “Это Нью-Йорк, Нью-Йорк это, а завтра, завтра твой сын родится!”
Короче, рождественская сказка. Санта-Клаус пляшет в супермаркете на первом этаже под елкой, и ручки-ножки у Клауса вихляются, как пластилиновые! А на елке чего только нет! И шарики, и рогалики, и хлопушечки, и игрушечки! И я реву как последняя дура, а полисмен этот толстый со щек мне слезки пальцами-сардельками вытирает, и улыбается толстыми губищами, и платочек, блин, вынимает из кармана широких штанин! Ну все, сладкие сопли и сладкие слюни…
И че, мать, ты думаешь? Я ж ведь уже пацана-то родила! Джереми!
И ни в каком не в роддоме для бомжей! А – ты только в обморок не падай, подруга! – у себя дома, на хате этой джерсевой, в ванне! Ну да, в ванне! Я в воду родила! В журнальчике одном прочитала! И мамульке сказала: не дрейфь, старуха, я тебе твоего внука в воду выпущу, как рыбку! Ништяк! Не бэ, все будет хэ! Что в переводе означает: не бойся, все будет хорошо! Двойрочка поахала, поохала, но я ее убедила! И мы с ней эту процедуру вместе отследили!
Знаешь, я сидела в ванне и тужилась, в теплой воде, да нет, не очень больно было, хуже зуб рвать, а потом Джереми из меня вышел головкой вперед – прямо в воду! И я его темечко увидела. Голое, в тощих волосиках, красное, и какое-то не круглое, а овальное, как оранжевая дынька! И он выскользнул живенько, и ножками в воде забултыхал, я заорала от радости, а мамулька смотрела на него под водой, как он там кувыркается, как в аквариуме! И вопила, у меня аж уши заложило: “Юлька, он плывет! Юлька, у него глазки открыты!” Потом она на полотенце его чистое подхватила, а я еле из ванны выбралась, еще ждала, пока послед отойдет. В общем, канительное это дело, роды, но, короче, ничего ужасного нет. Даже весело.
Очухалась, отлежалась – и к Мишеньке поехала, в Квинс. Вынимаю из кармана записку с телефоном копа того. Мишенька копу позвонил. Покалякал с ним недолго. На меня зырит, как на алмаз “Шах”. “Еп твою мать, Юлька, – говорит и затылок чешет, – там тебя чувак какой-то прикольный хочет устроить ни больше ни меньше в офис “Клиник”! В главный офис! Правда, уборщицей, но они там даже поломойкам платят будьте-нате! Они сидят в одной из башен Торгового Центра!” Я уже знала, где эти башни. Красивое место! Самый центр! “Охуеть, – я Мишеньке говорю. – Я уже прибалдела!” Мишенька на меня смотрит подозрительно: “Ты с этим чуваком спала, что ли?” Ты офигел, говорю, какое мне спанье было, с пузом-то?! Он так хитро: да ты сейчас уже не с пузом! Улыбаюсь. Улыбаюсь так мечтательно. И выдыхаю, ну прямо как в фильмеце сентиментальном с Ричардом Гиром: ну, поцеловались мы, да, мне понравилось. Такие толстые губищи, сексуальные. А кто он, Мишенька пристал, как банный лист. “Он-то? – говорю и ржу сама внутри, да и снаружи тоже, – он-то кто?.. да так, мелочь пузатая!.. да он торговый менеджер фирмы “Клиник”! Специалист… по духам и помадам!..” Блядь, Мишенька говорит, завидую я тебе, теперь все у тебя будет заебись, теперь будешь в духах купаться, в помаде кататься! Да не в духах и в помаде, ржу уже откровенно, как лошадь, во весь рот, а в долларах! Спасибо тебе, Мишенька, за-все-за-все-за-все! За то, что ты нас в Нью-Йорк этот очаровательный притащил! Я тебе этого – век не забуду!
Ну, ржет, надеюсь, что не забудешь.
И руку жмет. И мордой мне в шею тычет. И нюхает мои дешевые духи.
А я домой приехала сама не своя от радости! Мамулька, кричу, теперь мы спасены! Она: ах, ох! Папулька: ох, ах! Джереми орет как резаный! Бабка головой трясет в кресле! Короче, зашибенная семья! И я теперь, я, Джули Белосельски, буду ее кормилица и поилица! Эх, напиться бы в хлам, да грудью кормлю!
Так что, мать, Нью-Йорк это город чудес. И я его так люблю уже, так люблю! Как Джереми, люблю! Но по Питеру – да, скучаю. А если бабок у меня будет много – так что ж мне туда-сюда не летать-то, а?! Вот и буду летать! И привезу тебе, мать, теперь целый рюкзак всякой косметики от “Клиник”! Будешь краситься, мазаться и душиться всю, блядь, оставшуюся жизнь! Ну ладно, пока, а то я уж пальцами по клавишам устала брямкать, а Джереми в кроватке вопит, ему кушать меня надо! Ты тоже пиши, не забывай! Целую тебя! Может, когда ко мне в гости прикатишь! Твоя безумная Юлька Б.”
* * *
А потом, через совсем скоро, через месяц после Юлькиного этого балдежного безразмерного письма, взорвали эти две башни Торгового Центра. И я смотрела на всю эту пыль, грязь и жуть по ящику, на всю эту третью мировую войну, и меня всю трясло. Я думала о Юльке и думала: спаслась она или нет? И на каком этаже был этот офис великой, потрясающей, обалденной косметической фирмы “Клиник”? На первом? На сороковом? Какая, хрен, разница… Бедная маленькая кудрявая уборщица, кормящая мамка, матерщинница, скрабвумен… Обернется к окну. Луч ударит. Швырнет к стене швабру. Поправит пружину смоляных волос, отдует прядь от щеки. В одиноком луче блеснут пухлые, вкусные молодые губы, блеснет офигенная помада. Перламутр? Вишня? Коралл? Кирпич? Клубника? Что ты украла с заграничного прилавка, моя подружка? Смерть? Жизнь? “Они все там умерли, все”, – шептала я себе. Мне приснилось, как обваливаются, обламываются эти небоскребы. Я во сне не слышала грохота и криков. Но я чуяла носом гарь пожара и ужас белой пыли, она забивала легкие, и я во сне не могла дышать, и заорала, и вспотела, и проснулась.
И еще долго слушала, как кровь туго, оглушительно, дико ударяет мне по ушам.
Я строчила Юльке письма в моем интернет-кафе, одно за другим, одно за другим. Она не отвечала.
* * *
А еще через месяц мне позвонил из Нью-Йорка Мишенька.
Он так и представился по телефону: “Ай эм сорри, гуд дэй, здравствуйте, это Мишенька”. Мишенька, заорала я, Мишенька! Как вы там все?! Как Юлечка?! Как Двойрочка?! Как малышка Джереми?! Как вообще все?!
Долго он молчал в трубку. И я все поняла. И у меня слезы капали на колени и текли по подбородку и по шее.
А потом Мишенька тихо сказал, уже на плохом, с явным акцентом, русском языке: “Галичка, тетя Двойра перед смертью завещала мне найти вас. На столе у Юлички осталась записная книжка, в ней ваш питерский телефон, вот я и звоню. Она была в офисе на шестом этаже, во втором здании. Она еще успела позвонить по сотовому дяде Сэму. И попрощаться. Я сам хоронил тетю Двойру. И дядю Сэма. Они не пережили гибель Юлички. Только Юличку я похоронить не смог. Они все так и остались под завалами. И она тоже. Там одна пыль. И больше ничего. Тетя Двойра велела мне найти вас и сказать, что она завещает вам маленького Джереми. Сейчас Джереми у меня. Я кормлю Джереми и синего попугая. Я кормлю их хорошо, они получают все необходимое для жизни. Вы как предпочитаете, чтобы я прилетел с маленьким Джереми в Петербург? Или чтобы я сделал вам вызов в Нью-Йорк? Это ваше решение”.
Я слышала, как в трубке молча перекатываются тихие, беззвучные, страшные валы Атлантического серого, синего океана. И я разлепила чужие, будто мятные, холодные губы и сначала сказала: пусть это будет ваше решение. А потом что-то будто взорвалось внутри меня, и я заорала: я прилечу! Я прилечу! Конечно, я прилечу! Делайте вызов!
И Мишенька сделал мне вызов. И я стояла около посольства в небольшой, как мне объяснили, совсем маленькой очереди, а раньше-то тут давились, чтобы в Америку попасть, чтобы улететь по гостевой – или по рабочей – или по учебной визе, их там много видов, этих виз – и не вернуться, или вернуться и потом горько плакать, или вернуться – и заплакать от радости, что вернулся. Всяко ведь у людей бывает. Стою в очереди и думаю: а что ж Мишенька про бабку-то ничего не сказал, про Джереми сказал, про попугая сказал, а про бабку – не сказал?
А очередь о чем-то своем гудит, ну, надо же как-то развлекаться в ожидании. Но и молчит тоже. Люди стоят, молчат и думают. А еще думаю: и что ж на месте этих клятых взорванных небоскребов встанет? Другие небоскребы? Человечек так уж устроен. Разрушит на хрен, а потом опять построит. Муравей. А еще головой думает.
А может, муравьи тоже думают. Еще похлеще, чем мы.
Волнуюсь, виза-то гостевая, и лечу не к родне, а к друзьям. Могут и завернуть на сто восемьдесят. Я вспомнила, как Юлька все время, на каждом шагу, молилась, – и помолилась тоже.
Помогло! Дали визу. Консул такой молоденький попался, клевый парень. Он меня всю обсмотрел, пока вопросы задавал. Даже подмигивал мне, паразит такой! Но я как каменная была. Он по-русски, по-моему, лучше меня говорил. Беленький, стриженый. Синие глаза. Все в порядке, сказал весело, можете лететь. Я встала, чтобы уйти. Он мне в руку визитку сунул. Я сказала вежливо: сэнкью вери мач!
А в голове билось, как у больного муравья: Юлька, Юлька, да где ж тебя похоронили? Да где ж всех-то похоронили? А может, и косточек твоих не нашли, безумка ты моя, родненькая…
Вывалилась из двери. Ко мне люди из очереди бросились. Кричат: ну как, пустили?! Не пустили?! Разрешили?! Не разрешили?! Я рукой махнула: разрешили, говорю, – а мне кричат: а что ж ты красная такая, и плачешь?!
Я не заметила, что слезы по лицу текли.
Я очень волновалась, когда летела. Я же первый раз вообще на самолете летела. Ну вот такой юмор, первый раз в жизни! Зырила на все, как беспризорница на приеме в Кремле. Уши зажимала, мне казалось, все громко гудит и трясется, а потом уши закладывало, я глохла и толкала соседа в бок: а скажите, пожалуйста, вы тоже оглохли, или это только я одна? Сосед смеялся, подзывал стюардессу и шепотом говорил ей: принесите девочке чего-нибудь вкусненького, она боится. Я не боюсь, кричала я! “Вот видите, вы не оглохли”, – смеялся этот юморной мужик и обмахивался газетой, а стюардесса улыбалась во весь рот и нежненько пела: “У нас кондиционеры включены, вам помочь, вас не тошнит?” На всякий случай я сказала: тошнит! И стюардесса услужливо дала мне пакет. Ну, для сблева, значит.
Пакет понадобился мне при посадке. А я выдержала десять часов и думала – уже не понадобится.
Десять часов я все таращилась в иллюминатор, все глядела вниз, а внизу были только облака и океан. Облака и океан. И я впервые увидела, сколько же на земле воды. И как мало на земле земли. Господи, как мало.
Я сразу узнала Мишеньку в толпе встречающих – Юлька присылала мне Мишенькины фотографии. Он сильно махал мне рукой и улыбался. Тут все улыбались. Я тоже на всякий случай улыбнулась. Так, чтобы зубы было видно. “Тут так надо”, – подумала я. Мишенька подошел и крепко взял меня рукой за руку. Рука у него была теплая и крепкая. Он еще чуть-чуть сжал мне руку, и я сказала: ой! А он уже обнимал меня, и, да, да, он плакал. Улыбался во все зубы и заодно плакал. Вот такие пироги.
Мы нашли его машину среди стада других машин. Найти ее было очень просто: она была белая, да, белая! – когда-то, а теперь вся, ну живого места не было, была измазана, облита, выпачкана ну просто сверху донизу – и чем? Птичьим пометом! Я подошла ближе и расхохоталась. Мишенька, хохотала я и не могла остановиться, что ж это вы машину-то не помыли, а-ха-ха-ха-ха! – и ржу без остановки! Потом себе рот ладонью заткнула – у него лицо такое стало мрачное. Говорит: я утром из дома вышел, вас встречать ехать, а машина вот вся в дерьме. Помыть не успел. Птички тут такие у нас, да. Ну и что, цедит сквозь зубы, приеду и помою. Дверь резко распахнул. Опять улыбнулся с натугой: садитесь!
Я села, сумочка через плечо, без всякого багажа летела, на черта мне багаж, если меня тут живой багаж ждал! И мы поехали из аэропорта в Нью-Йорк.
А потом поехали по Нью-Йорку.
И Мишенька, пока мы ехали, все-все мне рассказывал. И про то, где едем. И кто из знаменитостей тут на какой улице жил. И про то, какое тут метро паршивое. И про то, какая тут красивая осень. И про то, как они тут с Радочкой хорошо живут, и как рады, что в свое время сообразили и сюда укатили. И про все такое. А про Юльку – ни слова. И про все семейство, которого больше нет, – тоже ни слова.
И я не спрашиваю. Не время, значит, думаю.
А когда мы приехали к Мишеньке домой, и он остановил этот свой обкаканный птичками лексус около дома, и я осторожно выбралась из него, чтобы не попачкаться, сумку к животу прижала и живот даже втянула, и когда тщательно вытерла ноги об коврик и вошла в дом, и когда прошла по белым-белым, как снеговым, коридорам, и запах такой вдыхала странный, хороший и вкусный, будто смешали вместе духи и жареную курицу, и когда вошла в гостиную, нарядную, как, бляха-муха, царская спальня в Зимнем дворце, и вдохнула еще раз, глубоко-глубоко, этот волшебный запах не знаю чего, то ли “Клима” с жареной дичью, то ли “Кензо” пополам с румяным антрекотом, то ли “Ив Роше” вперемешку с мясом на вертеле, или еще хлеще, на каминной решетке, – я их увидела.
Всех трех.
Джереми весело возился в маленьком цветном манежике. Бабка сухо, деревянно восседала в кресле. Клетка с попугаем торчала у нее на коленях, и она уже напрочь высохшими, какими-то папирусными ручонками обнимала ее.
Солнце ударило через стекло высоченного окна, и мне почудилось, что клетка – золотая.
– Баба Маня, – сказала я потрясенно, – баба…
– Джереми, – сказал Мишенька, улыбаясь, – май литл бэби! Дарлинг!
И обернулся ко мне.
И я сказала ему:
– Мишенька, почему ж вы не сказали мне, что баба Маня жива? Я думала, она тоже умерла!
– А вам хотелось бы, чтобы она тоже умерла? – спросил Мишенька.
Он по-прежнему улыбался.
– Да бросьте вы улыбаться! – крикнула я и по-настоящему заплакала, навзрыд. – Бросьте вы сейчас же улыбаться!
– Я могу сдать грэндмазер, как это, в дом милосердия, – сказал Мишенька, но улыбаться не перестал.
И я крикнула:
– Никакого дома милосердия! Не будет!
– Окей, – спокойно сказал Мишенька, – я так и думал! Пре-вос-ход-но!
Я подошла к манежику и взяла Джереми на руки. Он тоже улыбался, е-мое, и сверху у него было два зуба и внизу еще два! Он был тяжеленький такой! И я прижала его к себе и задрожала. Бабка неподвижно сидела в кресле. Синий попугай раскрыл кривой клюв и проскрипел натужно: “Гуд дэй! Гуд дэй! Гуд дэй! Твою мать!”
– Господи, говорить научился, – сказала я, и пот потек у меня по спине. – Чем это тут у вас таким вкусным пахнет?
– Это духи “Клиник”, – сказал Мишенька. – Юлька нам всем надарила. – Он поправился. – Подарила.
Наконец он сказал про Юльку. Я зажмурилась. Джереми обнял меня обеими ручками за шею. Он гукал и ничего связного не говорил. Ни английского, ни русского. Попугай говорил лучше младенца. Мишенька куда-то назад шагнул и исчез. И быстро появился, я и ахнуть не успела. В руках он держал коробочку. Откинул крышку. Я подумала, что это патронташ, и попятилась. А потом думаю: ты, дура, это ж конфеты!
– Презент, – сказал Мишенька. – Подарок. Это от Юльки. Тетя Двойра сберегла для вас. Это помада “Клиник”. Лучшая помада, – он подумал, – от “Клиник”. Простите, я как-то стал забывать, как надо сказать. Вы хотите есть, Галя? Хотите в душ? Душ по коридору направо. Вы должны хорошо отдохнуть!
– Спасибо, – сказала я, – обязательно, да.
– Отдохнуть, и потом мы поедем на кладбище, – сказа Мишенька. У него от постоянной улыбки могли уже заболеть щеки. – А потом приедем и все обсудим спокойно. Нас ждет много формальностей. Мы все сделаем отлично. Окей.
Я прижимала к себе Джереми, и Мишенька глупо стоял передо мной с этой коробкой в руках. Потом медленно поставил ее на край стола.
Я стояла, улыбалась и плакала, Джереми обнимал меня и гукал, бабка прямо, как на электрическом стуле, сидела в кресле, клетка светилась всеми золотыми ребрами, а попугай опять раскрыл клюв и противно, скрипуче прохрипел:
– Гуд дэ-э-э-эй! Гуд дэ-э-э-эй! Ай лав ю, твою мать!
И Мишенька осветил своей самой сверкающей улыбкой всю мою семью.
Зимняя Венеция
Я уже умерла.
Мне снится сон, что я умерла.
Нет, это я по-настоящему умерла, и я смешно, нелепо, ноги выше головы, лечу под облаками, и вспоминаю жизнь.
А что из нее такого хорошего вспомнить? Что ни вспомни, все хорошо. Жизнь – это россыпь разноцветных бус на твоей груди, юная девочка, старая баба. Ты идешь, стуча каблуками, и бусы на груди трясутся. Ты летишь среди облаков – и старая нитка рвется, и бусины валятся на землю, а люди думают: метеориты.
Я не шучу, я взаправду умерла, и красивое чувство пустой и великой свободы дает мне право распорядиться своей явью и своими снами. Здесь, под облаками, я снова сплю. И я вижу отсюда ледяную, зимнюю землю, я ее очень любила, а она не любила меня.
Свою любовь я играла моей земле на органе и на рояле, а потом опять на органе. Серебряные трубы органа росли из земли. Я взбиралась на них, как обезьянка. Мои пионерские горны, мои пастушьи свирели.
Другие люди теперь делают мою свирепую, нежную, последнюю музыку, и трубы трубят, и люди хлопают в ладоши в залитых маслом золотого света деревянных, краснобархатных залах.
В залах Парижа. Токио. Нью-Йорка. Праги. Кракова. Сиднея. Рима. Венеции.
Я никогда не была в Венеции. В Париже, в Праге, в Варшаве, в Кракове, в Лионе, в Марселе, в Милане была – в красивейших, прелестных, резных-кружевных городах Старой Европы, – а вот Венеция так и осталась призраком, мечтой, рыжеволосой католической святой, что вчера была веселой куртизанкой и жадно брала с мужиков золотые в мешочке за любовные роскошества и услады.
И все же однажды Венеция мне приснилась.
Здесь маленький, прерывистый вдох. Кувыркаюсь в облаках и вдыхаю холодный туман. Вздох легкой, как бабочка, жалости: жизнь есть сон. Наполовину – сон. Сколько мы спим в жизни? Еще одну, вторую жизнь. Не сетуй, не плачь, бормочи, если помнишь еще: “…и жизнь на сон похожа, и наша жизнь вся сном окружена…”
Дыши дальше. Лети меж облаков. Сон рассказывай.
…зимние каналы. Холодно. Кутаюсь в шубку, пальцы грею в странной, старинной муфточке, меховом бочонке. В сапогах на высоких, неудобных каблуках, как циркачка на ходулях, бреду по краю канала. Вода в них сияет-искрится, но у берега схвачена жесткой, блесткой, сахарной коркой. Этот смешной и слабый лед мерцает и вспыхивает под острыми, как длинные страшные иглы, лучами синих и лиловых фонарей. И все синее, лиловое, серое, льдистое, зимнее. Снег в Венеции?
Я иду краем канала и знаю: это Венеция. И я прилетела сюда на миг; и через миг отсюда улечу.
И вроде бы некрепким, смертельно опасным и соблазнительно-сладким льдом затянута вся поверхность черной воды, и вдоль по каналу – не гондола черной грудью деревянной разламывает лед, нет! – а смешные и страшные, невесомые сани несутся, и укутанные в шубы и шапки бедные и богатые туристы – в лодках-санях сидят, скоморохи, и хохочут! И я вижу, как сверкают их зубы. И настоящие, и вставные.
Я иду, и вдруг чувствую: идет кто-то рядом. Скашиваю глаза. Муфта дрожит. Перед лицом, колыхаясь белой тюлевой мещанской занавеской, идет, летит ласковый снег. Краем глаза я вижу седого, дородного мужчину, а краем сознанья – во сне – спрашиваю себя: он умирать приехал в Венецию, что ли?
Я открыто, нагло оборачиваюсь к нему. И он молча, с легкой грацией, галантно, непринужденно и насмешливо берет меня под руку.
И так мы идем с ним по краю зимнего канала, по краю сна и яви, как два старых супруга; как два встретившихся после разлуки, родных человека, и я не знаю его имени, а он – моего.
В том сне мы говорили о чем-то, я забыла. Помню снег, и фонари, и сладкую корку тонкого, как детский леденец, льда, и лодки как русские сани, и – еще помню: били часы на высокой башне. Помню тяжелую, чугунную истому сердца, говорящего тихо: “Так больше не будет никогда, и никогда ты его не увидишь”.
Скорей всего, мне приснился человек из моего прошлого. А может, из будущего, еще не прожитого мною.
А может, из другой жизни, что текла в одном времени, рядом с моею, – или еще только родится спустя много, много лет или столетий после меня.
И я так жалею, что не обняла его, не поцеловала. Что не разгладила кончиками пальцев морщины на лбу и седые усы.
…а может, это был вовсе не прошлый или будущий возлюбленный и жених мой, а – мой отец, художник, великий, несчастный и забытый художник; забытый временем, людьми и даже мною, грешной; и вот я воскрешаю его для людей, вот я иду с ним по берегу, по каменному парапету над венецианским каналом, – а ведь он, живописец, так хотел побывать в Италии, так любил великих венецианцев – Тициана, Тинторетто, Веронезе, Джорджоне, – и звал их любовно и пышно, полными именами: Тициан Вечеллио, Паоло Веронезе… А Тинторетто – это ведь прозвище: Маленький Красильщик, а по-настоящему парня звали Якопо Робусти. А Спящая Венера Джорджоне очень похожа на мою маму. Мать! Спи! Ты старая уже. Тебе восемьдесят три, а я, я не дожила до твоего возраста; хотя мне самой сейчас, летящей и веселящейся над землей в пухлых тинтореттовских облаках, это смешно – горевать над отмеренным сроком жизни. Каждому свой срок. Каждому своя Венеция.
Каждому своя краска – кадмий, краплак красный, ультрамарин.
Человек с седыми усами, с морщинами на лбу, дородный гранд, ты так и не выпустил из руки мой локоть под мехом овчинной старой шубки. Дубленка! Овца моя трусливая! Дубленая шуба старая… Я в тебе и в Сибири ходила. В Иркутске. На Байкале, под ветром култуком, в тебя куталась… Какая уж тут Венеция… Зеленый лед Ангары, байкальская толща отсвечивает синим металлом, внизу – на дне – камни, гладкие и цветные, и медленно, желтой свечкой в невесомости зимнего Космоса, горит-плывет рыбка-голомянка. Голомянка, прозрачная, медово-мягкая, вся слепленная из жира, и только ребрышки сквозь желтый восковой, церковный, святой жир, сквозь нежнейшее тельце просвечивают. Мертвый скелет – через огонь, через золотой призрачный, прозрачный свет – живым крестом чернеет. И имя у нее: го-ло-мян-ка… – голая вся на ветру, в воде ледяной, в черни и сини кромешной, в бездне мировой. Плывет и плачет. Воском горячим стекает, капает… Бедная… Нищая…
Блажени нищие духом… ибо их…
…ибо их есть Царствие Небесное.
…а у меня Царствия Небесного нет никакого. Я на земле стою.
…стою под порывами небесного, синего, злого култука; приехала из Иркутска – на автобусе – в поселок Листвянка – в свой театральный выходной – отдохнуть, рабочая музыкальная кляча: морозом надышаться, Байкалом наглядеться, небом напиться. Завтра опять две репетиции – и утром, и вечером!
Моя Сибирь! Ты – не Венецией мне была. Ты была мне – острым, серо-стальным саянским гольцом, похожим на острый топор; казнящей, неумолимой мощью природы всей твоей – рыжие шкуры тайги, озера-агаты, геологическим молотком беспощадно разбитые, отломы и сколы лазуритов – а обточи его кабошоном, и он похож уже не на нож медвежатника, а на Землю из Космоса! – попробуй, воспротивься натиску такому! Ты родила во мне ответную дерзкую мощь – Быть, Жить, Создавать. Женское дело рожать, да; но не по-женски всегда рожает женщина, а по-мужски, на это святое дело – ох какие крепкие, рьяные силы нужны, ох какое двужилие! В Сибири, молчаливой и угрюмой, быт плавно переходит в бытие, красноярские Столбы – в первобытный, жестокий узор созвездий, а если в пятидесятиградусный мороз на трассе у машины откажет мотор, а в салоне – семья, а еды – на один прикус, а бензина хватит, чтобы поджечь, вывернув, крича от горя, все четыре колеса, но и они когда-нибудь сгорят в отчаянном, предсмертном кострище, а до ближайшего жилья – пятьсот километров, – то наверняка замерзнет семейство, околеет, в ледяные столбы превратится.
Страшная смерть. Обычная, на морозе, сибирская смерть.
Сибирь, ты была мне морозным, скелетным театром смерти, где пела и плясала великая жаркая жизнь; и широко разевали рот мои певцы, меццо и тенора, и кричал, как зверь в тайге, режиссер, и отъезжали в сторону зимние, ледяные цветы аляповатых, наспех намалеванных декораций, – спектакль шел настоящий, а декорации были поддельные, ну, все как всегда.
Сибирь, ты была мне огромным, черным, белоснежным, страшным, старым, ледяным, железным роялем, и я на тебе играла, и стыли и крючились, и орали пальцы, и отнимала я руки от жестоких зверьих клавиш, чтобы на них горячо подышать, согреть их дыханьем, и снова ударяла по ледяному смоляному морозу, по белой россыпи посмертных звезд, – по милой, единственной жизни, что мне осталась еще, осталась.
Вот в такой край я и приехала, когда мне было… сколько лет? Молода я была тогда. А властители наши старые, старые были. Брежнев умер своею смертью: не на морозе, не у адского костра из шин и покрышек, – в кремлевской постели, на накрахмаленных простынях. Андропова подстрелили, и пуля отравлена была. Пожил немножко после покушения. А может, то черный, гадкий слух был, и прошел он, как дикий ветер сарма, с Байкала до Ангары, с Селенги до Енисея. Черненко тихо сгас, как свечка; старая партийная свечка, ха-ха. И на советский трон воссел мистер Горбачев – это нынче он мистер, потому что в Америке живет. А тогда кто он был? А тогда был – товарищ!
“Орленок, Орленок, мой верный товарищ, ты видишь, что я уцелел…” – пели мы когда-то в школьном хоре.
Я после Срединной, теплой даже зимою России, где, как собаке, можно было мне сладко уснуть в пушистом и теплом сугробе на Мытном ли, Тишинском ли рынке! – лицом к лицу оказалась с ужасом вселенских сибирских холодов, а превыше всего – с ужасом одиночества, ибо сильней, чем в молодости, одиночество не чуется ни в одном из времен жизни.
“Бурный поток, чаща лесов, дикие скалы – мой приют!” Песня Франца Шуберта всегда на губах. Клокочет в глотке. Медные трубы, лукавые скрипки.
Я была хорошей, дельной музыканткой. Я была смелой пианисткой, а органисткой – так и вовсе наглой: играла и “Пассакалью” до-минор, и Токкату и фугу ре-минор, и Фантазию и фугу соль-минор, и хоральные прелюдии, и много, много всего у Иоганна Себастьяна исполняла я – не раз слепой старик в громоздком, как грозовая туча, парике от моей безудержной наглости в гробу своем перевернулся!
А где, кстати, гроб его? В Лейпциге? В Любеке?
В Лейпциге, да, конечно; и близ Томаскирхе похоронили его. Похоронили – и забыли. На целый век. И его жизнь приснилась слепому ему. Прислышалась, как музыка.
…и Листа играла; и Сезара Франка; и стариков-немцев – Букстехуде, Николауса Брунса; и старых испанцев, и итальянцев старых – а вот рыжий монах Вивальди, небось, радовался на небесах, когда я его веселый и отчаянный Концерт ля-минор отчаянно валяла! Орган – такой коварный инструмент: зацепишь мизинчиком кончик клавиши – а на весь зал дикий рев раздается! На рояле легче, изящней скрыть фальшь, мазню, неряшливую грязь.
И угораздило же меня в Сибири – сразу, с ходу – влюбиться; да и человек-то тот был не ребенок, взрослый он был человек, с опытом, жизнь уже проживший, старше меня вдвое, а был он по профессии геолог, а жил он в Сибири, в Иркутске, и была у него семья, женка простая и добрая и двое детей, мальчики, – а вот ведь обнял он меня, на улице, в ветреный серый день, в серой штормовке, крепко прижал к себе и выдохнул, незнакомец, над моим затылком: “Здравствуй”, – и опешила я от такого приветствия, и хотела оттолкнуть нахала, дядьку-хулигана раскосого, и не двигалась, стояла, как ледяная статуя в парке, в кольце этих плотных, рабочих рук, в крепком, словно стальном кольце, и понимала – жизнь поворачивается густым, щетинистым, грубым, таежным боком, земля, шурша, клонится в звездной бездне, падает набок, – и я упала, обвалилась в любовь, или это она упала на меня: всем морозом лютым, всем дыханьем жарким – печь, яркая, хищная, дикая, оранжевая, огненная печь в старом зимовье.
“Здравствуй!”
А вокруг нас стояли, шли, копошились, смеялись, мимо летели беспечные и беспокойные, тоскливые и праздничные люди, и мы с Василием тоже были – два человека, на миг обнявшихся перед судьбой и природой, перед черным чугунным памятником знаменитому мертвецу; и мы отпрянули друг от друга, рассмеялись – и поняли, что все, связаны, сцеплены: навек ли, на миг – это уже не наше дело было, наше дело было – слушаться любви, идти в ее горы, по ее каменистой дороге.
И я нарочно назначила на ту зиму органные, сольные свои, грандиозные концерты в Иркутске.
А в Иркутске жила, вот удача, моя знакомая органисточка, полячка тонкая, белая лилия, Лидочка Янковская; и вот я про нее вспомнила! Про Лидочку светлую, золотую! Мне же на концерте – ассистент был позарез нужен! И звоню я Лидочке моей беленькой, яблочной: вот, Лидуня, так, мол, и так, хочу две сольные программы в лютом декабре сыграть, как ты на это смотришь? Помоги мне, прошу! Будь ассистенточкой моей!
И она мне лепечет-бормочет в трубку: “Ленка, Ленка!.. Голая коленка!.. Два сольных подряд!.. Ну ты даешь!.. А че это тебя разобрало, а?.. Че играть-то будешь, а?..”
И я кричу лилейной Лидочке в черные дырки трубки: “Баха! Листа! Брунса! Лангле!”
А она мне пищит: “А бисы?! Бисы-то у тебя есть?!”
“Есть! – ору весело. – А как же! Как же без бисов-то, Лид, а! Ну сама подумай! Бисы – Пассакалья! Токката и фуга дэ-моль! Пара хоралов крутых! И еще знаешь что?! Губайдулина!”
…для органиста очень важен ассистент. Он переключает штифты. Он включает нужные регистры. Он перелистывает длинные, как простыни, нотные страницы. Он, если сам органист не может и не успевает, просовывает ногу вниз, к педалям, и быстро, резко нажимает такой специальный рычаг – копуляцию: тогда орган удваивает звуковые усилия, ревет, как стадо быков, и мощь его становится сравнима с мощью симфонического оркестра из двухсот музыкантов! Ассистенты мои… Где вы сейчас?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.