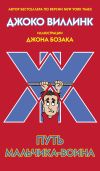Текст книги "Цаца заморская (сборник)"

Автор книги: Елена Макарова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
– Баба Ася! Пообещай при папе, что будешь играть со мной в лото по копейке.
– Обещаю, – улыбается она мне и подмигивает папе, чтобы он не думал, что мы только и будем в лото дуться, – мы и погуляем, и поспим, и почитаем.
На кустах, подвязанных к палкам, болтаются красные продолговатые помидоры. Этот сорт называется «дамские пальчики». Смешно. Разве бывают у дам такие пальчики?!
Под большими желтыми листами прячутся пупырчатые огурцы. Я подбиваю папу сорвать один и попробовать, но он отказывается, говорит, что рвать без спросу – это все равно что украсть. Знал бы он, сколько я тут всего накрала!
Между забором и улицей прорыта канава, в ней плавают утки. В эту канаву воду накачивают насосом. На улице прыгают девочки через веревочку.
– Тебе будет с кем играть, – говорит папа.
– А ты не поедешь с мамой в Москву? – спрашиваю я.
Мы усаживаемся на лавку у крыльца. Без меня и мамы ему будет грустно. Лучше бы я осталась и ходила с ним на работу.
Папа вздрагивает. Это у него с войны. Когда все хорошо, он редко вздрагивает, а в период неприятностей он часто передергивает плечами, словно хочет с них что-то скинуть.
– Нет. Честно говоря, туда меня не тянет.
– Почему же маму тянет?
– Мама – поэт, ей необходимы новые эмоции, новые впечатления, новые люди…
– А тебе? Ты ведь тоже писал на войне стихи!
– Ну, на войне… В мирной жизни все по-другому. Зато у меня есть ты, мое золотце, и это огромное счастье, – говорит папа и встает с лавки.
Папа меня обманывает. Он пьет, и у него печальная улыбка, как у Пьеро в «Золотом ключике». Взрослые все время что-то скрывают. Не станут же они говорить серьезно с человеком, который еще не ходит в школу. Вот у Карины Шмуц-Копейкес папа все время ездил в командировки, и там у него появились новая жена и ребенок. Вдруг у мамы появятся новый муж и ребенок?
– Если случится, что мы переедем в Москву, то обязательно отдадим тебя в художественную школу, – говорит папа. – И будешь ты у нас скульптором. Может, хоть из тебя выйдет толк.
– Толк выйдет, а бестолочь останется, – повторяю я Маркины слова.
Папа улыбается. Не грустно, а нормально улыбается.
– Какой ты у меня хороший! – Я обнимаю папу за шею, трогаю его жесткие волосы. От него приятно пахнет дымом от маминых папирос.
– Давай договоримся, – гладит меня папа по спине, – к моему приезду ты излепишь весь пластилин, и мы устроим выставку.
Ради папы я готова излепить всю коробку. Ради него я готова поступить в художественную школу и стать скульптором. Чтобы он мог мною гордиться.
* * *
В воскресенье дядя и тетя выходные. Значит, никакого лото и сон после обеда.
Мой дядя – директор техникума. У него тихий голос, и его боится весь техникум. Сам он низенький, худенький, а руки у него большие, как от другого человека. Когда он ест, он молчит, и все должны молчать. Тетя, наоборот, высокая, полная, румяная, с оранжевыми волосами, и у нее звонкий веселый голос.
С дядей они не спорят, не ругаются и не целуются. Кажется, что это чужие люди, которых поселили в одной квартире. Может, потому, что у них нет ни детей, ни кошек, ни собак. Им некого любить, кроме себя, а это, наверное, очень скучно.
Дядя зовет бабу Асю на «вы» и по имени-отчеству. По воскресеньям к бабе Асе не приходит ее подруга Соня – может быть, потому, что дядя запретил играть в азартные игры? С Соней и бабой Асей мы всю неделю сражались в лото. Кто выиграл – тому копейка. Соня глуховатая и подслеповатая. При ней надо громко говорить и следить за ее картами, потому что она пропускает.
В черном мешочке девяносто белых бочонков с розовыми ободками и розовыми выпуклыми цифрами. Тот, кто вынимает бочонки из мешка, покрывает ими цифры на картах, а остальные заполняют клетки пуговицами. Три заполненные клетки на одной линии – терна, четыре – квартира, а пять – амба, конец.
Мы по очереди выкрикиваем эти слова и, когда амба, берем из блюдца копейку. Соня не видит точки под шестеркой и путает ее с девяткой. Один раз из-за этого мы чуть ли не все наше состояние проиграли.
Соня ходит в фильдеперсовых чулках и туфлях на каблуке, носит узкое платье в черную и белую шашечку. И красит губы. А на бабе Асе – сто одежек и все без застежек. Но Соня любит бабу Асю не за внешность, а за доброе сердце.
Когда дядя и тетя на работе, Соня с нами обедает. Клюет, как птичка, низко склонившись над столом, а баба Ася ест большой ложкой и крошит хлеб в суп большими кусками.
В войну всю Сонину семью куда-то выслали, и никто не вернулся. Бабы-Асиного мужа тоже выслали, но он вернулся и умер. Когда я спрашиваю бабу Асю, что значит «выслали», она начинает говорить про что-то совсем другое, чтоб уйти от темы. А когда я спросила у дяди, что значит «выслали», дядя свел брови в одну линию и поинтересовался, кто мне это сказал.
Хитрый, думал, что я выдам бабу Асю. Не дождавшись ответа, он посадил меня рядом с собой и рассказал, как в старые времена высылали революционеров в ссылку. Ленина – и то высылали.
Герои-революционеры – это дядин конек. И главная его любовь, конечно же, Ленин. Ленина все должны любить, но не у всех дома висит его портрет. У дяди целая стена Ленинов. Напротив кровати, где я сплю, Ленин в своем кабинете пишет письмо. Настольная лампа освещает его руку и белый лист с буковками. Эта картина зелено-желтая, а другая, где Ленин смотрит вдаль, приложив руку ко лбу, розовая, и еще есть отдельная доска под стеклом с маленькими фотографиями, где Ленин снят с женой Надеждой Константиновной Крупской и с разными прославленными революционерами.
Дома над моей кроватью висит гобелен. Если в него уткнуться, видны только разноцветные нитки, а когда отодвинешься, то видны небо, облака и тихое море с кораблями на причале. Гобелен меня усыпляет. А Ленины не дают уснуть, и приходится притворяться. Стоит скрипнуть двери, и я зажмуриваю глаза.
Это дядя. Баба Ася меня никогда не проверяет.
Дядя был очень храбрым на войне, и у него много орденов. Они хранятся в коробке из-под духов «Красная Москва». Про войну дядя вспоминать не любит. Он говорит, что в мирной жизни надо думать о мирной жизни: хорошо кушать, хорошо спать и не убегать далеко от дома. Это и есть детская мирная жизнь.
– Не притворяйся, – говорит дядя. Сквозь прищуренные глаза я вижу полосатые пижамные штанины. – Никому еще не удавалось меня обмануть.
Я лежу затаив дыхание. Сейчас скажет, что притворство у меня от мамы. Шел бы лучше писать свою диссертацию. Я же ему не мешаю.
– Виля! – зовет тетя дядю. Она хочет меня спасти. Она-то знает, что я не могу уснуть днем.
Дядина нога медленно отлепляется от края кровати. Он уходит, но его взгляд так и остается на моей подушке.
– Пусть не спит, – успокаивает тетя дядю, – все равно она отдыхает.
– Неполноценный отдых, – возражает он, – при таком отдыхе не отключается центральная нервная система.
– Что же теперь делать, – громко зевает тетя. – Хорошо еще, что она растет послушным ребенком.
– С этим нельзя не согласиться, – поддакивает дядя, – но к чему это приведет в дальнейшем?
– Не забивай себе голову, – говорит тетя, – пусть об этом заботятся ее родители.
– Брата жаль! Сразу было ясно, что это за птица! С бо-ольшим полетом…
Шуршит бумага – дядя принялся за диссертацию.
– Можно вставать? – кричу я в портрет Ленина.
– Что тебе снилось? – спрашивает дядя, высоко подымая брови.
– Мишка косолапый, три медведя и Машенька.
Он же не может проверить мой сон!
– Самое страшное преступление – это ложь. – Дядя сводит брови в густую жирную полоску. – Ты меня поняла? Мне бы не хотелось, чтобы моя единственная племянница выросла лгуньей. А теперь одевайся!
* * *
– Мы думали познакомить тебя с хорошей девочкой, – говорит дядя, не отрываясь от писанины. – Но теперь мы в сомнении: достойна ли ты этого знакомства?
– Я хочу домой!
– Значит, ты против любой критики, даже справедливой?
Тетя строго смотрит на меня. Думает, наверное, что я неблагодарная и что зря она не повесила меня на простом слове «варенье», «в», пять черточек и «е». Наоборот, она даже намекнула на то, что слово вкусное, но я все равно не могла додуматься и называла неправильные буквы. Тетя уже нарисовала виселицу, крючок, человечка, остались дрова и огонь, и вдруг я как заору: «Варенье!»
Еще тайком от дяди она заводила мне пластинку «Мишка, Мишка, где твоя улыбка…». По дядиному мнению, мне такие песни рано слушать.
«Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, то, что ты уходишь от меня!» Почему мне нельзя слушать про мишку, которого приручили, а он все равно сбежал в лес? Он же не просил людей, чтобы они его приручали! Может, дядя против этой песни потому, что он сам всех любит приручать?
– Папа говорил мне, что судить нельзя, а критика – это суд, – говорю я.
– Трудно поверить, что у твоего папы столь превратное мнение о справедливой критике, – говорит дядя и указывает мне взглядом на табуретку, мол, садись, с этим делом надо разобраться спокойно.
Я утыкаюсь подбородком в стол. Он очень высокий. Это специальный стол, чтобы дядя не сутулился.
– В древности был миф о человеке, который сеял вредные идеи. Он и говорил: «Не судите, да не судимы будете!» С таким мировоззрением пролетариат никогда бы не взял власть в свои руки.
– Ребенку это трудно понять, – говорит тетя. Она стоит у трюмо и выщипывает брови.
– Можно в туалет? – спрашиваю я вежливо.
Уборная у них как у нас дома – ступеньки с дыркой. На полу стоят большие банки с огурцами и помидорами. Все они плотно закрыты медными крышками, а одна закрыта белой, и она легко открывается. Я присаживаюсь над дыркой, запускаю руку в рассол с листьями и вылавливаю огурец. Листенгартен запретила мне есть соленые огурцы из-за гастрита. Съем все и умру. Зачем жить, если тебе не верят? Чтобы не хрустеть, я сосу маленькие кусочки и глотаю не разжевывая.
– У тебя ничего не болит? – раздается под дверью звонкий тетин голос.
– Ничего. – Я встаю с корточек и проглатываю большой кусок огурца.
Всех волнует, болит у меня что-нибудь или нет! Умереть не дадут спокойно!
– Мы посовещались и решили познакомить тебя с Любочкой, – объявляет дядя торжественно.
А я ему:
– Откуда все взялось, когда ничего не было?
– Что конкретно тебя интересует?
– Конкретно – черепахи.
– Вот так вопрос, – усмехается дядя. – Именно черепахи? А откуда люди – это тебя не интересует?
– Меня интересуют черепахи, – настаиваю я на своем. Потому что дядя сам не знает, откуда они.
– Если человек произошел от обезьяны, – начинает он издалека, – то и черепаха образовалась из более низкого вида. Возможно, от ракообразных.
– А ракообразные?
– Возможно, из беспозвоночных.
– А няня Груня говорила, что все сделал Бог. Дунул, и стало. – При слове «Бог» дядя вздрагивает, как мой папа от контузии.
– Вот к чему приводят случайные няньки! Если бы тебя в свое время отдали в детский сад, ты бы подобных вопросов не задавала. И не слушала бы всякую пьянь, живущую на нетрудовые доходы.
– Значит, не пойдем к Любочке? – спрашиваю я в надежде на то, что они уйдут, раз договорились, а мы со старушками сразимся в лото по копейке.
– Обязательно и непременно к Любочке, – говорит дядя. – Тебе недостает нормального детского общения. Я серьезно поговорю с братом.
– А с мамой?
– И с мамой, – соглашается дядя. Хотя маму он терпеть не может. Потому что она неправильная, не такая, как все.
* * *
Тетя перед трюмо прикалывает к черной груди красные вишенки. Она розовая, пышная и ест всё подряд. А мама бережет фигуру. «Ну-ка, окинь меня беспристрастным взором, я не растолстела?» – спрашивает она меня. Тетя с удовольствием смотрится сразу в три зеркала, похлопывает себя по круглому животу. Он растет у нее прямо от шеи. Она отвинчивает крышечку от флакона, зажимает горлышко пальцем и опрокидывает флакон. Надушенными пальцами она мажет под ушами и под волосами.
Дядя бреется под Лениным: наводит полную миску пены, обмакивает в нее помазок и намыливает лицо. Настоящий Карабас-Барабас.
Я прокрадываюсь в прихожую, снимаю пальто с вешалки и выхожу на крыльцо. С пальто в руках я бегу за угол, сажусь на скамейку, вынимаю из рукава шапку и шарф и быстро одеваюсь. Я знаю, что это плохой, может быть, даже страшный поступок. Миновав дом Сони, я припускаю что есть духу в сторону водонапорной башни. За ней – общественная баня, около нее растет чудесное дерево. Оно без листьев, на тонких ниточках висят красные огурчики, вокруг них – венчики из светло-зеленых ниток с маленькими оранжевыми крапинками на концах. Никто не знает, как оно называется, про себя я называю его «божьим». Потому что Бог дунул, и все стало. Не мог же он названия давать. Он делает, а люди называют. Поэтому мы говорим «стол», а немцы – «дер тыш».
Мы с няней Груней ходили в армянскую церковь. Там повсюду нарисован Бог. У него черная борода и большие черные глаза, и похож он на крестового короля. Няня Груня целовала крест в его руке. А потом появился живой Бог в длинном черном платье, и все стали креститься. «Это он дунул, и все стало?» – спросила я у няни Груни, и она приложила палец к губам. А когда мы вышли из церкви, она сказала, что живой Бог – это священник, а все сделал бессмертный, который на иконах. Марка говорит, что это чепуха на постном масле, что нет никаких бессмертных и что от всех нас останутся одни кости – скелет и череп. Дяде-то легко превратиться в скелет и череп. Но вообще это очень страшно.
Я прижимаюсь к серому стволу. Над головой – чудесные нитки с желтыми шариками, красные огуречики подрагивают на ветру. Все разное. Цветок не похож на цветок, жук – на жука, человек – на человека. Как это получилось?
«Вырастешь – узнаешь!» – говорят взрослые. Почему же тогда дядя вырос и не знает, откуда черепахи? А мама не знает, есть Бог или нет. Иногда ей кажется, что есть, а иногда – что нет. А папа говорит, что многие люди до конца жизни ничего не понимают. Значит, у жизни есть конец? Почему тогда у мира нет конца? Мир – это тетушкин глобус. Он обклеен белыми бумажками, а на бумажках написаны названия жуков. По круглому тетушкиному миру ползают одни жуки, и тетушка говорит, что на земном шаре Богу нет места. Но может, он летает вокруг? Оказывается, и там ему нет места. Потому что Земля – это лишь одна из многочисленных планет, которые кружат в космосе; там тоже все занято.
Няня Груня говорит, что Бог «вовсюды» – и в небе, и в душе. Но в тетушкином «Анатомическом атласе» есть всё: все внутренние органы, все кости, все мышцы, все суставы, сосуды, печень, легкие, сердце, – а «души» нет.
В домиках за заборами зажглись огни. Пора возвращаться. Но тут я слышу звонкий тетин голос:
– Мерзавка! – И она хватает меня за руку. – Вот тебе, вот тебе, вот тебе! – толкает она меня в спину.
Дядя стоит в дверях. Он молчит и так страшно смотрит, что я не могу расстегнуть пуговицы на пальто.
– Ты испортила нам воскресный вечер. Объясни, пожалуйста, чем мы это заслужили? – спрашивает у меня дядя спокойно, а тетя всхлипывает и вытирает слезы кулаком. – Не огорчайся, дорогуша, – говорит он тете, – мы оставляем тебя и удаляемся на закрытое совещание. Прошу! – указывает он мне на дверь. – Скажи мне такую вещь… – Дядя садится за стол лицом к Ленину под лампой, а я – напротив. – Что побудило тебя к бегству? Не надо грызть ногти. Оставь руки в покое, и давай думать вместе.
Трудно выдерживать дядин взгляд, но и по сторонам смотреть нелегко. Везде один и тот же человек.
– Когда Ленин был маленьким, он шалил, как все дети. Но потом его мучила совесть. И он признавался в содеянном. Это требует душевного мужества. И твой папа был шалуном. – Дядя умолк и задумался. – Что мешает тебе просто уважать нас?
– Я хочу домой!
– Это не ответ. Но решение. Завтра я свяжусь с папой по телефону. А пока – спокойной ночи.
Дядя уходит. Мне становится страшно, и я во всю глотку ору:
– Баба Ася!!!
И она приходит, расстилает мне постель, укладывает меня и садится рядом.
– Спи-поспи, голубушка, – приговаривает она, – пусть тебе приснится белочка с золотыми орешками. У белочки лапки проворные, она скоро орешек вылущит и за другой примется. Поспишь, а наутро все печали улетят, что вороны с дерева снимутся, и айда в другую сторону.
* * *
Хорошо утром! Впереди целый день, дядя с тетей вернутся поздно, и до самой темноты мы будем втроем: Соня, баба Ася и я.
Баба Ася штопает дядин носок. Она натянула его на стакан и водит по нему иголкой. За штопкой она напоминает черепаху Тортилу из «Золотого ключика».
На столе в серебряной миске – горячие пирожки. Соня держит пирожок двумя пальцами, а мизинец отставляет в сторону.
И тут появляется папа. Видно, дядя связался с ним по телефону, потому что он небритый и глаза у него красные.
– Как раз к завтраку, – громко говорит Соня. Она плохо слышит, и ей кажется, что другие тоже плохо слышат. – Присаживайтесь, пожалуйста.
– Нам надо ехать, – говорит папа.
– Успеете, – машет рукой баба Ася, – съедете. День только начинается.
– Мы улетаем в Москву, – говорит папа, – нас ждет машина.
– Там же снег, – ахает Соня и просыпает мясо из пирожка на скатерть.
– Мы ненадолго.
– Оставили бы ее нам, – говорит баба Ася, – уж я бы за ней приглядела.
– В другой раз, – улыбается папа сквозь зубы. – А сейчас нам действительно надо спешить.
Баба Ася складывает пирожки в бумажный мешок и подает папе.
– Скушаете по дороге, до Москвы путь долгий.
Дома все вверх дном. Пепельницы полны окурков, на столе – грязные кастрюли, на полу – смятые газеты, а на постели лежат моя шуба и шапка с помпоном.
Оказывается, мама заболела в Москве, она очень по мне скучает и, как только увидит меня, сразу выздоровеет. В окно льется свет, яркими лентами разрезает стену. Это мешает спать, и я верчусь в постели.
– Давай ко мне, – зовет папа. Оказывается, и он не может уснуть.
Я на цыпочках перебегаю из своей постели в папину. Папа гладит меня по голове и по спине.
– Золотце ты мое, – говорит папа, – зачем ты удрала от дяди и тети?
Оказывается, дядя уже успел ему накляузничать. Почему же он до сих пор молчал?
– Мне было грустно, – объясняю я папе.
– Надо быть терпеливой, – говорит папа. – В жизни многое приходится терпеть. Чтобы не обижать других людей. Даже когда они не правы.
* * *
Мама лежит в Москве, в чужой квартире, на голубом диване с серебряными разводами. Под головой у нее диванный валик. Две маленькие черненькие собачки, Клякса и Вакса, уже охрипли от лая. Огромная женщина в халате с золотыми блестками громко поет перед зеркалом. Это Нора, хозяйка.
– Мамочка, мамочка! – Я давно уже сижу около нее, но она меня не видит. Раньше, когда она не видела, она узнавала по голосу. – Это же мы с папой! – шепчу я ей в ухо и глажу ее прохладную руку, свисающую из-под одеяла.
– М-м-м… – откликается мама, не открывая пересохшего рта.
– Ты же сказала, что как только меня увидишь, то сразу выздоровеешь!
Это и есть старинный московский дом, в котором, как объяснял мне папа в самолете, мы увидим маму.
Папа ходит взад-вперед по длинному темному коридору. Клякса и Вакса сопровождают его шаги хриплым лаем. А хозяйка поет. У нее вечером спектакль.
В огромной квартире живут всего трое – Нора-певица, бородатая старуха Алиса и Милада. Никаких соседей. Только они. Милада, дочь Норы, ночью сочиняет песни, а днем спит, поэтому шуметь нельзя.
В коридоре на маленьком столике стоит большой черный телефон, а на стене над ним понаписано много-много цифр через черточку. Папа снимает трубку, крутит диск и кладет трубку на рычаг. Кому он хотел позвонить? Он же сам мне сказал, что в Москве у него нет ни одного знакомого.
– Что сказал врач? – спрашивает папа Нору.
– Покой, покой… – поет Нора, – покой нам только снится.
– Я вот тут привез…
Папа развязывает сетку и выкладывает на телефонный столик гранаты и айву. Белые хризантемы, которые папа забыл поставить в вазу, осыпаются на пол. Нора встает на колени и собирает лепестки.
– В нашем доме ничего нельзя оставлять без присмотра, – вздыхает Нора огромной грудью, – Клякса и Вакса все раздирают на мелкие части. Славно, что вы приехали, – напевает Нора, продолжая стоять на коленях. – Вы впервые в Москве? Москва ошеломляет, как первый выход на сцену.
– Мы приехали из-за мамы, а не из-за Москвы, – говорю я.
– Прогуляйся по квартире, – говорит папа. Я ему мешаю.
– Только в Миладину комнату не заходи, – предупреждает Нора.
Милада спит. Мама спит. И собаки уснули на подстилке.
На раскрытом рояле – ноты и чашки с коричневой жижей на дне. На стенках – картины, на них крупными мазками застыло масло. Родик ни одного живого мазка не оставляет, он все заглаживает железной лопаткой, а тут как легла краска, так и осталась. Красиво, хотя и непонятно, а у Родика понятно, но некрасиво. Еще висят разные портреты Норы. Наверное, она знаменитая, раз ее столько рисовали: то она поет, то сидит в черном платье на серебряном диване, и из платья у нее видна грудь.
На кресле валяется бархатное платье, из-под него торчит кукольная нога. Я приподнимаю тяжелый бархат и замираю: таких живых кукол я никогда не видела. У нее тусклые карие глаза почти без ресниц, как у человека, человеческого цвета рот и волосы человеческие, а руки, ноги и туловище – тряпочные. Даже платье на ней не кукольное, в оборочках, а длинное и мятое, как ночная рубашка после сна.
– Я не могла ее везти с этим в больницу, – доносится из кухни певучий голос. – Я так растерялась! Она приехала веселая, с друзьями, мы пили, пели, читали стихи, был чудесный вечер, а потом все это случилось.
Я останавливаюсь у кухни с куклой в руках.
– Значит, никакого явного повода не было?
– Может, и был, но мне он неизвестен. Видели бы вы, что с ней творилось! А у меня, как назло, спектакль. Я не могла вам не позвонить. Спасибо Алисе – она от Зины не отходила.
– Вчера я не мог вылететь. Девочка была у брата, далеко от города.
– Надо было ее там и оставить. Зачем ей такое потрясение!
– Тьфу-тьфу не сглазить, она у нас необыкновенный ребенок.
– Мой ребенок, надо сказать, тоже весьма необыкновенный. Влезла в какое-то общество гениев, курит без передышки и не желает ни учиться, ни работать. А все потому, что сама я вела безумную феерическую жизнь и думала, что это не отразится на ребенке.
Раздается грохот и страшный вопль: «За что?! За что?!»
Я бегу на кухню. Нора стоит на коленях и, подняв руки, повторяет: «За что?! За что?!»
Я бросаюсь к Hope, тычусь в ее большую мягкую грудь.
– Не удержалась, – улыбается Нора, подымаясь с коленей. Сквозь пудру просвечивают красные щеки. Нора похожа на большую куклу, которую надевают на чайник, чтобы он не остывал. А кукла в моих руках похожа на живую девочку. – Моему партнеру не позавидуешь, – говорит Нора, – поднимать такую тушу пять раз в течение одного акта!
Дверь напротив телефонного столика открывается, и оттуда выходит красивая заспанная девушка в сером халате. Из-под халата – белая ночная рубашка до пят. Это Милада.
– Ну что, так и не очнулась? – потягивается она. – Кошмар! – Она садится на маленький стул около телефона и набирает номер. – Алё, – басит она, дует в трубку, – алё! Я только встала. Позвоню, когда прочухаюсь. Салют.
Скорей бы мама проснулась и мы бы увезли ее домой.
– Папа, позови врача, – плачу я, – пусть он разбудит маму!
– Только без слез! – говорит папа строго.
И в эту минуту распахивается входная дверь и появляется старуха с палкой.
– Везде очереди, – говорит она, – приезжие хапают по пять кэгэ песку на рыло. Прибыли, – замечает она нас и ухает на пол тяжелую сумку.
С хриплым лаем несутся к старухе Клякса и Вакса.
– Дуры! – тычет она собак палкой. – Ничего я вам не принесла. Принесла, принесла. – У старухи тонкие губы и длинные морщины около губ. Как буква «н». – Как там дела, – кивает она в сторону комнаты, где спит мама, – получше?
В комнате, где спит мама, синие обои с золотыми колосьями. А мама бледная. Ее тонкие черные волосы, как паутинки, рассыпаны по подушке. И никто ее не спасает!
– Нравится кукла? – спрашивает Алиса.
– Да. – Я и забыла, что держу куклу.
– Иди ко мне.
Алиса вводит меня в темную комнату, раздвигает шторы палкой, и комната становится желто-коричневой. Мы садимся на огромную постель.
– Расскажи-ка мне: как тебя зовут, сколько тебе лет, что ты любишь?
У Алисы тихие серые глаза и короткие волосы ежиком, как у мужчин.
– Разве мама вам обо мне не рассказывала?
– Рассказывала, конечно. Но я старая и люблю все по порядку. Тогда я запоминаю. Значит, тебе нравится кукла? – Алиса раскачивается, как маятник на тетушкиных часах, и сама она похожа на старинные часы. – Это французская кукла моей бабушки! Представляешь, что это за ветхость. Теперь все куклы на одно лицо – лупоглазые и глупые. А эта умненькая. Как ты. Я вижу, что ты умненькая. Откуда, интересно, у тебя столько веснушек? Рассказывай, рассказывай, только по порядку. Кого ты больше любишь, маму или папу? Значит, обоих? Ладно, – раскачивается Алиса, – а что ты умеешь делать? Рисовать? Лепить? Книжки читать? Про что? Про животных, сказки или про людей? Что же ты молчишь? За маму волнуешься? Мама твоя учудила. Но все пройдет. Вообще все взрослые дураки. Я тоже старая дура. Милада называет меня маразматичкой. Как тебе это нравится? Скажу тебе по секрету: я собираюсь переезжать в инвалидный дом. Я говорила, что стою в очередях, а на самом деле возила в Измайлово справки. Туда тоже так просто не попадешь. А ведь я была молодая. В меня влюблялись знаменитые люди. Слышала про Маяковского? Он меня рисовал. Милада считает, что он мне польстил. Разумеется, польстил, раз питал нежные чувства. Потом слышала про такого, Мейерхольда? Я у него играла. Ты Пушкина знаешь? «Сказку о царе Салтане»? Так вот эта дурища отвергает Пушкина. Как после этого жить вместе? Знаешь, чем я сейчас занимаюсь? Я позирую в художественной школе. На портрете без поворота 60 копеек в час, с поворотом – 80 и рупь за фигуру, необнаженную, разумеется. Ты вообще умеешь разговаривать? Покажи-ка язык. Язык на месте. Мы с тобой подружимся. Когда Милада была маленькая, мы с ней очень даже дружили. Нора с утра до вечера в оперетте и душераздирающих романах, а мы с Миладой сколько книг перечитали, сколько песен перепели. Ты меня не бойся. Я всегда накидываюсь на новых людей. Я очень люблю новых людей, особенно маленьких. Встань-ка как следует. Что-то мне не нравится твоя осанка. – Алиса пересчитывает пальцем мои позвонки, кладет ладони мне на бока, подравнивает плечи, жмет на живот. – Куда смотрят твои родители, – возмущается Алиса, – с тобой надо заниматься по методу Далькроза.
* * *
Мама все еще спит. Нора собирается в театр. Она сидит перед зеркалом в темном тугом корсаже; из лифчика, как пломбир из вафельных стаканчиков, вылезают белые полукружья грудей. На трюмо – множество баночек с красками, Нора мажется и пудрится, мажется и пудрится. Живыми остаются только ее глаза. Их же внутри не покрасишь.
– Как меня расперло! – восклицает она громко, но мама все равно не просыпается.
Дома, когда она спит, мы ходим на цыпочках. А здесь все кричат, лают, а маме хоть бы что.
Почему Алиса – Норина тетя? Может, она тоже взяла Нору из детдома?
– Потуже, потуже! – командует Нора.
– Ты же петь не сможешь, – ворчит Алиса, а сама изо всех сил затягивает шнуровку на корсаже. – Садись на диету или бросай оперетту!
– Еще ты будешь мне мозги полоскать! – рявкает Нора.
– Выбирай выражения, – говорит Алиса, указывая на меня в зеркало.
Да, Нора точно из детдома. Алиса, наверное, искала девочку, совсем на нее не похожую. Нора пышная, яркая, с большущими черными глазами, а Алиса блеклая, бесцветная.
Папа моет посуду. Из крана течет вода, и от нее идет пар – такая она горячая, но папа этого не чувствует. Он сейчас ничего не чувствует, даже того, что я стою за его спиной.
– Такой выпал день, – говорит папа. – Завтра мама проснется, и мы отправимся смотреть Москву.
Москву видно и из окна. Папа вытирает руки и ставит меня на табуретку.
– Это знаменитое Садовое кольцо!
Чем оно знаменито? Тем, что широкое и много машин? Снег засыпает «Победы» и «Москвичи», косой снег, не хлопьями, а белыми прерывистыми полосами. На крышах домов он белый, а на земле – серо-черный, и машины забрызгивают друг друга жижей. Мигнет светофор зеленым, и серо-черная толпа бежит на противоположную сторону и теряется за троллейбусами.
Похоже на фильм, который мы с Маркой смотрели по телевизору. Это был немой фильм, без слов. Там люди не ходили, а бегали как сумасшедшие. Марка сказала, что это смешно, потому что такого на свете не бывает. Оказывается, бывает. Наверное, Москва – это немое кино на улице. На улице немое, а дома шумное. Нора поет: «Позвольте вам признаться, очень мило нам оказаться в собственной квартире…», Клякса с Ваксой сидят у двери и лают, когда в подъезде раздаются шаги. Одна мама спит и никак не может проснуться.
* * *
К маме пришел врач, и папа попросил Алису со мной погулять. Вот мы и идем за пончиками.
– У вас в Москве бывает солнце? – спрашиваю я Алису.
– Раньше было, – говорит Алиса. У нее на пальто – облезлый бурый воротник, а на ногах – боты на кнопках. – Раньше такие морозы ударяли и солнце сияло на голубом небе, а теперь машин развелось, будь они трижды прокляты!
При чем тут машины?
На углу – стеклянный киоск. Продавщица в белом колпаке нанизывает на огромную вилку коричневые пончики, скидывает их в кулек и посыпает сахарной пудрой.
Алиса вытряхивает из варежки мелочь на блюдце и кладет кулек в черную драную сумку.
– Одно дело сделали, теперь давай гулять просто так.
Гулять Алисе еще трудней, чем Луизе Вольдемаровне. Она хромает, и при каждом шаге ее левая нога подгибается до земли.
– Иди с этой стороны, – говорит она, – а то я буду задевать тебя палкой. Вот тебе и Москва – не на что порадоваться. Осталось кое-что: Старый Арбат, Кремль, Замоскворечье, Яуза, а наше место стало совсем неприглядным. Давай-ка лучше прокатимся к Пушкину!
В троллейбусе Алиса разворачивает кулек. Мы едим пончики, нагнувшись, и держим ладони под подбородком, чтобы сахарная пудра на пол не сыпалась.
– Смотри, – указывает Алиса в окно, – вон метро. Снаружи дом как дом, а внутри все мраморное и эскалатор. Приезжие от этого без ума. А мне оно осточертело! Все хмурые, уставшие, толкутся в тесном вагоне. Как в преисподней. А без него не проживешь. В Измайлово иначе как на метро не доберешься.
– А зачем вам туда?
– Я уже тебе говорила: старая я и всем в тягость. Жизнь – это для молодых, старикам в ней делать нечего. А с таким характером, как у меня, лучше жить отдельно. Это я с тобой овца, а со своими я – волк! Нет, пойду помирать в Измайлово.
– А вы не боитесь помирать?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?