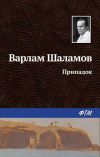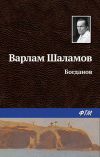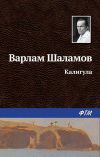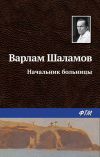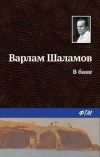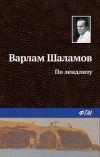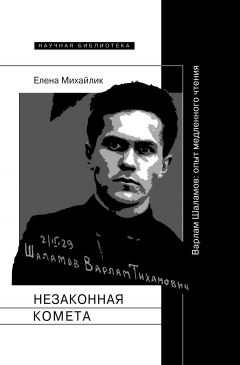
Автор книги: Елена Михайлик
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Ни о какой спонтанности, ни о какой непосредственности не может быть и речи. На всем протяжении сборника Шаламов постоянно и с большим воодушевлением обсуждает с читателем свой выбор изобразительных средств. В рассказе «Заговор юристов», описывая свое путешествие навстречу новому следственному делу, очередной двойник автора походя заметит: «Драматургу надо показывать Север именно в дорожной столовой – это наилучшая сцена» (1: 196)[70]70
Шаламов так и поступит позже в пьесе «Анна Ивановна».
[Закрыть].
Рассказ «Галстук» начинается словами:
Как рассказать об этом проклятом галстуке? Это правда особого рода, это правда действительности. Но это не очерк, а рассказ. Как мне сделать его вещью прозы будущего – чем-либо вроде рассказов Сент-Экзюпери, открывшего нам воздух. (1: 137)
Повествователь прикинет, каким должно быть оптимальное соотношение «автор – материал», поделится своим представлением о том, в каком направлении будет двигаться современная проза, – и только потом начнет рассказывать о Марусе Крюковой, хромой девушке из Японии, замечательной вышивальщице, неудачно травившейся вероналом. Последнее, впрочем, произошло уже много спустя после истории с галстуком и не имело к ней отношения – а потому автором не рассматривается. Отбор значимых деталей для рассказа производится в присутствии читателя[71]71
Казалось бы, столь демонстративное использование художественных приемов практически исключает возможность классифицировать «Колымские рассказы» как персональный документ, как «литературу факта». Тем не менее и в самиздатском, и в печатном бытовании рассказы воспринимались в первую очередь как свидетельство очевидца. Так, Михаил Золотоносов может на одном дыхании процитировать фрагмент, в котором Шаламов строит сложную метафору, опираясь на цитату из «Утопии» Томаса Мора, и заключить, что в шаламовской прозе нет «глубинного смысла, вообще двусмысленностей» (Золотоносов 1994: 178).
[Закрыть].
При этом если в пределах каждого конкретного текста элементы сюжета, подробности быта и прямые или косвенные оценки, даваемые происходящему, «стыкуются» между собой, то в пределах каждого конкретного цикла – а Шаламов считал композиционной единицей «Колымских рассказов» именно цикл – расхождения, противоречия, сбои присутствуют не менее видимо, чем разговоры с читателем о художественных решениях.
В рассказе «Одиночный замер» (в общем списке рассказов цикла он идет пятым) заключенный Дугаев, 23-летний бывший студент, «доплывающий» в забое, видит характерные сны:
Последнее время он спал плохо, голод не давал хорошо спать. Сны снились особенно мучительные – буханки хлеба, дымящиеся жирные супы… Забытье наступало не скоро, но все же за полчаса до подъема Дугаев уже открыл глаза. (1: 61)
Судьба персонажа на этом рассказе и оборвется: Дугаев попадет на заметку как плохой, негодный работник, получит от нарядчика одиночный замер – персональную рабочую квоту, выполнит за смену всего четверть этой квоты (удивившись, что сумел сделать так много) и будет через два дня расстрелян за саботаж, выразившийся в злостном невыполнении нормы.
Но вот сон его не уйдет.
Четыре рассказа спустя, в рассказе «Сухим пайком», эти же самые буханки будут видеть во сне очень разные люди: бывший передовик производства Иван Иванович, который в финале рассказа повесится от безысходности, бывший студент Савельев, алтайский подросток Федя Щапов – и сам рассказчик.
…И одинаковые наши сны, ибо мы все видели во сне одно и то же: пролетающие мимо нас, как болиды или как ангелы, буханки ржаного хлеба. (1: 84–85)
Но, может быть, эта общность – всего лишь преломление физиологического опыта, настолько жестокого, что самый, казалось бы, индивидуальный, нестойкий, уникальный продукт деятельности человеческого мозга – сны – рано или поздно в каждом случае сводится к общему – пищевому – параметру? Тем более что люди, находящиеся в одинаковых, истребляющих их обстоятельствах, формируют под влиянием этих обстоятельств суждения, отличимые разве что оттенками речевой манеры (а за каким-то пределом и вовсе неотличимые).
Ведь герои «Одиночного замера» и «Сухим пайком» совпадают друг с другом не только снами:
Дугаев, несмотря на молодость, понимал всю фальшивость поговорки о дружбе, проверяемой несчастьем и бедою. Для того чтобы дружба была дружбой, нужно, чтобы крепкое основание ее было заложено тогда, когда условия, быт еще не дошли до последней границы, за которой уже ничего человеческого нет в человеке, а есть только недоверие, злоба и ложь. (1: 61)
Все четверо случайных напарников из рассказа «Сухим пайком» тоже успели прийти к тем же разрушительным выводам:
Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Те «трудные» условия жизни, которые, как говорят нам сказки художественной литературы, являются обязательным условием возникновения дружбы, просто недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей – значит, это нужда не крайняя и беда не большая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. (1: 84)
Казалось бы, ответ есть, причины схождения установлены – дело просто в истирающем человека лагерном быте.
Однако немного позже, в рассказе «Хлеб» читатель неожиданно знакомится с источником общего морока, общих снов, общей мечты. За километры и километры от рудничных и горных «командировок», в Магадане доходяги из тифозного карантина получают временное распределение строительными рабочими на хлебозавод:
Я вдыхал запах хлеба, густой аромат буханок, где запах горящего масла смешивался с запахом поджаренной муки. (1: 116)
Мастер, увидев, что новые рабочие слишком голодны, чтобы сделать что-нибудь осмысленное, дает им буханку хлеба. Но некачественного, второсортного. И заводской кочегар, возмутившись такой скупостью, приносит им другую, «настоящую», из 30-го цеха, где хорошо пекут. А что делать с неправильной?
И, взяв в руки буханку, которую нам оставил мастер, кочегар распахнул дверцу котла и швырнул буханку в гудящий и воющий огонь. (Там же)
После работы рассказчик возвращается в барак и обнаруживает, что принес с собой не только тот хлеб, который ему удалось спрятать для соседей, но и, если можно так выразиться, саму идею хлеба:
Всю ночь передо мной мелькали буханки хлеба и озорное лицо кочегара, швырявшего хлеб в огненное жерло топки. (1: 118)
Пока эти сны существовали сами по себе, как часть скудной внутренней жизни персонажей, они могли быть и случайным авторским самоповтором, и характеристикой лагерного мира и самочувствия его обитателей. И тут в тексте рассказов появляется персонаж, который побывал на хлебозаводе и первым увидел во сне летающие буханки. С этого момента присутствие одного и того же образа в снах никак не связанных друг с другом людей с необходимостью опознается как литературный прием, как способ одновременно повысить связность текста, заставляя в каждой подробности видеть возможную связку, ключ, примету – и одновременно деперсонализировать личный опыт.
Возможно, летающий хлеб возник в «Колымских рассказах» как ошибка, проговорка, как персональный навязчивый образ, просочившийся в текст, – ведь хлеб в лагере был и источником жизни, и одной из немногих радостей. Вкус и запах хлеба, одержимость хлебом, в том числе и одержимость как бы бескорыстная, не имеющая непосредственного пищевого выражения, будут кочевать из рассказа в рассказ, из цикла в цикл:
Нам там было нечего делать, но нельзя было отвести глаз от хлебных буханок шоколадного цвета; сладкий и тяжелый запах свежего хлеба щекотал ноздри – даже голова кружилась от этого запаха. И я стоял и не знал, когда я найду в себе силы уйти в барак, и смотрел на хлеб. (1: 109)
Однако это «обнажение приема» в цикле – не единственное.
В рассказе «Дождь», шестом рассказе того же цикла, безымянный повествователь кайлит землю в шурфе на новом полигоне. Пространство вокруг ограничено стенами ямы. Пространство сверху – дождем и смертью. Время – гудком, знаменующим окончание работы.
Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей – первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода, и крикнула: «Скоро, ребята, скоро!» Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал – как могла она так понять и так утешить нас…О мудрости этой простой женщины, какой-то бывшей или сущей проститутки – ибо никаких женщин, кроме проституток, в то время в этих краях не было, – вот о ее мудрости, о ее великом сердце я и думал, и шорох дождя был хорошим звуковым фоном для этих мыслей. (1: 69)
Двенадцать рассказов спустя еще один – или тот же самый – повествователь опишет первую виденную им лагерную смерть. Зимой того же года по дороге на ночную смену бригада заключенных, передвигающаяся в пространстве, отграниченном уже не камнем, а слежавшимся твердым снегом, случайно оказывается на месте только что произошедшего убийства:
Лицо было белым, без кровинки, и, только вглядевшись, я узнал Анну Павловну, секретаршу начальника нашего прииска.
Мы все знали ее в лицо хорошо – на прииске женщин было очень мало. Месяцев шесть назад, летом, она проходила вечером мимо нашей бригады, и восхищенные взгляды арестантов провожали ее худенькую фигурку. Она улыбнулась нам и показала рукой на солнце, уже отяжелевшее, спускавшееся к закату.
– Скоро уже, ребята, скоро! – крикнула она.
Мы, как и лагерные лошади, весь рабочий день думали только о минуте его окончания. И то, что наши немудреные мысли были так хорошо поняты, и притом такой красивой, по нашим тогдашним понятиям, женщиной, растрогало нас. Анну Павловну наша бригада любила. (1: 132)
Таким образом, рассказчик из «Дождя» сообщает читателю нечто не соответствующее действительности цикла: кем бы ни был «я», он – просто в силу работы именно в этой бригаде – точно знал, не мог не знать, кто эта женщина, – женщин на прииске было мало. Он с неизбежностью должен был видеть ее потом, если не живой, то мертвой.
Подобные разночтения характерны не только для первого цикла. Так, рассказ «Прокуратор Иудеи», которым открывается сборник «Левый берег», повествует об авральной ситуации в одной из колымских больниц. В Магадан прибыл пароход «КИМ» с тремя тысячами обмороженных заключенных: на корабле случился бунт, и трюмы в сорокаградусный мороз поливали водой из брандспойтов. Ни город, ни окрестные госпитали, естественно, не были рассчитаны на такое количество срочно нуждающихся в помощи людей.
Заведующий хирургическим отделением, вольнонаемный врач Кубанцев, бывший фронтовик, при виде этого потока растерялся и передал руководство своему подчиненному из бывших зэков, а потом заставил себя забыть об этом инциденте. Повествование заканчивается словами: «У Анатоля Франса есть рассказ „Прокуратор Иудеи“. Там Понтий Пилат не может через семнадцать лет вспомнить Христа» (1: 225).
А в рассказе «Потомок декабриста» заведующий хирургическим отделением той же самой колымской больницы, вольнонаемный врач, носящий уже фамилию Рубанцев, описан как человек в высшей степени достойный не только по советской, материковой, но и по куда более жесткой колымской мерке. Его опыт и милосердие проявлялись, в частности, в том, что он не делал показанных операций язвы желудка, потому что знал, что истощенные заключенные операции не перенесут. Преемник Рубанцева оперировал двенадцать таких больных – и все двенадцать умерли.
Читатель не знает, какой из двух заведующих настоящий: «прокуратор Иудеи», умывший руки и забывший о трех тысячах обмороженных, – или честный и ответственный врач? Возможно, это один и тот же человек в разные моменты времени? А возможно, повествователь успел забыть, о ком речь, – и читателю предстоит сделать то же самое.
Глебов, один из персонажей рассказа «Ночью», не помнит, был ли он когда-нибудь врачом. Память плохо работает на морозе. Так отчего бы обитателю полуподземного приискового мира не забыть имя и судьбу секретарши, не разделить надвое биографию лагерного врача? Возможно, и само воспоминание существует здесь только в виде блока, цельного повествования, временного среза – и даже носителю недоступно извне, из иного дня, из иного набора ассоциаций. Если это так – то в какой мере выбор средств диктуется уже не предпочтениями автора, но тем воздействием, которое оказал на него лагерь? И в какой мере это воздействие, в свою очередь, служит изобразительным средством? В пределах «Колымских рассказов» материал «делал» автора в самом буквальном смысле слова – определяя физиологические параметры.
Леона Токер так пишет об этом свойстве шаламовской прозы:
Они [ошибки и повторы] не оставляют сомнений, что автор рассказов на самом деле является носителем описанного опыта, что это человек, чья физическая и умственная энергия была высосана досуха, человек, оставшийся в живых лишь огромным напряжением воли. Как и его тело, память автора покрыта шрамами. (Toker 1989: 298–209; перевод мой. – Е. М.)
4
Нередко в пределах цикла сталкиваются, прямо противоречат друг другу не только реакции и интерпретации, не только версии конкретных событий, но и важнейшие сюжетные решения. В рассказе «Лида» (цикл «Левый берег») персонаж по имени Крист – один из двойников автора – ожидает нового ареста, потому что в приговоре-аббревиатуре КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность), выданном ему Особым совещанием, есть роковая буква «Т» – «троцкистская», обрекающая ее носителя на уничтожение. От гибели Криста спасает сначала заключенный-бытовик, укравший для него листок из личного дела, а потом секретарша Лида, которую он, в свою очередь, некогда оставил в больнице, защитив таким образом от внимания мелкого лагерного начальника.
Но в следующем за ним почти подряд рассказе «Мой процесс» герой – уже открыто носящий фамилию Шаламов – потеряет литеру «Т» при куда менее доброкачественных обстоятельствах: его осудят на десять лет по ложному обвинению, и новый приговор окажется по парадоксальной логике лагерей не бедой, а благом. А в рассказе «Начальник больницы» роковая буква «Т» снова возникнет в личном деле рассказчика, будто отменяя – одновременно – и бескорыстную помощь, и обернувшееся пользой зло.
Порой создается впечатление, что факты вытесняются на обочину потребностями сугубо внутрилитературного свойства. Например, герой рассказа «Потомок декабриста», доктор Сергей Михайлович Лунин, изменивший и профессии врача, вернее существу этой профессии, и любимой женщине, никак не мог быть тем, кем назвался, – родным и законным правнуком носителя знаменитой фамилии.
У декабриста Михаила Сергеевича Лунина не было детей, его наследником по завещанию стал его двоюродный брат Николай Александрович Лунин. И если Шаламов – обладавший блестящей, эйдетической памятью, увлекавшийся историей революционного движения, знавший мелкие подробности биографии деятелей пятого, шестого ряда, гордившийся этим знанием и успевший неоднократно продемонстрировать его в пределах цикла – позволил персонажу так представиться и не оспорил его родословную, он, безусловно, сделал это сознательно.
Конечно, происхождение Сергея Михайловича могло присутствовать в тексте как пример характерной лагерной байки – «не веришь, прими за сказку», – но начало рассказа содержит еще одну значимую ошибку:
О первом гусаре, знаменитом декабристе, написано много книг. Пушкин в уничтоженной главе «Евгения Онегина» так написал: «Друг Марса, Вакха и Венеры…»
Рыцарь, умница, необъятных познаний человек, слово которого не расходилось с делом. И какое большое это было дело! О втором гусаре, гусаре-потомке, расскажу все, что знаю. (1: 291)
Но Сергей Михайлович вовсе не был гусаром, он был студентом-медиком, недоучкой. А назвав его «вторым гусаром» и якобы поверив в сказочное родство, Шаламов отсылает читателя к «Двум гусарам» все того же Толстого – и эта отсылка явным образом диктует дальнейшее развитие сюжета, заранее формируя его как историю падения.
Рассказ «Последний бой майора Пугачева», повествующий о групповом побеге бывших военных, как мы продемонстрировали в другом месте, узнаваемо стилизован под военную кинобалладу.
Присутствие систематических разночтений и отсылок к внешним, заведомо вымышленным текстам, к событиям других рассказов создает зазор между рассказчиком и автором, между вспоминающим и тем, кто организует воспоминания. Забывание, несогласованность, распад, построение текста по тому или иному литературному принципу становятся опознаваемым грамматическим средством – как повторяющиеся имена, воспроизводящиеся обстоятельства. Их существование как бы автоматически постулирует возможность того, что рассказы цикла объединены неким общим сюжетом, заставляет искать эти связи.
И связи не замедлят обнаружиться.
В рассказах «Детские картинки», «Хлеб», «Тифозный карантин», кажется, описывается один и тот же период – эпидемия тифа на Колыме, вернее побочное ее следствие, когда все заключенные, по какой-либо причине попадавшие в Магадан, скапливались в карантине. Совпадающие подробности: вывод на работу, отсчет пятерок в карантинных воротах…
Два рассказа написаны от первого лица, последний – «Тифозный карантин» – от третьего. Характеры, образ действий, физическое состояние протагонистов совпадают не вполне: вряд ли Андреева из «Тифозного карантина», все силы которого направлены на выживание и осознание себя, заинтересовали бы найденные на свалке детские рисунки. И вряд ли он стал бы думать о тундре с ее чистыми красками как о творении бога-ребенка. Впрочем, карантин тянулся долго, со временем могло вернуться и это.
А вот в рассказах «Тайга золотая» и «Домино», разделенных всего тремя текстами, явно действует один и тот же человек в одних и тех же обстоятельствах. Совпадения едва ли не дословные:
– Ну, – говорит он, – на прииск ты не хочешь ехать.
Я молчу.
– А в совхоз? В теплый совхоз, черт бы тебя побрал, сам бы поехал.
– Нет.
– А на дорожную? Метлы вязать. Метлы вязать, подумай.
– Знаю, – говорю я, – сегодня метлы вязать, а завтра – тачку в руки.
– Чего же ты хочешь?
– В больницу! Я болен. («Тайга золотая»; 1: 146)
– Почему ты не хочешь ехать?
– Я болен. Мне надо в больницу.
– В больнице тебе нечего делать. Завтра будем отправлять на дорожные работы. Будешь метлы вязать?
– Не хочу на дорожные. Не хочу метлы вязать. («Домино»; 1: 164)
Но если в «Тайге золотой» эта сцена – часть серии зарисовок, без начала и без конца, то в рассказе «Домино» читатель задним числом узнает, почему зэк из «Тайги золотой» отказывался от работы и пытался задержаться на пересылке, почему надеялся, что ему удастся попасть в больницу. Болен он был, но это не имело значения и само по себе не сказалось бы на его судьбе: существовал еще и знакомый врач, однажды уже вмешавшийся в отношения рассказчика с «резким физиологическим истощением», врач, на помощь которого рассказчик мог достаточно твердо рассчитывать. Эта помощь определила и дальнейшую судьбу персонажа, поскольку именно с подачи врача он попал на фельдшерские курсы.
Таким образом, все рассказы, где действие происходит в больницах («Тетя Поля», «Галстук», «Геркулес», «Шоковая терапия»), до того существовавшие в цикле просто как изображение определенного сегмента лагерной жизни, обретают конкретный ракурс, с которого ведется повествование, и становятся как бы частью биографии одного из сквозных персонажей, поскольку (как мы увидим ниже) своеобразный «обмен» и личным опытом, и обстоятельствами лагерной карьеры в рассказах Шаламова тоже более чем возможен.
Интересная метаморфоза происходит с уже упоминавшимся Дугаевым из рассказа «Одиночный замер». Мы знаем о нем, что ему двадцать три года, что он студент юридического факультета, что он высокого роста и потому особенно остро ощущал недостаток пищи и рано ослабел, а начальство считало, что он отлынивает от работы.
Последний мотив – рослому человеку не хватает пайки, он теряет силы, но его принимают за симулянта – будет часто всплывать в пределах цикла («Ягоды», «Шоковая терапия»).
В рассказе «Заговор юристов» выяснится, что рассказчик, чья личность, возможно, совпадает с личностью автора, ибо именно он советует будущим драматургам избрать местом действия колымскую столовую, – тоже недоучившийся студент-юрист, хотя он, конечно, много старше. А из биографии Шаламова известно, что он был впервые арестован в двадцать два и попал в лагеря в двадцать три года. Таким образом, к концу цикла история Дугаева из событий в биографии «отдельно стоящего» персонажа превращается в возможный вариант судьбы автора.
Прямая и легко опознаваемая связь существует между рассказом «Заговор юристов» и «Тифозным карантином» – последним рассказом цикла. Именно в карантине окажется рассказчик «Заговора», когда сфабрикованное против него обвинение рассыплется – не в связи с абсурдностью, а просто потому, что выдумавшего дело следователя самого арестуют по обвинению в каком-то – видимо, уже ином – заговоре.
Возможно, Андреев «Тифозного карантина» («Вот он здесь еще живой и никого не предал и не продал ни на следствии, ни в лагере» – 1: 208), медленно восстанавливающий человеческий облик, использующий время карантина, чтобы разогнуть кисть руки, похожую на протез-крючок, – это тот самый «юрист». И, значит, смертоносное обвинение и арест спасли ему жизнь, вовремя изъяв из забоя.
В финале «Тифозного карантина» Андреев, который считал, что «выиграл битву за жизнь», продержавшись в карантине достаточно долго, чтобы тайга «насытилась людьми», обнаруживает, что его и четверых его товарищей по карантину (кочегара Филипповского, печника Изгибина, столяра Фризоргера и некоего безымянного агронома-эсперантиста) снова увозят в горы, наверх, туда, где прииски и лесоповал. И Андреев думает, что расчет подвел его.
Финал цикла остался бы открытым, если бы много раньше в рассказе «Апостол Павел» от первого уже лица не описывались будни геологической партии, в которой в силу превратностей приливов и отливов рабочей силы оказались пять человек из магаданского тифозного карантина: паровозный кочегар Филипповский, печник Изгибин, агроном Рязанов, слесарь Фризоргер – и рассказчик, попавший в группу за высокий рост. Может быть, это Андреев. Может быть, расчет оказался верен. А может быть, Андреев мертв и его историю излагает человек, занявший его место, неотличимый от него.
Но сама эта необходимость вернуться назад по ходу цикла, вспомнить, восстановить – многократно усложняет текст.
Отсутствие же четких границ между характерами и биографическими обстоятельствами персонажей, разночтения в описании событий вынуждают рассматривать любую подробность как важную по умолчанию, а повествователя – как еще одну переменную, значение которой может быть равно чему угодно. Не только потому, что читатель так до конца и не знает, имеет ли он дело с совпадениями, результатами общего для всех лагерного давления или с вариативной биографией одного человека. Не только потому, что невозможность отличить врача от колхозника из Волоколамска и снаружи, и изнутри может обернуться гротескным, словно бы пародирующим соцреализм литературным приемом – стремлением показать типический характер (заключенного) в типических (лагерных) обстоятельствах, ибо психологически достоверный и узнаваемый зэк из золотого забоя – это психологически достоверный и узнаваемый полутруп, не помнящий имени собственной жены. Но и по причинам куда более фундаментального свойства.
Действительно, неизвестно, кто написал рассказ «Заклинатель змей» – вставную новеллу в одноименном рассказе, историю о прииске «Джанхара», «воровской» зоне, об угодившем туда на верную смерть бывшем киносценаристе и о спасительном его таланте рассказывать бесконечные увлекательные истории, «тискать рóманы», как это называлось на уголовном жаргоне. О таланте, сохранившем его обладателю жизнь и превратившем его в обслугу при воровской верхушке. Киносценарист с говорящим именем Андрей Платонов делится с рассказчиком своим намерением написать – если выживет – рассказ о себе, уголовниках и выборе: быть ли в этой блатной иерархии никем, фраером, жертвой или стать «романистом», слугой, но слугой привилегированным. Он умирает три недели спустя после разговора – от сердечного приступа, и рассказчик, питавший к Платонову симпатию, решает попробовать написать за Платонова его рассказ «Заклинатель змей».
Уже в зачине рассказа становится известно, что рассказчику, в отличие от Платонова, не доводилось попадать на прииск «Джанхара», что он никогда не был «романистом» и наблюдал это порожденное лагерной скукой явление только извне, со стороны.
Я сам побывал в местах дурных и трудных, но страшная слава «Джанхары» гремела везде. (1: 118)
– Нет, – сказал я, – нет. Мне это казалось всегда последним унижением, концом. За суп я никогда не рассказывал романов. Но я знаю, что это такое. Я слышал «романистов». (1: 118–119)
Таким образом, мы как будто заведомо осведомлены, что имеем дело с реконструкцией, где время, место и действие явным образом заменены представлением о том, какими они могли быть.
И если рассмотреть «Заклинателя змей» в контексте цикла, мы увидим, что рассказ составлен из множества мелких, уже использованных раньше подробностей. Тягостный поход за дровами после рабочего дня присутствует в рассказе «Ягоды», характер и приметы уголовников – в рассказе «На представку» и в «Тайге золотой», а рассуждение о том, что человек много выносливее животных вообще и лошадей в частности, позаимствовано из рассказа «Дождь».
Рассказчик «Заклинателя…» собирает «чужой» текст из тех крупиц своего опыта, которые, по его мнению, совместимы с опытом сценариста Платонова, заменяя неизвестное известным, как по лагерному расчету белков и калорий заменяли мясо селедкой, а овощи могаром. Рассказ написан от имени Платонова человеком, не обладавшим его опытом – но и не заменившим Платонова. По существу – никем.
Здесь тот аппарат, которым пользуется Шаламов при создании «Колымских рассказов», даже не обнажен – механизм его действия воспроизведен пошагово, и механизм этот насквозь, нарочито литературен.
Автор констатирует: лагерный опыт таков, что неважно, что именно произошло и с кем именно, – правдой будет все. И неправдой тоже будет все.
Чужая история будет выдумкой от первого и до последнего слова. Но такой же выдумкой будет и своя, потому что переданный посредством структурированного текста опыт распада заведомо неточен, приблизителен, неадекватен. Во всем – кроме распада.
В рассказе «Шерри-бренди» Шаламов опишет изнутри смерть поэта: «доплывающего» от голода и цинги на пересылке, на последней станции перед отправкой на Колыму – и все еще продолжающего писать стихи и исследовать процесс письма, потому что стихи и были его существом и сам он, как рифма, был инструментом поиска нужных слов и понятий. В умирающем легко опознается Мандельштам, а вот теория соотношения звучания и значения, рифмы и созвучия как средства поиска принадлежала самому Шаламову и была очень дорога ему. Статья Шаламова «Звуковой повтор – поиск смысла. (Заметки о стиховой гармонии)» была опубликована в 1976 году в сборнике «Семиотика и информатика»[72]72
Семиотика и информатика. 1976. Вып. 7. С. 12–152.
[Закрыть] с послесловием С. Гиндина и в данном случае особенно интересна тем, что представляет собой отчасти полемику с идеями О. Брика, высказанными в статье 1919 года «Звуковые повторы», а отчасти – развитие этих идей. Внимание Шаламова к повтору и вариациям на звуковом уровне позволяет предположить, что повторы и вариации на уровне сюжета также могли быть для него инструментом «поиска смысла».
Неизвестно, какой поэт умирал на той пересылке. Неизвестно, кто именно умер. Константой является только обстоятельство смерти.
Возможно, именно это и является причиной, по которой сложная, колеблющаяся, литературоцентрическая композиция «Колымских рассказов» и в пределах каждого конкретного рассказа, и в пределах цикла многими читателями не опознается как прием, как не регистрируются и прямо заявленные аллюзии и теоретические построения литературоведческого свойства.
Реальностью цикла является гибель – клеток мозга, тела, личности, ее носителя, культуры, а точные ее обстоятельства по определению невоспроизводимы и потому, естественно, принадлежат сфере вымысла.
Демонстративно литературной конструкции цикла, таким образом, отводится роль теней на стене платоновской пещеры – теней, отбрасываемых на человеческое восприятие лагерем, реальной, но несовместимой с жизнью сущностью.
5
Сам Шаламов не уставал говорить: «все повторения, все обмолвки, в которых меня упрекают читатели, – сделаны мной не случайно, не по небрежности, не по торопливости…» (5: 155).
Наличие ошибок, отклонений, разночтений, нарочито литературных интерпретаций является как будто бы доказательством подлинности текста, ибо носитель предельного опыта по определению будет ограничен и непередаваемой природой этого опыта, и перенесенной травмой.
Коммуникативные сбои в этом случае сами станут частью сообщения: неважно, что именно произошло, с кем именно и какими средствами выражено, – потому что переданный посредством структурированного текста опыт смерти заведомо неточен. Предметом воспроизводства, «материалом» – в терминологии ЛЕФа – станет именно состояние человека, столкнувшегося с лагерем.
Однако при внимательном рассмотрении выясняется, что уровней передачи опыта по меньшей мере два.
Рассказ «Сентенция», замыкающий цикл «Левый берег», начинается со слов «Люди возникали из небытия – один за другим» (1: 399). Из небытия – из смерти, поскольку больше в лагере им неоткуда возникнуть. Сначала появляются окружающие – о существовании рассказчика мы узнаем во втором предложении.
Собственно, рассказчик и становится рассказчиком, когда к нему возвращается способность замечать, регистрировать происходящее вокруг – видимо, до первой фразы его точки зрения не существовало. Помимо этого он обладает способностью обмениваться теплом. Это отличает его от тех, кто спит с ним рядом, – не все в бараке являются источниками тепла.
Единственное чувство, которое он испытывает, – злость. Любое движение требует чудовищного напряжения. Расстояние в двести метров является практически непреодолимым. Самая простая работа – колка дров для кипятильника «Титан» – не выполняется в срок. Нет сил. Впрочем, никто из рабочих не отличает кипяченую воду от просто горячей.
И вот тут обнаруживается первое разночтение.
Колыма научила всех нас различать питьевую воду только по температуре. Горячая, холодная, а не кипяченая и сырая. Нам не было дела до диалектического скачка перехода количества в качество. (1: 401)
Терминология марксистской философии, конечно, вошла в язык эпохи – как вошла туда и поэма Маяковского «Хорошо!» («Мы диалектику учили не по Гегелю…»), – но все же ни то, ни другое не стало настолько неотъемлемой частью этого языка, чтобы этой терминологией свободно оперировал человек, который не различает температуру воды и отличается от мертвецов только температурой тела – и то незначительно. Да и центонная ирония принадлежит не рассказчику, чья эмоциональная палитра, по его собственным словам, к тому времени сократилась до одного чувства – злобы, и только много позже, по мере возвращения к жизни пополнилась равнодушием, страхом, завистью. Собственно, внутри текста рассказчик не может быть повествователем – слишком ограничен его словарный запас.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?