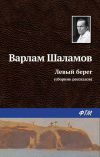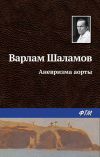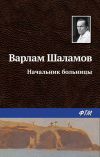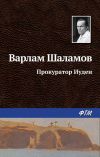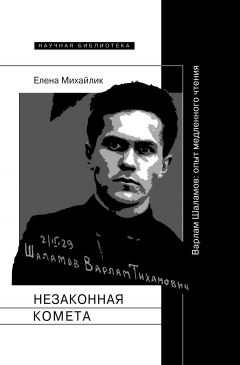
Автор книги: Елена Михайлик
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Майор Пугачев и его товарищи не бегут из лагеря – они отменяют саму систему отношений, на которой стоит лагерная вселенная. Подобный способ борьбы со всесильной системой можно было бы назвать разновидностью солипсизма, если бы не одно обстоятельство, уже упоминавшееся прежде, – реакция самой системы.
На шоссе больничную машину беспрерывно обгоняли мощные «студебекеры», груженные вооруженными солдатами…
– Что тут, война, что ли? – спросил Браудэ у генерала, когда они поздоровались.
– Война не война, а в первом сражении двадцать восемь убитых. А раненых посмотрите сами. (1: 371)
Лагерь – слежавшаяся под давлением кумулятивного страха иерархия не– и внечеловеческого насилия – воспринимал себя и ощущался узниками как самодостаточная замкнутая система. Столкнувшись с угрозой извне, лагерь был вынужден обратиться к иным традициям и методам – к тысячелетиями формировавшейся в культуре традиции организованного насилия, к традициям войны. И тем самым многократно ослабил себя, ибо война как форма культуры предусматривает свободу выбора, органически противопоказанную лагерной вселенной. Вот откуда паническая реакция властей. Объявив лагерю войну, отряд Пугачева вынудил систему разговаривать на своем языке, иными словами – вести военные действия.
Герои Шаламова перенесли сражение с пытавшейся пожрать их системой на близкую им, чуждую лагерю культурную территорию. И победили, отстояв свое право быть собой.
Все было кончено. Невдалеке стоял военный грузовик, покрытый брезентом, – там были сложены тела убитых беглецов. И рядом – вторая машина с телами убитых солдат. (1: 372)
Единственный захваченный боец отряда Пугачева (обладатель говорящей фамилии – Солдатов) «был в военной форме и отличался от солдат только небритостью» (1: 371).
Заметим, что в рассказе «Зеленый прокурор» уцелевшего беглеца судят и отправляют обратно в лагерь сроком на 25 лет. В «Последнем бое…» Солдатова расстреливают. Он не принадлежит лагерному миру и уже не подлежит возвращению. Он может умереть только солдатской смертью. В финале рассказа последним действием майора Пугачева является выстрел.
6
В этой точке сливаются два мотивных потока, организующих семантическое поле рассказа: тема войны и тема смерти.
Тема смерти появляется на страницах рассказа одновременно с темой войны – в момент осуществления побега, и очень быстро становится со-доминантой мотивной структуры.
Деревья на Севере умирали лежа, как люди. Могучие корни их были похожи на исполинские когти хищной птицы, вцепившейся в камень. От этих гигантских когтей к вечной мерзлоте отходили тысячи мелких щупальцев-отростков…Поваленные бурей деревья падали навзничь, головами все в одну сторону, и умирали, лежа на мягком, толстом слое мха ярко-розового или зеленого цвета. (1: 365)
…даже в эту пустую бледно-сиреневую полярную ночь со странным бессолнечным светом, когда у деревьев нет теней. (1: 368)
(Вспомним, что в европейской культуре отсутствие тени было явным признаком принадлежности потустороннему, нижнему миру: нет теней у вампиров; Петер Шлемиль, продав душу дьяволу, потерял свою тень.)
Мы не можем с точностью сказать, возник ли этот образ приполярной тайги из архетипического фольклорного представления о лесе как о загробном мире; или из «сумрачного леса», в котором заблудился 35-летний Данте (см. средний возраст майора Великой Отечественной войны); или из вовсе третичного акмеистского леса Гумилева, где «из земли за корнем корень выходил, точно руки обитателей могил» (мы не исключаем здесь возможности и троичной интертекстовой связки). Каким бы источником ни пользовался автор, какой бы вариант прочтения ни избрал читатель, культурный контекст образа неизбежно фиксирует причастность такого леса, такой колымской природы к загробному миру.
После того как кончился бензин, беглецы оставили грузовик и вошли в тайгу, «как ныряют в воду» (1: 365). Пытаясь оторваться от погони, майор Пугачев бросается «с перевала плоскогорья в узкое русло ручья» (1: 369). Окруженная солдатами группа принимает бой в стогах – между ними и «верхним миром» толстый слой мертвой травы. Перед тем как покончить с собой, Пугачев забирается в медвежью берлогу. Таким образом, вектор движения персонажей направлен вниз, под землю, к смерти. Спуск, начавшийся в момент побега, завершается гибелью последнего беглеца.
Ягода брусники, которую в финале рассказа пробует Пугачев, не имеет вкуса. Безвкусная ягода дополняет парадигматический ряд, начатый «весной без пения птиц» и «деревьями без теней», представляя читателю завершенную картину пропитанного смертью мира[29]29
Европейские сказки и легенды дружно утверждают, что человек, съевший или выпивший что-либо в подземном мире, остается там навсегда. Пугачев съел ягоду по собственному выбору – и остался.
[Закрыть].
Столь концентрированный образ смерти, казалось бы, естественен в книге, описывающей обиталище концентрированной смерти, а между тем он совершенно не характерен для семантики «Колымских рассказов».
В основном массиве «Колымских рассказов» жизнь и смерть не являются предметом противопоставления. Формой существования человека в лагере является умирание, несовершенная форма смерти. Внутри лагерной вселенной жизнь и смерть не обладают отдельными характеристиками, а перетекают друг в друга[30]30
См., например, рассказ «Шерри-бренди»: «Жизнь входила в него и выходила, и он умирал. Но жизнь появлялась снова, открывались глаза, появлялись мысли» (1: 102).
[Закрыть], зачастую и вовсе обмениваясь признаками: если тела «живых» заключенных подвластны разложению (обморожения, цинга, пеллагра, голодный распад тканей), то «земля не принимала мертвецов: им суждена была нетленность – в вечной мерзлоте Крайнего Севера» (1: 432).
Точно так же дело обстоит и в завязке «Последнего боя…» – на заключенных лежит отчетливая печать тления. Майор Пугачев думает о з/к «предыдущего призыва» как о «живых мертвецах». Смерть как независимая, отдельная сила появляется на страницах рассказа в тот момент, когда начинает осуществляться план побега.
Более того, в «Последнем бое…» Шаламов эстетизирует смерть – вписывает ее в «бледно-сиреневую полярную ночь», в рассвет на лесной поляне, отождествляет (сцена самоубийства Пугачева) с зимним сном природы, то есть возвращает ее из сферы внечеловеческого в сферу культуры. Подобная трактовка немыслима для «Колымских рассказов», хотя и вполне естественна внутри героической баллады.
Если в лагерной вселенной смерть аморфна и не выделена из окружающей среды, то на войне она – в своем вечном противостоянии жизни – является признанной участницей диалога. В мире Пугачева и его товарищей смерть не менее грозная реальность, чем в мире лагерей, однако здесь она теряет свою фундаментальную враждебность по отношению к человеку. На войне смерть может быть – помимо всего прочего – и трагедией (само это понятие подразумевает существование личности), и благом, и долгом, и доблестью. В лагере это всего лишь унизительная неизбежность.
Отменив в своем сознании лагерь, персонажи Шаламова совершили переход из небытия в бытие. Их рейд по тылам противника оказался удачным, ибо возвратил им не только свободу, но и жизнь. Не только право быть собой, но и право быть.
7
Рассказ «Последний бой майора Пугачева» содержит множество идей и понятий, которые могли бы быть отторгнуты читателем, не будь они облечены в знакомую, не вызывающую опасений форму. Однако анализ мотивной структуры отчетливо показывает, что присвоенная Шаламовым стилистика военной кинобаллады служит в рассказе не только контейнером для взрывоопасного лагерного содержания, не только формой психологического камуфляжа.
В советскую эпоху героика автомата и гранаты, прорыва и стрельбы была «разрешенной», идеологически приемлемой и приветствуемой, чуть ли не вменялась в обязанность («Когда страна прикажет быть героем…»). Образ «человека с ружьем» (или хотя бы с пистолетом) настолько въелся в массовое сознание общества, что стал символом героизма, подвига даже для противников тоталитарного режима. Классическим примером переосвоения этого образа могут служить «Черные камни» А. Жигулина – роман о воронежских школьниках, которые, начитавшись Фадеева, создали подпольную организацию «с целью свержения советской власти». Достаточно переменить знак, заменить Гитлера на Сталина, чтобы «Молодая гвардия» превратилась в «Коммунистическую партию молодежи», а «Герои Советского Союза» во «врагов народа» – и наоборот. Другим примером такой перемены знака может служить описание кенгирского лагерного восстания в «Архипелаге ГУЛАГ» А. Солженицына.
Рассказ «Последний бой майора Пугачева» тоже мог бы оказаться в этом ряду, но внутри рассказа (и внутри цикла) подвиг Пугачева и его товарищей состоит не только (и не столько) в том, что они отстаивали свою свободу с оружием в руках; не в том, что они повернули свои автоматы против Советской власти, решительно выйдя из ее юрисдикции; не в том, что они – все до одного – предпочли гибель сдаче (в полном соответствии с тем положением, за нарушение которого многие из них и оказались в лагере).
Они стали героями потому, что, опознав лагерь как внечеловеческую систему (в экспозиции рассказа Шаламов подробно объясняет, что именно точное понимание ситуации, осознание того, во что им с неизбежностью предстоит превратиться, и подвигло пугачевцев на побег[31]31
Собственно, половина экспозиции рассказа посвящена удивлению новоприбывших з/к военного «призыва» при столкновении с лагерными порядками и разлагающимися, лишенными воли продуктами этих порядков. И завершается пассажем: «Но не все новички презрительно качали головой и отходили в сторону» (1: 362).
[Закрыть]), они отказались в ней существовать. Побег – из лагеря в тайгу и из Лагеря в Мир – был, несомненно, чудом физической отваги. Но прежде всего детищем бесстрашной мысли, не готовой останавливаться там, где ей поставили барьер, не готовой цепляться за надежду, где ее по определению нет, – и острого и безошибочного нравственного чувства.
Опираясь на традицию советской военной прозы, «Последний бой майора Пугачева» осуществляет аннигиляцию этой традиции. Пользуясь мотивной структурой словно бомбой с часовым механизмом, Варлам Шаламов взорвал советско-антисоветский биполярный жанр и опрокинул вместе с ним породившую этот жанр дихотомическую систему мышления.
Деструктивный заряд, взрывающий элементы собственной образной системы, – одно из характернейших свойств шаламовской «новой прозы».
Теперь мы можем говорить о месте «Последнего боя…» в рамках мотивной и композиционной структуры цикла. Как мы уже отмечали, рассказы цикла «Левый берег» представляют собой в той или иной степени рецепты спасения, сохранения себя во враждебном человеку мире. И все они: медицина, воля к жизни, вера, любовь, культура (особенно культура) – в конечном счете оказываются бессильными при столкновении с всеразъедающим воздействием лагерей.
Помимо общей их несостоятельности, у рецептов «Левого берега» есть еще одна объединяющая черта: все они в своих наивных и хитроумных расчетах, в своей нерасчетливой страсти пытаются опираться на какие-то свойства лагерной вселенной – ведут борьбу на территории противника.
Рассказ «Последний бой майора Пугачева» повествует о людях, отказавшихся выживать в лагере, о сражении, перенесенном за пределы лагерной вселенной. Внутри композиционной системы цикла у «Последнего боя майора Пугачева» нет и не может быть двойника[32]32
Хотя в сборнике у «Последнего боя…» двойник есть.
[Закрыть], оппонента, опровержения, ибо, по Шаламову, «способ Пугачева» верен. В этом уравнении нет ошибки.
Заколдованный лес, перекошенные созвездия, безупречные герои и злодеи-чудовища, жизнь, смерть и история, пробуждающиеся с началом весны… Варлам Шаламов написал волшебную сказку приполярных лагерей. Сказку очень важную для него, ибо «Последний бой майора Пугачева» – это в каком-то смысле история самого Шаламова.
В других работах мы уже писали об этом фундаментальном противоречии: определяя лагерь как «отрицательный опыт с первого и до последнего часа», как нечто, о чем «человек не должен знать, не должен даже слышать», Варлам Шаламов посвятил лагерям более сотни рассказов. Он написал книгу, обрушивающую на читателя невыносимый груз лагерного опыта. «Последний бой майора Пугачева» отчасти дает ответ на вопрос – почему. В тот момент, когда Шаламов поставил себе задачу «запомнить и написать», он, подобно Пугачеву и его товарищам, повел бой по своим правилам – перенес сражение с внечеловеческой системой на чуждую лагерю и родную для него самого территорию.
Впервые: Новое литературное обозрение. 1997. № 28 (4). С. 209–222.
Золотоносов 1994 – Золотоносов М. «Последствия Шаламова» // Шаламовский сборник. Вологда, 1994. № 1. С. 176–182.
Клоц 2017 – Клоц Я. Варлам Шаламов между тамиздатом и Союзом советских писателей (1966–1978). http://www.colta.ru/articles/literature/13546 (06.08.2017).
ЛЭС 1987 – Литературный энциклопедический словарь. М., 1987.
Михайлик 1995 – Михайлик Е. Варлам Шаламов в контексте литературы и истории // Аustralian Slavonic and Eastern European Studies. Vol. 9. Р. 31–64.
«На представку»: интертекст и проблемы культурного контекста
Варлам Шаламов начинает рассказ «На представку» словами «Играли в карты у коногона Наумова» (1: 48). Многие исследователи отмечали почти пародийное совпадение шаламовского зачина с первой фразой «Пиковой дамы» Пушкина: «Играли в карты у конногвардейца Нарумова».
Эта очевидная цитата, отсылка не то к классическому тексту, не то к учебнику литературы заставляет читателя задаться рядом вопросов.
А что, собственно, делает блистательный, пусть и слегка легкомысленный конногвардеец в бараке, куда сам бы не определил и последнюю клячу? Что, собственно, делает Александр Сергеевич Пушкин, чьи самые мрачные, самые готические произведения все равно давно уже текут молоком и медом положительных школьных ассоциаций и уютом «старого времени», в вырожденном пространстве лагеря?
И что, собственно, делает цитата из повести, настолько прочно обосновавшейся в литературной традиции, что ее считают одним из краеугольных камней классической русской прозы, в качестве зачина у автора, провозгласившего себя создателем прозы антиклассической, прозы «новой»?
Ибо Варлам Шаламов, автор «Колымских рассказов», называл свои произведения о лагере именно «новой прозой».
В заметках «О прозе» и в других теоретических работах Шаламов постулировал необходимость прозы, которая сделает возможной прямую проекцию авторского опыта на сознание читателя, превратит читателя из зрителя в участника действия.
Результаты позволяют предположить, что Шаламову действительно удалось создать текст, который принимается аудиторией без зазора, как неприкрашенный, аутентичный, неоспоримый факт. Например, в своих «тезисах», опубликованных в «Шаламовском сборнике» 1991 года, Михаил Золотоносов четко сформулировал мнение, до сих пор достаточно распространенное среди читателей и литературных критиков:
То, что произошло с Шаламовым, напоминает Великую Операцию, описанную Е. Замятиным в «Мы», – операцию по удалению «фантазийного аппарата». Не случайно после этой операции рассказчик из «Мы» переходит на сообщение шаламовского стиля, спокойно фиксирующего боль и страдание. (Золотоносов 1994: 181)
А Лидия Чуковская пришла к выводам еще более радикальным:
Я с глубоким уважением, с преклонением даже отношусь к очеркам Шаламова, героизму и мученичеству Шаламова. Люблю некоторые его стихи. Но сравнивать очерк (выделено мною. – Е. М.) с прозой не годится. Это то же, что сравнивать Гоголя с Глебом Успенским[33]33
Письмо Ирине Войнович от 21.01.1988. Цит. по: Войнович 2008: 54.
[Закрыть].
Однако даже идеальный стилистический камуфляж не может полностью отсоединить литературное произведение от контекста окружающей его культуры. А шаламовская «документальная» маскировочная сетка была еще и едва ли не вызывающе несовершенна. Ко времени написания шаламовского рассказа «Пиковая дама» была частью школьной программы не менее 60 лет. Поколения людей, «сдававших» ее в школе, пропустить «коногона Наумова» не могли никак.
Собственно, и на дальнейшем пространстве «Колымских рассказов» Шаламов то сравнивает заключенных с чапековскими роботами из «РУРа», то советует гипотетическому драматургу избрать местом действия колымскую «трассовую» столовую; он вовлекает в лагерный быт Анатоля Франса и Марселя Пруста, Хемингуэя и Джека Лондона, Пушкина, Овидия, Блока, цитирует Державина и Тацита, открыто ссылается на Тынянова («Берды Онже»), вдруг срывается в яростную литературную полемику с Толстым и Достоевским, населяет свои рассказы однофамильцами известных писателей и создает апокрифический вариант «смерти поэта», в котором с легкостью опознается Осип Мандельштам. В теории скорее нужно бы удивляться тому, как у аудитории получалось игнорировать эту лавину.
Возможно, в определенной мере то обстоятельство, что камуфляж все же работал, объясняется особой ролью литературы в русском обществе. Ее присутствие во всех сферах бытия и быта («А лампочки кто будет покупать, Пушкин?») считалось настолько само собой разумеющимся, что не вызывало ни удивления, ни отторжения. Учреждение, на воротах которого красовалась знаменитая цитата «Труд есть дело чести, дело доблести и геройства», естественно входило в общий строй, – для читателя здесь, скорее всего, удивительным было бы как раз отсутствие корреляций с литературой. И с вероятностью, на уровне бытового прочтения система литературных интертекстовых отсылок не нарушала в глазах читателя документообразия «Колымских рассказов».
Но само название «новая проза» подразумевает многоуровневые сложные отношения с прозой «старой», взаимосвязь обеспечивается самим фактом отказа, отторжения, отмены. Весь объем предыдущей литературной традиции фактически начинает играть роль Другого.
Вне зависимости от того, движимы ли эти отношения блумовским «страхом влияния» или, наоборот, той потребностью в эхе, которую отстаивал Иосиф Бродский[34]34
Бродский весьма энергично полемизировал с Блумом, утверждая: «Подлинный поэт не бежит влияний и преемственности, но зачастую лелеет их и всячески подчеркивает. Нет ничего физически (физиологически даже) более отрадного, чем повторять про себя или вслух чьи-либо строки. Боязнь влияния, боязнь зависимости – это боязнь – и болезнь – дикаря, но не культуры, которая вся – преемственность, вся – эхо» (Бродский 2001: 180).
[Закрыть], они в любом случае с необходимостью дают жизнь диалогу – интенсивному, многогранному и непредсказуемому по результатам. (Побочным эффектом такого диалога вполне может быть и явление пушкинского конногвардейца в барак коногонов над вечной мерзлотой.)
Однако Шаламов осложнил уже и без того нуждающуюся в Ариадне ситуацию, не только провозгласив необходимость радикальных изменений, затрагивающих саму природу прозы, но и заявив, что изменения эти (по крайней мере в его случае) должны иметь совершенно конкретный характер.
Шаламов утверждает, что задачей художественного произведения является «воскрешение жизни», т. е. литературный текст, объект второй реальности, должен каким-то образом сравняться по интенсивности с опытом реальности первой. «Проза, пережитая как документ…» требует, чтобы читатель существовал в чрезвычайно плотном информационном и эмоциональном потоке.
Эта цель диктует и объем (на ограниченном пространстве короткого рассказа, естественно, легче поддерживать сенсорную нагрузку, сравнимую с информационным давлением реальной жизни), и крайнюю функциональность художественных средств.
Необходимость скачкообразно увеличить плотность информации на ограниченном объеме текста в числе прочего вынуждает автора использовать коды – комбинацию знаков, известных как автору, так и читателю.
Элементы кода встраиваются в описания, и текст прирастает не только конкретным символом или знаком, но и всей системой отношений, породившей данный код.
С добавлением третьей координаты – кода – структура текста расширяется за пределы сюжетной поверхности, становится трехмерным семантическим континуумом.
Шаламов пишет, что в «новой прозе» деталь – это «всегда деталь-символ, деталь-знак, переводящая весь рассказ в иной план, дающая „подтекст“, служащий воле автора» (5: 152).
Текст не равен коду, текст может содержать несколько непересекающихся и даже противонаправленных кодов. Эти коды могут быть адресованы (с различной мерой эффективности) различным группам читателей.
И одной из самых или, возможно, просто самой мощной и сложной кодирующей системой, доступной литератору, является сама литература.
Интертекстуальные связи создают культурное пространство, или «среду», в которой существует текст.
Описывая человека, объект или событие, цитаты, аллюзии или ссылки образуют многослойный знак, который одновременно задает:
а) предмет;
б) режим описания, т. е. парафраз;
в) источник цитаты или ссылки, т. е. то целое, фрагментом которого является цитата;
г) некий объем культурных и литературных ассоциаций[35]35
При этом интертекстуальное взаимодействие работает в обе стороны и нередко бывает ретроактивным. Так, с определенного ракурса можно сказать, что «Новые стансы к Августе» И. Бродского вносят в цитируемый текст целые группы новых значений, по сути перестраивая ассоциативный ряд «Стансов…» Байрона, написанных 150 лет назад, а появление пьесы Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» добавляет новые, порой совершенно неожиданные обертоны в характер восприятия, казалось бы полностью освоенного культурой шекспировского «Гамлета».
[Закрыть];
д) некую совокупность культурных и литературных корреляций, связанных с самой концепцией цитаты или аллюзии.
Поэтому когда автор задействует интертекстуальные связи, он фактически встраивает в рассказ свободный, постоянно меняющийся набор взаимодействующих культурных континуумов.
Интертекстуальные корреляции не только радикально увеличивают семантическую плотность произведения: как только текст достигает определенной точки насыщения, эти корреляции начинают формироваться спонтанно, довольно часто – помимо воли автора. Раз начавшись, процесс идет лавинообразно, порождая все растущее число возможных ассоциаций. (Как показала работа Бориса Гаспарова о романе «Мастер и Маргарита», ресурсы семантической периферии в этом смысле практически неисчерпаемы[36]36
См.: Б. Гаспаров 1993: 3–31.
[Закрыть].)
Таким образом, автор «новой прозы» сталкивается с огромной проблемой: он не просто обязан добиться исключительной по мощности сенсорной нагрузки, но также должен найти способ работать с постоянно и спонтанно кристаллизующимися новыми значениями, не теряя собственного голоса.
В этой главе мы хотели бы рассмотреть параметры и функции интертекстуальных связей в «Колымских рассказах», а также характер их взаимодействия с другими структурными элементами шаламовской поэтики.
Задача наша осложняется тем, что, по существу, «На представку» – первый рассказ сборника. (Предшествующий ему короткий даже по масштабам «Колымских рассказов» – тридцать строчек – рассказ «По снегу» представляет собой своеобразное предисловие, развернутую метафору, устанавливающую характер отношений между автором и читателем.)
Согласно авторскому замыслу, рассказ «На представку» должен был стать первой точкой соприкосновения как с лагерной вселенной, так и с художественным аппаратом «Колымских рассказов». Соответственно, мы можем предположить, что этот конкретный текст, его структура содержат некую вводную, некий ряд параметров, которые позволили бы читателю впоследствии распознать все последующие истории цикла как принадлежащие к той же парадигме. Именно поэтому он представляется нам исключительно подходящим материалом для анализа.
Фабулой рассказа «На представку» служит обыденное карточное сражение в бараке коногонов. В эту конкретную ночь игра уголовников завершается убийством одного из зрителей, «политического» заключенного. Впрочем, по реакции рассказчика и действующих лиц можно понять, что такой финал не является чем-то из ряда вон выходящим.
Уже при первом чтении обнаруживается резкая композиционная диспропорция: три с половиной страницы шестистраничного рассказа отведены под экспозицию. Медленное и по-диккенсовски обстоятельное и дотошное описание обстановки барака, столетней тюремной традиции изготовления самодельных карт сменяется подробным портретом-противопоставлением участников предстоящего поединка. Столь же основательно объясняет повествователь, каким образом он и его напарник Гаркунов оказались в ту ночь в бараке коногонов. (Дело их было – напилить дров в обмен на холодную «юшку», жижу от супа.)
Речь рассказчика утяжелена обилием придаточных оборотов, цепочками вводных и сложноподчиненных предложений и содержит огромный объем как бы отвлеченной и дополнительной лагерной информации.
Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке – двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что не знай я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника – монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. (1: 49–50)
Эта сложная синтаксическая конструкция, образованная основным, вводным и тремя придаточными предложениями, содержит:
а) описание внешности бригадира коногонов;
б) указание на решительную обманчивость этой внешности и
в) подлинную «профессию» Наумова;
г) дополнительную краткую характеристику его противника Севочки;
д) и, наконец, сноску, посвященную «встречающимся» в лагерях сектантам.
Обстоятельность повествования в соединении с объективированной, отстраненной интонацией придает экспозиции наукообразный, «этнографический» характер. Экспозицию рассказа «На представку» в определенной мере можно считать аналогом борхесовского «Сообщения Броуди».
Подробная «задержанная» интродукция создает атмосферу напряженного ожидания. Этому способствует еще один прием: рассказчик отмечает, что слабая бензиновая лампа-«колымка» освещала только «поле боя», а присутствующие наблюдали за игрой из темноты.
Мы ели в полной темноте – барачные бензинки освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова. (1: 51)
Таким образом, освещенная часть барака становится как бы сценой, игроки – действующими лицами, а все остальные (в том числе сам рассказчик и его напарник Гаркунов) – зрителями, отодвинутыми во «тьму внешнюю», за рамки сюжета.
В тот момент, когда читатель привыкает, втягивается в повествование, движущееся в ритме ползущего ледника, темп рассказа резко меняется. Статичный, застывший «пейзаж» карточной игры уступает место стремительному действию. Вместе со скоростью меняется, возрастает плотность повествования – количество событий на единицу текста.
Непрерывная череда проигрышей бригадира Наумова скупо обозначена перечислением переходящих из рук в руки вещей (брюки, пиджак, подушка) и краткими репликами персонажей.
– Одеяло играю, – хрипло сказал Наумов.
– Двести, – безразличным голосом ответил Севочка.
– Тысячу, сука! – закричал Наумов. (1: 51)
Ощутимо упрощается синтаксис: практически исчезают многочисленные придаточные и вводные предложения, их место занимают цепочки глаголов действительного залога. Одновременно рассказчик меняет интонацию и манеру речи – обстоятельный этнографизм Диккенса или Борхеса срывается в жесткий говорок пригородной баллады.
В точке кульминации темп и компрессия возрастают до предела. Проигравшийся в прах бригадир Наумов просит игру «на представку» (и здесь Шаламов не дает уже привычных подробных объяснений, его краткий и невнятный «перевод» оставляет уголовный карточный термин угрожающей загадкой), получает согласие, начинает новую партию.
Дальнейший ход игры сжимается в предложение: «Он отыграл одеяло, подушку, брюки – и вновь проиграл все» (1: 52).
Действие полностью сфокусировано на игре – все постороннее выведено из поля зрения, – но в тот момент, когда накопившееся напряжение, казалось бы, должно наконец привести к развязке, повествование резко сворачивает в сторону. Читатель погружается в обстоятельный рассказ о том, что такое чифирь, как его заваривают и с чем пьют.
Внезапная, немотивированная перебивка темпа как бы обозначает разлом.
Казалось бы, всем течением рассказа готовился кровавый, ритуализованный конфликт между участниками карточного поединка, но в тот момент, когда в воздухе уже готовы сверкнуть два ножа, а зритель затаил дыхание, происходит нечто совершенно иное.
Автор объединяет в «кадре» «сцену» и «зал». Композиционный сдвиг обозначен переосвоением заданного в экспозиции противопоставления «свет – тьма». Свое неожиданное превращение из зрителя в персонажа рассказчик обозначает фразой: «Я вышел на свет» (Там же). Игроки, бывшие доселе единственными действующими лицами, объектом всеобщего внимания, становятся статистами.
Проигрыш Наумова и необходимость оплатить карточный долг разворачивают сюжет, обращая весь предыдущий ход рассказа в род экспозиции. Убийство Гаркунова, чей свитер понадобился Наумову для оплаты проигрыша, совершается зрителем – тем самым дневальным, что наливал Гаркунову «юшку», – и вызывает явное недовольство одного из игроков: «Не могли, что ли, без этого? – закричал Севочка» (1: 53). На буквальном уровне восприятия эта смерть является неожиданностью не только для читателя, но и для обеих групп персонажей и – как неожиданность, взрыв – несет в себе повышенный информативный и эмоциональный заряд.
Фактически в финале рассказа Шаламов сталкивает поверхностный семантический ряд фабулы и «грамматическое» значение композиции. Мы можем предположить, что описанный композиционный излом:
а) передает реальные качества (непредсказуемость, убийственную враждебность) изображаемого в рассказе мира;
б) организует общую для служебных уровней «Колымских рассказов» систему дестабилизации, диссонансной ориентации текста (конечная задача которой – воспроизвести в сознании читателя основные свойства лагерной вселенной);
в) является средством достижения предельного сгущения смысла, сравнимого по нагрузке с информационным полем реальной жизни.
Однако даже на элементарном уровне «того, на что указывает, что сообщает», по выражению Золотоносова, система семантических отношений в рассказе «На представку» не исчерпывается бинарной корреляцией между фабулой и композицией.
Если мы перейдем к мотивной структуре текста, то обнаружим, что рассказчик, казалось бы, столь тщательно выстраивавший оглушительно неожиданный финал, одновременно рассеивал по тексту предупреждающие знаки, убеждая читателя ничего не принимать на веру.
Все упоминаемые в «На представку» предметы, события и связи между ними изменяются в самый момент возникновения на страницах рассказа (так, «грязная пуховая подушка» становится карточным столом), однако помимо ощущения зыбкости, нестабильности, противоестественности происходящего (вообще характерного для сборника) мотивный фон «На представку» содержит еще и отчетливый привкус фальши, подделки, профанации.
Поле карточного сражения освещает даже не свечка, а слабенькая лампа-«колымка», и автор подробно рассказывает, как работает это самодельное устройство. Настоящего света эта лампа не дает и потому настоящей же лампой считаться не может. «Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго» (1: 48), далее следует описание технологии изготовления тюремных карт. Говоря об уголовной моде, Шаламов упоминает «фиксы» – род блатного шика, «золотые, то есть бронзовые коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы» (1: 49), – и заваленных заказами «самозваных», фальшивых зубопротезистов. Крестик, который носит Наумов, символизирует не религиозность, а принадлежность к «ордену» воров «в законе». И, наконец, сама игра изначально заявлена как жульническая, шулерская: «честная воровская игра – это и есть игра на обман…» (Там же).
Точно так же «перевернуто» опорное противопоставление «свет – тьма»: внутри рассказа тьма ассоциируется с безопасностью, теплом и пищей, а свет – с холодом, опасностью и смертью: «В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова» (1: 53).
Даже убийство является в некотором смысле обманом, ибо происходит как бы случайно, не по воле блатарских главарей, а по инерции, по привычке. И убийцей оказывается «тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров» (Там же), человек, обозначенный в экспозиции как податель еды, тепла, а значит, и жизни.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?