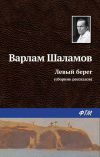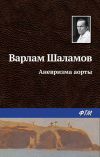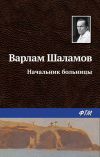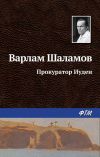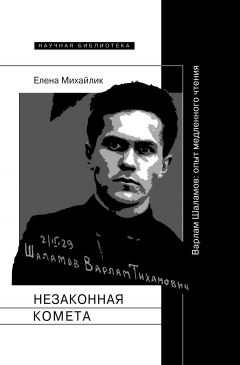
Автор книги: Елена Михайлик
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Заявленное не совпадает с описываемым. Тот, кто отмечает, что лагерный мир – это мир без книг, еще не существует в пределах нарратива, ибо для рассказчика книги – принадлежность другого мира, никак не соотносящегося с его собственным.
Процесс рождения почти самостоятельного, спонтанного слова «сентенция» – римского слова, непригодного для тайги, слова, возвращающего рассказчику личное прошлое и способность к абстрактному мышлению, – процесс возникновения слов «раньше на языке, а потом – в мозгу» воспроизводится при помощи языковых средств, самому рассказчику еще недоступных.
С каждым новым возвращением убыстряется темп повествования:
А потом настал день, когда все, все пятьдесят рабочих бросили работу и побежали в поселок, к реке, выбираясь из своих шурфов, канав, бросая недопиленные деревья, недоваренный суп в котле. (1: 405)
Читатель ожидает уже некоего радостного чуда, но на командировку с танцевальным названием «Рио-рита» просто приезжает из Магадана начальник со старым патефоном и пластинками с симфонической музыкой.
«Шеллачная пластинка кружилась и шипела, кружился сам пень, заведенный на все свои триста кругов, как тугая пружина, закрученная на целых триста лет» (1: 406), – последняя фраза с ее аллитеративным строением перемещает рассказчика за пределы лагерного контекста, во внешний мир, где существуют музыка, история, метафора и звукопись, и делает возможным существование самого рассказа, ибо только здесь, на этой границе возникает тот, кто способен совместить опыт лагеря и язык, необходимый для передачи этого опыта, поскольку внутри лагеря, в границах небытия этого языка не существует.
Сам Шаламов, естественно, и заметил, и отрефлексировал эту двойственность:
Метафоричность, усложненность речи возникает на какой-то ступени развития и исчезает, когда эту ступень перешагнут в обратной дороге…Весь мой дальнейший рассказ и с этой стороны неизбежно обречен на лживость, на неправду. Никогда я не задумался ни одной длительной мыслью. Попытки это сделать причиняли прямо физическую боль. Ни разу я в эти годы не восхитился пейзажем – если что-либо запомнилось, то запомнилось позднее…Как вернуть себя в это состояние и каким языком об этом рассказать? Обогащение языка – это обеднение рассказа в смысле фактичности, правдивости… Я буду стараться дать последовательность ощущений – и только в этом вижу возможность сохранить правдивость изложения. (4: 442–443)
Фактически аналогичный подход некогда описывал сотрудничавший с ЛЕФом Дзига Вертов: «Я – киноглаз. Я – глаз механический. Я, машина, показываю вам мир таким, каким только я его смогу увидеть… В помощь машине-глазу кинок-пилот, не только управляющий движениями аппарата, но и доверяющий ему при экспериментах в пространстве…» (Вертов 1923: 141). Только Вертов говорил о возможности исследования человеческого мира при помощи принципиально не относящегося к этому миру аппарата. И противопоставлял статичный человеческий глаз динамической камере.
У Шаламова ситуация обратная: роль «подвижной», активно существующей в среде кинокамеры играет человек, погруженный в лагерный мир, живущий его убийственным ритмом. А «статичным» «пилотом», «монтажером», тем, кто ведет отбор и доверяет или не доверяет выбору камеры, служит выживший. Тот же самый человек, но уже пребывающий вовне. Живой.
Можно вспомнить, что в «Последнем бое майора Пугачева» фактической целью персонажей, совершающих вооруженный побег, является не выживание – оно маловероятно, а присвоение себя и своей точки зрения, возможности распоряжаться собой, руководствоваться собственным видением, быть – сколько получится – солдатом, а не заключенным.
Таким образом, фактически одним из основных средств изображения в «Колымских рассказах» оказывается сам процесс перевода, перехода из пространства, где значений не существует по определению, в пространство речи.
То, что внутри концепции «Нового ЛЕФа» было противоречием между требованием следовать материалу и внешней по отношению к материалу (и заведомо идеологической) позицией автора, для Шаламова – источник грамматических значений, способ спроецировать лагерный мир на язык.
Воспроизвести не изображение и не некий зафиксированный техническими средствами объем, а само видение мира и сделать его фактом биографии читателя. Не зеркала, не кубатура – а представление о состоянии того, кто находится в этой кубатуре и не отражается в этих зеркалах, потому что у мертвых нет ни теней, ни отражений.
Революция в литературе, о которой столько говорили теоретики ЛЕФа, совершилась. Появилась модель порождения текстов, на каждом уровне представляющих собой срез материала и, более того, являющихся успешной (иначе читатели не воспринимали бы насквозь литературные шаламовские тексты как документ) проекцией материала на сознание аудитории. Вероятно, этот переворот мог осуществиться и на иной теоретической базе – но вышло так, что при всем отторжении, при всех противоречиях инструментарий, терминологию, систему координат, саму возможность поставить проблему Шаламову дал именно ЛЕФ.
Революция совершилась, но оказалась настолько успешной, что прошла незамеченной.
Некогда Зевксис с Паррасием поспорили, кто напишет лучшую картину. Собрался народ, вышли двое соперников, у каждого в руках картина под покрывалом. Зевксис отдернул покрывало – на картине была виноградная гроздь, такая похожая, что птицы слетелись ее клевать. Народ рукоплескал. «Теперь ты отдерни покрывало!» – сказал Зевксис Паррасию. «Не могу, – ответил Паррасий, – оно-то у меня и нарисовано». Зевксис склонил голову. «Ты победил! – сказал он. – Я обманул глаз птиц, а ты обманул глаз живописца».
Варлам Тихонович Шаламов написал книгу такой меры мастерства и убедительности, что и птицы, и живописцы до сих пор не поняли, что перед ними.
Впервые: Антропология революции. Сб. статей. Сост. и ред. И. Прохорова, А. Дмитриев, И. Кукулин, М. Майофис. – М.: Новое литературное обозрение, 2009. – С. 178–204.
Тоkеr 1989 – Toker L. Stories from Kolyma: the Sense of History // Hebrew University Studies in Literature and Art. 1989. Vol. 17. P. 189–220.
Вертов 1923 – Вертов Д. Киноки. Переворот // ЛЕФ. 1923. № 3. С. 135–143.
Гаспаров 1994 – Гаспаров Б. М. Структура текста и культурный контекст // Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. М.: Наука, 1994. С. 274–303
Гинзбург 2002 – Гинзбург Л. Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002.
Ерофеев 1988 – Ерофеев В. О Кукине и мировой гармонии // Литературное обозрение. 1988. № 3. С 111–112.
Золотоносов 1994 – Золотоносов М. «Последствия Шаламова» // Шаламовский сборник. Вологда, 1994. № 1. С. 176–182.
ЛЕФ 2000 – Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. М., 2000.
Мамардашвили 1989 – Мамардашвили М. Третье состояние // Киносценарии. 1989. № 3. С. 182–186.
Михоэлс 1981 – Михоэлс М., Рудницкий К. Статьи, беседы, речи: статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
Эренбург 1990 – Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Воспоминания: В 7 т. М., 1990.
Документность «Колымских рассказов»: деформация как подлинность
Эссе А. Д. Синявского о «Колымских рассказах» называется «Срез материала». И начинается с лагерной легенды:
Вскоре после войны, рассказывают, где-то в глухой тайге, недалеко от океана, многие заключенные, избавляясь от непосильной работы, в отчаянии рубили себе руки топором. Отрубленные пальцы и кисти рук закладывались в бревна, в пачки великолепного строевого леса, обвязанные проволокой и предназначенные на экспорт. Начальство не доглядело, спеша зеленое золото обменять на золотую валюту. И поплыл драгоценный груз в Королевство Великобритании, англичане тогда особенно хорошо покупали советский лес. Только смотрят, развязав пачку, – отрубленные руки. Выгрузили вторую, третью: опять между бревнами человеческое мясо. Смекнули догадливые британцы – что это значит, откуда дрова. (Синявский 1994: 224)
Эта легенда, история об отрубленных руках, превратившихся в сообщение, напомнила Синявскому писательскую судьбу Шаламова. Саму же шаламовскую прозу Синявский сравнивал со строевым лесом. Со срезом лагерного и человеческого материала, художественные достоинства которого заключаются именно в аутентичности. В том, насколько точно и удачно шаламовский текст воспроизводит физический, физиологический лагерный опыт.
«Художественные средства» в рассказах Шаламова сводятся к перечислению наших остаточных свойств: сухая как пергамент, потрескавшаяся кожа; тонкие, как веревки, мускулы; иссушенные клетки мозга, которые уже не могут ничего воспринять; обмороженные, не чувствительные к предметам пальцы; гноящиеся язвы, замотанные грязными тряпочками. Се – человек. (Синявский 1994: 227)
Этот вывод интересен тем, что его автор – литературовед и писатель, который – в теории – не мог не заметить, что арсенал художественных средств Шаламова никак не сводим к «перечислению остаточных свойств». Что палитра Шаламова вызывающе богата. Абрам Терц, написавший «Прогулки с Пушкиным», игнорирует, таким образом, зачин «Играли в карты у коногона Наумова» и другие – многочисленные – отсылки к классике. Автор «Снов на православную Пасху» как бы не видит огромного пласта евангельских аллюзий, цитат, освоенных сюжетов.
В предыдущих работах мы рассматривали некоторые особенности шаламовской риторики и восприятия лагерной литературы, которые, на наш взгляд, способствовали возникновению этого странного феномена: устойчивой и даже несколько агрессивной трактовки демонстративно художественных текстов как «документальных».
Эта модель прочтения возникла одновременно с появлением самих «Колымских рассказов». Как вспоминает С. Ю. Неклюдов,
проза вызывала больший интерес, но в Шаламове-прозаике ценился умелый очеркист, летописец Колымы; к его рассказам относились скорее как к документу, чем как к произведениям художественной литературы. (Неклюдов 1994: 164)
Под «документом» здесь, конечно же, подразумевается фактуальное, невымышленное повествование. Собственно, принадлежность «Колымских рассказов» к литературе факта и точность самих фактов очень долго не ставили под сомнение даже идеологические оппоненты Шаламова:
Этот сборник не может принести читателям пользы, так как натуралистическая правдоподобность факта, которая в нем, несомненно, содержится, не равнозначна истинной, большой жизненной и художественной правде, которую читатель ждет от каждого художественного произведения[73]73
Дремов 2002: 38.
[Закрыть].
Однако позиция Синявского выделяется и на этом фоне, ибо если большая часть читателей по умолчанию рассматривала Шаламова как мемуариста или очеркиста – иными словами, как свидетеля, очевидца, пострадавшего, самостоятельно оформившего и записавшего свои показания[74]74
Итальянский философ Джорджо Агамбен, в числе прочего создававший понятийные рамки для работы с опытом Катастрофы, в своих исследованиях противопоставляет свидетельство документу. Свидетельство для Агамбена – спонтанный нарратив, субъект которого пережил некое (по умолчанию чрезвычайно травматическое) событие; документ – повествование о том же событии, но уже структурированное и оформленное в соответствии с культурными нормами и, как следствие, в определенной мере адаптированное к травме (Agamben 1999). Однако более распространенным способом говорить о документе и свидетельстве, как видим, остается их отождествление.
[Закрыть], – то Синявский видит и в Шаламове, и в его текстах по преимуществу материал. По преимуществу, а не полностью, ибо срез материала все же производится извне и искусственно и подразумевает внешнее вмешательство, существование того, кто сделал распил.
«Материал» (если следовать за метафорой Синявского) отличается от свидетельства тем, что изначально вовсе не обязательно направлен на коммуникацию, общение, сообщение. Он ни к кому не обращается и существует как бы сам по себе.
Синявский не случайно подчеркивает, что лагерную легенду об отрубленных руках напоминают не сами рассказы Шаламова, а их «судьба». «Королевство Великобритании» возникает в легенде как модель идеального, совокупного адресата, результат попыток вообразить некую «нормальную» аудиторию, способную оценить лагерную эпидемию «саморубов». Оценить по существу[75]75
Интересно, что самая «сказочная» с точки зрения Синявского часть легенды («„Нет, мы не можем себе этого позволить! – воскликнула Королева, выступая в английском парламенте. – Нельзя покупать дерево, добытое такой ценой!“ И расторгли большинством голосов выгодную торговую сделку» – Синявский 1994: 224) структурно воспроизводит реальный инцидент 1904 года с точностью до отрубленных рук и выгодной торговой сделки. Именно руки, отрубленные в наказание за невыполнение нормы по добыче сока гевеи (в некоторых случаях – корзины рук), фигурировали в числе прочего в знаменитом докладе британского консула Роджера Кейсмента британскому же парламенту о положении дел в Конго (в то время – личной колонии бельгийского короля Леопольда). Парламент тогда действительно оказался не готов покупать каучук, добытый такой ценой, и потребовал от стран-участниц Берлинской конференции немедленного вмешательства. Результатом стало официальное расследование и превращение колонии из частного владения в собственность государства. Синявский при написании статьи вряд ли оглядывался на этот инцидент, и в настоящий момент достаточно сложно сказать, в каком отношении лагерный слух состоит с громким скандалом вокруг Конго; скорее всего, временной разрыв слишком велик и связи тут нет. Но в обоих случаях, реальном и вымышленном, отъятая часть тела, будучи в одной среде фактом «быта» (в терминологии формальной школы), попадая в другую, становится текстом, прямым и внятным сообщением о бедствии.
[Закрыть]. Заключенные, согласно пересказанной Синявским истории, отрубали себе руки, «избавляясь от непосильной работы», но перспектива прочтения, понимания, правильной оценки со стороны внешней аудитории придает этому страшному действию качественно иной смысл: «Дескать, существует еще на свете Королевство Великобритании, брезгающее советскими тюрьмами. Рубите руки в доказательство правды! Они – поймут…» (Синявский 1994: 224). Нелегендарный вариант той же ситуации Синявский описывает несколько по-иному: «И ведь действительно – рубили. Не ради пропаганды, с отчаяния. Может быть, кто-то и закладывал в дрова: доплывут. Только вряд ли тот сигнал, обращенный к Господу Богу, дошел до Англии» (Там же).
Итак, в рамках легенды действия заключенных оказываются направленными именно на передачу сообщения – и они успешны, они достигают цели. Синявский в возможность такой коммуникации не верит в принципе, и Шаламов для него – антитеза лагерному фольклору:
Выслушав эту басню тогда, я подумал о Шаламове. Вот уж у кого не было иллюзий. Без эмоций и без тенденций. Просто запомнил. Рубят руки? – это верно. Демонстрация фактов? – да. Но чтобы кто-нибудь понял, пришел на помощь? Да вы смеетесь. Торговля… (Синявский 1994: 225)
«Колымские рассказы» для Синявского – как те отрубленные руки, как те ровно распиленные баланы (до того как за них взялась легенда) – обращены разве что к Господу Богу. Они не являются сообщением – за отсутствием точки приема. Код, угол зрения, сам текст – всё здесь принадлежит адресату. Отправитель же груза становится автором лишь постфактум, после того, как груз пересекает культурную границу и без чьей-либо на то воли превращается из товара в послание.
Называя «Колымские рассказы» «срезом материала», Синявский тем самым приписывает шаламовской прозе практически полную герметичность, непреднамеренность и отсутствие адресации. Свойства эти, казалось бы, мало совместимы с самой идеей не только художественного текста, но и документа. Ибо документ по определению – носитель организованной информации. Он существует, чтобы быть прочитанным.
Здесь нам хотелось бы оговорить следующее: к термину «документ», к представлениям о документе в связи с «Колымскими рассказами» апеллируют не только читатели Шаламова, но и сам Варлам Шаламов. Что он имеет при этом в виду? Насколько его видение документа совпадает с теми или иными общепринятыми образами, насколько оно опирается на традиционную дихотомию «документального» и «художественного»?
Формулируя задачи прозы «после самообслуживания в Освенциме и Серпантинной на Колыме», Шаламов писал:
Новая проза – само событие, бой, а не его описание. То есть – документ, прямое участие автора в событиях жизни. Проза, пережитая как документ. Эффект присутствия, подлинность только в документе. (5: 157)
Термин «документ» в данном случае обозначает не столько принцип нарративизации личного опыта, не столько даже формальные характеристики письма, открывающие тексту повышенный кредит доверия, сколько бытующее в культуре представление о «подлинном», «точном», «неопосредованном», «воспринимаемом как часть собственной реальности», к которому Шаламов намерен апеллировать.
При этом может создаться впечатление, что для Шаламова подлинность равна спонтанности, отсутствию любого контроля над написанным, в том числе и контроля авторского:
Все, кто пишет стихи, знают, что первый вариант – самый искренний, самый непосредственный, подчиненный торопливости высказать самое главное. Последующая отделка – правка (в разных значениях) – это контроль, насилие мысли над чувством, вмешательство мысли. (5: 155)
На это обстоятельство обратил внимание, например, Ульрих Шмид в своей статье «Не-литература без морали. Почему не читали Варлама Шаламова», назвав творческий метод автора «Колымских рассказов» «программой „автоматического письма“»(Шмид 2007). Собственно, он пошел дальше, постулируя, что для Шаламова литература «не есть уже старательно создаваемое творцом произведение искусства, но результат мучительного процесса усвоения, в котором непосредственно воплощается некоторый момент жизни». Иными словами, для Шаламова написанное в идеале должно совпадать – и в значительной мере совпадает – с проживаемым.
Нам представляется, что спонтанность шаламовских текстов была весьма и весьма относительной. Например, Шаламов объяснял тот факт, что его читатели острее реагируют на книгу в целом, чем на отдельные рассказы, «неслучайностью отбора, тщательным вниманием к композиции». Он неоднократно строил сюжет на парафразе классического произведения или анекдота, что все-таки плохо сочетается с автоматизмом и непреднамеренностью.
И тем не менее Шаламов действительно полагал, что свойства текста, в том числе и формальные, должен диктовать не автор, а предмет изображения и что достигается это обращением к непосредственному переживанию.
В воспоминаниях о Шаламове и в его эпистолярном архиве обнаруживаются интересные параллели. Так, А. И. Солженицын цитирует мнение Шаламова о поэзии: «Надо выдать кровь – и будут стихи!» (Солженицын 1999: 164), а в письме, адресованном И. П. Сиротинской, сам Шаламов замечает: «…В документе – во всяком документе – течет живая кровь времени» (6: 488). Стихотворение и документ, таким образом, оказываются связаны через кровь – предельный личный опыт. Возникающий из такого опыта литературный текст, по Шаламову, становится документом и в конечном счете обретает способность свидетельствовать о самом авторе: «А в более высоком, в более важном смысле любой рассказ всегда документ – документ об авторе, – и это-то свойство, вероятно, и заставляет видеть в „Колымских рассказах“ победу добра, а не зла» (5: 149).
Подобное представление о подлинности как о слиянии автора и предмета описания (при том что определяющее значение имеет верность предмету) уходит корнями в забытые к началу шестидесятых двадцатые: «Литература есть такой же сколок жизни, как и всякий другой участок. Мы не мыслим себе отрыва писателя от того предмета, о котором он пишет» (ЛЕФ 2000: 15).
Это представление накладывалось в теоретических работах и переписке Шаламова на другие образы документа, в частности документа как безличного текста. По всей видимости – не случайно[76]76
В одной из теоретических работ Шаламов отождествлял память с кинолентой, записью, где зафиксирован не только сам опыт, но и соотнесенный с этим опытом метаязык – собственно, выступающий уже его естественной, неотделимой частью: «Память – это ленты, где хранятся не только кадры прошлого, все, что копили все человеческие чувства всю жизнь, но и методы, способы съемки» (6: 493–494) – эта кинометафора также очень близка к позиции ЛЕФа и окололефовских художников, полагавших, что материал обладает собственным, присущим ему языком, не зависящим от личных свойств и желаний того, кто берет этот материал в руки. Язык этот можно вычленить, но нельзя придумать.
[Закрыть]. Нам кажется, что то неожиданное впечатление, которое произвели на Синявского «Колымские рассказы», было порождено писательской стратегией Шаламова, призванной обеспечить этой прозе двойную «документальность», а значит, и двойную достоверность: достоверность непосредственно проживаемого персонального опыта, запечатленного на письме, и достоверность беспристрастного «машинного» повествования.
Рассмотрим, как достигается этот эффект.
Тело и мышление
Говоря о человеческом теле в условиях лагеря, Шаламов практически всегда пользуется двумя категориями:
– разложения, физиологического распада:
Я улыбнулся Рабиновичу кривой своей улыбкой, разрывающей раненые губы, раздирающей цинготные десны (1: 475),
Из больших пальцев на обеих ногах сочился гной – и не было гною конца (1: 401),
Тут же везут заключенных чистенькими стройными партиями вверх, в тайгу, и грязной кучей отбросов – сверху, обратно из тайги (1: 196);
– и частичной (а порой и полной) механизации:
…Мускулы наших ног и рук давно превратились в бечевки – в веревочки (1: 467),
Кисть руки, живая, была похожа на протез-крючок. Она выполняла только движения протеза (1: 209),
…Левая его кисть начала месяц назад разгибаться, отгибаться, как ржавый шарнир, получивший снова чуточку смазки (1: 441).
Два эти мотива постоянно взаимодействуют, пересекаются, порой сосуществуют в пределах фразы или периода:
Кожа была натянута на скелет – весь Рябоконь казался пособием для изучения топографической анатомии, послушным… пособием-каркасом…Сухая кожа шелушилась по всему телу, и синие пятна будущих пролежней обозначались на бедрах и пояснице. (2: 151)
Конечный результат обоих процессов одинаков. Под воздействием лагеря человек превращается в предмет – путем ли последовательного разложения органики или прямой подстановки в ряд других орудий труда:
Были ночи, когда никакого тепла не доходило до меня сквозь обрывки бушлата, телогрейки, и поутру я глядел на соседа как на мертвеца и чуть-чуть удивлялся, что мертвец жив, встает по окрику, одевается и выполняет покорно команду. (1: 399–400)
Следующей стадией будет физическая смерть – после нее объект перестает меняться и парадоксальным образом становится впредь неподвластен распаду:
Впрочем, их трупы будут нетленны всегда – мертвецы вечной мерзлоты. (1: 194)
Превращение человека в предмет происходит не избирательно и от личных качеств заключенного не зависит. У бывшего студента-юриста Андреева и у лагерного «бизнесмена» Кости Ручкина руки одинаково согнуты «по черенку лопаты». Лагерь как бы «типизирует» личный состав:
По фамилии никого из этих прибывших не звали – это были люди из чужих этапов, неотличимые друг от друга ни одеждой, ни голосом, ни пятнами обморожений на щеках, ни пузырями обморожений на пальцах. (2: 119–120)
Большинство лежало навзничь или ничком… и их тела на массивных нарах казались наростами, горбами дерева, выгнувшейся доской. (1: 205)
Темные пятна давних отморожений на щеках были похожи на казенное тавро, на печать, которой клеймила их Колыма. (1: 489)
«Казенное тавро» – знак вечной и безраздельной принадлежности заключенных к отметившей и отменившей их лагерной вселенной.
В рассказе «Спецзаказ» повествователь как бы походя дает исчерпывающую оценку влиянию лагерей на физиологию заключенного:
Запоздалое вмешательство медицины спасало кого могло, или, вернее, что могло – спасенные люди навсегда переставали быть людьми. (1: 359)
Но давление среды, естественно, распространяется не только на сферу физиологии:
От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить… Внутри все было выжжено, опустошено, обожжено, нам было все равно, и дальше завтрашнего дня мы не строили планов. (1: 108)
Ясно, что психика повреждена желанием утвердить себя хоть в малом – еще одно свидетельство великого смещения масштабов. (1: 503)
Здесь наблюдается любопытное смысловое смещение. Описания физиологии внутри «Колымских рассказов» обычно локализованы в застывшем настоящем времени – том времени, в котором живет заключенный: они даны сейчас, прошлого не существует, а будущее персонаж (если только он каким-то лагерным чудом не оказался в привилегированных условиях, позволяющих ощутить течение времени) не способен воспринять. Последнее относится и к историческим событиям любой степени значимости:
– Слушайте, – сказал Ступницкий. – Немцы бомбили Севастополь, Киев, Одессу.
Андреев вежливо слушал. Сообщение звучало так, как известие о войне в Парагвае или Боливии[77]77
Заметим, что Андреев находится в состоянии еще относительно благополучном: он помнит о существовании Парагвая или Боливии и – с вероятностью – о Чакской войне между этими государствами (1934–1935, более 90 тыс. погибших и пропавших без вести).
[Закрыть]. Какое до этого дело Андрееву? Ступницкий сыт, он десятник – вот его и интересуют такие вещи, как война.Подошел Гриша Грек, вор.
– А что такое автоматы?
– Не знаю. Вроде пулеметов, наверное.
– Нож страшнее всякой пули, – наставительно сказал Гриша.
– Верно, – сказал Борис Иванович, хирург из заключенных. – Нож в животе – это верная инфекция, всегда опасность перитонита. Огнестрельное ранение лучше, чище…
– Лучше всего гвоздь, – сказал Гриша Грек. (1: 551)
Психологические же последствия пребывания в лагерной среде наделены дополнительным свойством – длительностью. Они по определению долговременны, причем влияние лагеря на психику не прекращается с окончанием срока – и даже с фактическим исчезновением лагеря. В рассказе «Припадок», открывающем цикл «Артист лопаты», воспоминания уже давно живущего на свободе – и совсем в другом мире – рассказчика о «Севере» отождествлены с припадком, с болезнью. «Знакомая сладкая тошнота» объединяет в одно целое память о лагерях и нервное заболевание. Рассказ заканчивается словами: «Мне хотелось быть одному. Я не боялся воспоминаний» (1: 410).
В результате единственной временной границей присутствия лагеря в сознании человека для повествователя (а следовательно, и для читателя) оказывается продолжительность жизни заключенного.
Под давлением лагеря личные качества убывают, стремятся к нулю. Сокращается словарь, стирается память:
… Коногон Глебов, бывший профессор философии, известный в нашем бараке тем, что месяц назад забыл имя своей жены… (1: 421–422)
Прошлое являлось здесь из-за стены, двери, окна: внутри никто ничего не вспоминал. (2: 134)
Люди более не способны управлять ни своими чувствами, ни формами их проявления:
Человек, который невнимательно режет селедки на порции, не всегда понимает (или просто забыл), что десять граммов больше или меньше – десять граммов, кажущихся десять граммов на глаз, – могут привести к драме, к кровавой драме, может быть. О слезах же и говорить нечего. Слезы часты, они понятны всем, и над плачущими не смеются. (1: 113)
Драки быстро угасали, сами по себе, никто не удерживал, не разнимал, просто глохли моторы драки… (1: 143)
Души оставшихся в живых подверглись полному растлению, а тела их не обладали нужными для физической работы качествами. (1: 362)
Теряя контроль над внутренним миром, персонажи Шаламова лишаются и тех немногих возможностей управлять своей судьбой, которые еще оставляет человеку лагерь. «Великое Безразличие» вытесняет сначала желание, а затем и способность мыслить и действовать самостоятельно.
Человеку очень трудно самому принимать решение, совершить поступок, действие, какому не научила его повседневная жизнь…Оттого и движения его были беспомощны, неумелы… мозг не умел правильно решать неожиданные вопросы, которые задавала жизнь. Его учили жить, когда собственного решения не надо, когда чужая воля, чья-то воля управляет событиями. (1: 539)[78]78
Бруно Беттельхайм в книге «Просвещенное сердце», посвященной теории и практике тоталитарного государства и в значительной мере основанной на личном – Бухенвальд и Дахау – опыте автора, замечает, что лишение связи с прошлым и возможности влиять на будущее производило на заключенных – практически независимо от их характера, социального происхождения, вероисповедания или политических убеждений – одинаковое разлагающее воздействие: возвращало личность в «детство». «Доступные удовлетворению потребности принадлежали к числу самых примитивных: еда, сон, отдых. Как и дети, они [заключенные] жили в сиюминутном настоящем; они перестали воспринимать временные последовательности… Они утратили способность к установлению стабильных человеческих отношений» (Bettelheim. 1970: 156; перевод мой. – Е. М.).
[Закрыть]
Как неоднократно отмечалось, Шаламов часто тасует мысли, имена и биографии своих персонажей, «путает» даты, меняет обстоятельства. В пределах цикла одна и та же история может быть рассказана неоднократно – и демонстративно по-иному.
Майор Пугачев («Последний бой майора Пугачева», цикл «Левый берег») может в соседнем цикле рассказов («Артист лопаты») оказаться подполковником Яновским – человеком с совершенно иным характером и иной биографией. Опознание персонажа происходит за счет почти дословных текстуальных совпадений, например: «И бывший подполковник Яновский, культорг лагеря, почтительно доложил: „Не беспокойтесь, мы готовим такой концерт, о котором вся Колыма заговорит“» (1: 611); «Стали говорить: когда заезжий высокий начальник посетовал, что культработа в лагере хромает на обе ноги, культорг майор Пугачев сказал гостю: – Не беспокойтесь, гражданин начальник, мы готовим такой концерт, что вся Колыма о нем заговорит» (1: 361).
Общая плотность пересечений между персонажами «Колымских рассказов» такова, что позволяет многим исследователям говорить о постоянном мотиве двойничества у Шаламова[79]79
См., например: Юргенсон 2005.
[Закрыть].
Обстоятельства смерти или спасения тех или иных персонажей могут измениться несколько раз. Например, в рассказе «Курсы» («Артист лопаты») побег соученика повествователя по фельдшерским курсам через пол-Колымы к тяжелобольной женщине описан как мужественный, даже героический поступок, а в рассказе «Букинист» («Левый берег») та же ситуация будет представлена как часть какой-то невнятной подземной чекистской операции: «Увы, Флеминг не путешествует ради любви, не совершает героических поступков ради любви. Тут действует сила гораздо большая, чем любовь, высшая страсть, и эта сила пронесет Флеминга невредимым через все лагерные заставы» (1: 388).
В череде событий, датированных концом тридцатых – началом сороковых, могут обнаружиться сюжеты, по мелким приметам (вроде упоминания «перековки» и случайного указания возраста персонажа) относящиеся к 1929–1932 годам, но никак не выделенные из общего потока: какая разница тому, кто находится внутри лагеря, тридцать второй или сорок второй стоит на календаре снаружи?
Да и само повествование часто как бы не выдерживает давления среды, рассыпаясь на эпизоды – нередко лишенные зачина и обрывающиеся на полуслове. Рассказ «Галстук» начинается с упоминания о том, что одна из его героинь – вышивальщица Маруся Крюкова – пыталась отравиться вероналом, выменянным на еду. Схема обмена и те обстоятельства, благодаря которым торговля вероналом стала возможной, описаны подробно, но причин попытки самоубийства читатель не узнает – возможно, они неизвестны и рассказчику, да и мало ли из-за чего можно в лагере захотеть умереть.
В «Колымских рассказах» непропорционально часто встречаются персонажи, наделенные мыслями, внутренней позицией, биографией и внешностью самого Шаламова. Из них Андреев, Сазонов, Голубев, Крист, Поташников и Василий Петрович могут быть идентифицированы как двойники автора[80]80
Интересно, что Андреев носит фамилию эсера-боевика, некогда встреченного Шаламовым в Бутырской тюрьме, а Сазонов – фамилию убийцы Плеве (Шаламов писал ее именно так). Если первый маркер мог быть замечен внимательным читателем – эсер Андреев появляется в рассказах «Лучшая похвала», «Ожерелье княгини Гагариной», «Первый чекист», и сложно упустить ту меру уважения, с которой относится к нему рассказчик (андреевское «Вы можете сидеть в тюрьме» он считает лучшей в своей жизни похвалой), – то заметить «Сазонова» может разве что человек, знакомый с историей русского революционного движения. Cудя по всему, это редкий случай отсылки, сделанной автором скорее для собственного удовольствия, в подтверждение идентичности.
[Закрыть]. Соответственно, даже по умолчанию цельная авторская биография становится разорванной, фрагментарной, вариативной, а уникальная авторская личность – одной из многих, неизвестно кем, неважно кем. Лагерный опыт делается безличным, персональная точка зрения – невозможной. Прием этот используется вполне сознательно:
Переход от первого лица к третьему, ввод документа. Употребление то подлинных, то вымышленных имен, переходящий герой – все это средства, служащие одной цели. (5: 149)
Леона Токер в статье «Свидетельство и сомнение…» (Токер 2007) пытается объяснить дробление личности рассказчика отчасти внешними, коммуникативными причинами – феноменом восприятия. Токер предполагает, что нарочитая литературность этого приема могла, как ни парадоксально, работать на образ свидетельства, а не против него, увеличивая достоверность сообщения в глазах читателя.
В качестве одного из примеров исследовательница анализирует рассказ «Почерк» – историю о том, как заключенный по фамилии Крист, обладатель прекрасного почерка, был привлечен следователем по особо важным делам к переписке расстрельных списков и не попал в такой список сам потому, что следователь, уже успевший познакомиться с ним как с человеком, счел обвинение абсурдным и сжег его дело. Токер замечает: избрав точкой фокуса не «Варлама Шаламова» или анонимного рассказчика, а явно вымышленного Роберта Ивановича Криста, персонажа с символической фамилией, автор изымает из рассказа важный повод не доверять источнику.
Ведь человек, документирующий собственный опыт, полностью аналогичный кристовскому, немедленно попал бы под подозрение: не пытается ли он оправдать свои визиты «за конбазу», т. е. к следователю, найти им приемлемое объяснение? Ибо естественный ход лагерной жизни заставляет предполагать в заключенном, долгое время имевшем дело с особистом, вовсе не писаря-каллиграфа и не литературного родственника Акакия Акакиевича, а обыкновенного доносчика. Сделав из истории спасения не отчет, а художественный текст, Шаламов, с точки зрения Токер, как бы восстанавливает априорное доверие читателя к персонажу за счет доверия к автору, поместившему героя именно в такие нетипичные, но в принципе возможные обстоятельства.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?