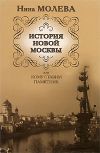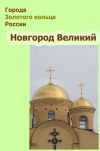Текст книги "Претерпевшие до конца. Том 2"

Автор книги: Елена Семенова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Утром Никита протянул ему потрёпанный портфель, с которым пришёл накануне:
– Вот, возьми. Варька просила передать.
– Что там?
– Посмотришь сам, – старый друг ещё раз крепко обнял Родиона и, по-русски троекратно расцеловав, простился: – Извиняй, что не провожаю на вокзал. Служба… До встречи, Родька! Может, свидимся ещё на этом свете, коли поживём подольше.
– До встречи, – кивнул Родион. – Поцелуй за меня Варюшку и племянников. Будьте счастливы!
Когда Никита ушёл, он раскрыл оставленный им портфель и с изумлением обнаружил в нём старинный альбом с гравюрами, принадлежавший отцу. Меж страниц была вложена записка сестры…
«Милый Родя! – писала Варюшка. – Я виновата перед тобой за то, как встретила тебя, но ты, я знаю, простишь меня. Незадолго до смерти папа передал мне этот альбом, наказав беречь. Все эти годы я берегла его, не продав даже в голодную пору. Завещая мне его, отец также наказал мне быть достойной его фамилии, его веры в меня. После разговора с тобой я вдруг поняла, что папа, будь он жив, говорил бы твоими словами, поступал бы, как ты… Я передаю тебе нашу единственную семейную реликвию потому, что из нас троих ты один остался Аскольдовым, настоящим наследником отца. Думаю, он одобрил бы меня… Надеюсь, эта вещь однажды пригодится тебе…»
Пелена слёз заволокла глаза Родиона. Чувство благодарности к сестре переполняло его сердце. Как ни закрутила её действительность, как ни затуманил ум агитпроп, а душа, прямая и любящая, осталась прежней.
Несколько минут он перелистывал драгоценный фолиант… Дорог дар, да только к чему такой скитальцу, лишённому имени, дома и родных, на пыльных дорогах, представляющих столько случаев лишиться куда менее ценного имущества? Решение пришло само собой и, бережно убрав альбом в портфель, закинув на плечо вещмешок, Родион навсегда покинул очередное временное жилище, ставшее для него местом огромного счастья и безысходного отчаяния…
Глава 16. Наследство
«Сорная трава живуча…» – от этих слов, полных жгучей боли, скрываемой под тоном издёвки, перехватило дыхание. Но не хватило Аглае духу ответить. Словно мысли её прочёл Замётов, и от этого опалил стыд.
Можно принять самое тяжёлое и невыносимое решение, можно отречься от себя, от собственного счастья, бывшего так близко, можно обречь себя на беспросветные годы рядом с ненавистным, тяжело больным человеком, можно принять крест, изломать беспощадно в который раз собственное естество… Одного нельзя – приказать сердцу не чувствовать или же чувствовать иначе.
В эту осень она впервые так явственно ощутила его – своё сердце. Не в смысле переносном, душевном, чувственном, а в самом что ни на есть физическом. Сердце болело, словно раскалённым клинком пронзали его, а затем поворачивали, поворачивали… Сердце мстило за муку, которой подвергалось столько лет и обрекалось вновь.
Последние недели Аглая не навещала Родиона, не могла отлучиться от мужа. Всем своим существом она чувствовала, как закипает обида в душе любимого человека, тихо плакала по ночам от жалости к нему, но ничего не могла изменить. Как могла Аля оставить Замётова? Сама себе никогда не простила бы потом. И Нюточка никогда бы не приняла… И не благословил бы отец Сергий… Даденный Богом крест надо нести до конца, как бы тяжел он ни был. Но, Господи, Господи, как же невыносим он! И где силы взять?..
Таким мыслям в очередной раз предавалась Аглая, сидя у окна и невидяще глядя на падающий густыми хлопьями снег. Хлопнула дверь в прихожей – это Нюточка прибежала с уроков, и Аля поспешила ей навстречу, предупредить, чтобы не шумела, не будила задремавшего больного.
Нюточка скинула с ног валенки и, переобувшись в тапочки, не снимая шубки и берета, всучила Аглае довольно объёмный свёрток:
– Тебе просили передать! – улыбнулась озорно.
– Кто? – удивилась Аля.
Нюточка беззаботно пожала плечами:
– Какой-то гражданин, – скинула, наконец, шубку, засыпав пол снегом, спохватилась: – Сейчас подмету!
– Успеешь, – остановила её Аглая. – Что за гражданин?
Снова пожим плечами:
– Незнакомый.
– Нюта! Ну, что ж, я из тебя каждое слово тянуть должна? Ты можешь объяснить по-человечески?
Нюточка сделала нарочито серьёзное лицо и заговорила чётко, точно делая доклад:
– Я шла домой. В нескольких шагах от дома меня окликнул гражданин.
– Как он выглядел? – взволнованно спросила Аглая.
– Не бойся, мама, не бандит, – девочка весело улыбнулась. – Очень даже хорошо выглядел! Высокий, красивый! Был бы помоложе, я бы влюбилась! – она тихонько рассмеялась.
– Была бы ты сама старше… – махнула рукой Аля. – Влюбилась бы она…
– А что? У нас в классе, например, Соничка в Стасика влюбилась, целыми уроками на него глазеет!
– Поэтому, видимо, все сочинения и контрольные она списывает у тебя… Бог с ней! Ты дальше рассказывай!
– А что дальше? Гражданин представился твоим старым знакомым и попросил тебе передать этот свёрток.
– И тебя это не удивило?
– Конечно, удивило! Я ему сказала, чтобы он просто зашёл к нам в гости, но он ответил, что у него была какая-то размолвка с дядей Саней, и он бы не хотел его тревожить. Слушай, мам! – глаза Нюточки засветились. – А он что, влюблён в тебя был, да? И они с дядей Саней из-за тебя поссорились?
– Нюта, перестань говорить вздор! – прикрикнула Аглая на девочку. – Что он ещё сказал?
– Сказал, что через час уезжает из Москвы, поэтому не может проститься с тобой лично, и просит передать тебе небольшой подарок на память и письмо…
– Уезжает?.. – переспросила Аля помертвевшими губами.
– Ну да. Потом он ещё поцеловал меня в лоб и пожелал счастья. Вот и всё, – Нюта небрежно бросила берет на полку. – Мам, я поем, ладно? Ужас, как проголодалась…
– Да-да… Суп в кастрюле, разогрей…
Когда девочка скрылась на кухне, Аглая быстро прошла в их комнату и дрожащими руками развернула свёрток. В нём лежал старинный альбом с гравюрами и письмо…
«Дорогая, единственная моя Аличка!
Прости, но я не мог уехать, хотя бы раз не поцеловав дочь, не сказав с нею слова. Мне кажется, я нашёл для этого самый невинный повод. Случилось так, что в моих руках оказался этот альбом – единственная память о моём отце, наша семейная реликвия… Он стоит не просто больших, а огромных денег, цену ему знают лишь настоящие коллекционеры. Я хотел бы, чтобы эта вещь принадлежала моей дочери, была бы моим наследством ей. Я не прошу тебя, Аля, теперь же рассказать ей всю правду, но, когда она достигнет совершеннолетия, расскажи ей обо мне. Всю ли правду о нас говорить или нет, решай сама. Но моя дочь должна знать, что она – Аскольдова, знать, кем были её отец и дед. Тогда и отдай ей этот альбом – как память обо мне. Если случится так, что вам будет очень трудно, вы можете продать его – я не осужу вас, потому что дороже вас двоих у меня никого нет.
За меня не тревожься. Сегодня я покидаю Москву. Ты знаешь, почему… Я не смею ни в чём винить тебя. Видимо, так угодно Богу, чтобы нам не быть вместе. Я не знаю, насколько уезжаю. Не буду говорить «навсегда», потому что уже дважды «навсегда» покидал Россию. На этот раз я не оставляю её, но попытаюсь найти какой-нибудь дальний угол в Сибири или на Дальнем Востоке, где и останусь. Может быть, через несколько лет на меня опять найдёт нестерпимая маята увидеть тебя хоть раз, и я приеду в Москву… Ты же искать меня не пытайся.
Прощай, Аличка. Я хотел бы пожелать тебе счастья, но слишком знаю, что оно невозможно для тебя так же, как и для меня. Поэтому желаю одного – счастья для нашей Ани. Береги её и себя!
Твой Родион».
Прочитав это краткое письмо, Аглая едва удержалась, чтобы не закричать. Быстро убрав альбом в свою тумбочку с тем, чтобы перепрятать позднее, она выбежала в коридор и, быстро надев пальто и валенки, сказала выглянувшей из кухни Нюточке:
– Мне нужно ненадолго отлучиться. Если дядя Саня проснётся, скажешь, что я поехала проведать тётю Лиду. Всё поняла?
Девочка пожала плечами.
Выбежав из дома, Аглая в который раз пожалела о канувших в лету извозчиках. Снег мёл всё сильнее, слепил глаза. Словно обезумевшая, Аля бежала сквозь него с непокрытой головой, затем ехала на трамвае, показавшимся немилосердно медленным. Трамвай! В трамвае в первый раз он окликнул её… Она сидела тогда на том же месте, рядом с входом, а он позади…
– Обилечиваемся! Обилечиваемся!
И почему у старух-кондукторш такой противный, визгливый голос?..
Если бы знать наверное, куда он едет! С какого вокзала! Но если подумать… Он же написал, что поедет в Сибирь! А, значит, Транссиб? Ярославский?..
На вокзал Аглая прибежала, едва дыша, спросила у первого встречного служащего:
– Скажите, сибирский поезд уже был сегодня?
– До Владивостока-то? Как не быть! – ответил тот. – Опоздали, гражданочка. Только-только отбыл. Вон, – дёрнул щетинистым подбородком, – виднеется ещё.
Аля посмотрела в указанную сторону и увидела тающий в снежной заверти поезд. Она не могла знать точно, но всем сердцем почувствовала, что это – тот самый поезд, поезд, навсегда увозящий от неё её Родиона. Навсегда, потому что новой встречи не будет… А она даже не успела проститься с ним, увидеть, поцеловать в последний раз. Поезд скрылся за стеной снегопада, и Аглая, хрипло и бесслёзно заплакав, бессильно опустилась на платформу, согнувшись, уткнувшись в неё лбом, не обращая внимания на снующих мимо людей.
– Эй, гражданочка, вы что это? – встревожился старичок-служащий. – Ну-ка поднимайтесь! Не положено здесь плакать. Давайте-давайте, соберитесь-ка. Домой идите!
– Да, вы правы… – ответила Аля, тяжело поднимаясь. – Плакать не положено… Спасибо…
– За что ж?
– Так… – Аглая, покачиваясь, побрела к выходу.
– Гражданочка, может, вам врача? Или проводить? – окликнул её старик.
Аля, не оборачиваясь, покачала головой. Сон кончился, и наступила явь, пронзительная и ещё более чёрная, чем прежде. И в этой яви снова надо было учиться дышать, жить без надежды на то, что однажды в трамвае бесконечно дорогой голос вновь окликнет по имени…
Глава 17. Жития
Давным-давно, когда в унылые недели постов отец по вечерам читал Жития Святых, Ростислав скучал. Жизнеописания древних подвижников не только не укрепляли его веру, но наоборот. Слишком трудно было поверить, что такие люди могли существовать в действительности. Отделённый от первых христиан многими столетиями, он воспринимал рассказы об их подвигах, как легенды, эпос, в котором, конечно, есть зерно правды, но куда больше вымысла.
Теперь он знал точно: ни единое слово в тех Житиях не было вымыслом, и мученики первых времён существовали взаправду. Он знал это потому, что видел таких людей воочию, более того, неисповедимому Божию промыслу было угодно ввести его в их круг.
Первые христиане делали своими церквями скрытые от чужих взоров пещеры, каменоломни, катакомбы. Христианам предпоследним нерукотворными храмами стали леса. На Соловках их было несколько, и первый среди них – «Кафедральный собор» Соловецкой Катакомбной Церкви, белыми стенами которого служили берёзы обступавшие кольцом отдалённую поляну, а куполом – небо. Ни в одном храме не возносилась душа так близко к Богу, как здесь. Неважно, что служить приходилось шёпотом, что при обнаружении «несанкционированного действа» участникам грозила Секирка, важно, что в такие мгновения Господь сам сходил к верным своим, даруя утешение.
Полгода провёл отец Вениамин в доме на Шпалерной. Третьего августа арестованным иосифлянам вынесли приговор. И вновь только подивиться можно было причудам большевистской юстиции. Бывший полковник Белой армии был приговорён ею к пяти годам ИТЛ с последующей ссылкой, а священник Николай Прозоров – к расстрелу… К высшей мере приговорили также отца Александра Тихомирова и архиепископа Димитрия. Последнему ввиду преклонных лет расстрел заменили десятью годами ИТЛ…
Вспоминалось, как через несколько дней после приговора дверь в камеру отворилась, и раздался окрик:
– Прозоров Николай Кириакович – с вещами на выход!
«В комнату душ…» – так говорили в Гражданскую… Отец Николай поднялся, с волнением взял скудные пожитки и, уже совершенно спокойный, простился с оставляемыми сострадальцами и ушёл, провожаемый их всё понявшими взглядами. Его страдания были завершены, и он мог быть спокоен, зная, что идёт ко Господу. Страдания их ещё длились…
Когда-то в отрочестве Ростислав прочёл в случайно попавшей в руки книжице об ужасах рабства. Книжица была скучна, и содержание её моментально выветрилось из головы, но запомнилось описание транспортировки отловленных в Африке людей в «цивилизованные страны». Клетки размером с гроб, трюмы кораблей, в которые затолкнуто в несколько раз больше «живого товара», чем они могли вместить, отсутствие воды и пищи, повальная дизентерия, нечистоты, смрад… В таких чудовищных условиях гибло больше половины людей. Трудно было поверить в возможность такого ада и в то, что в нём кто-то мог выжить.
Теперь он знал доподлинно: и тут ни йоты не выдумал позабытый автор. Передовой опыт, применённый в ХХ столетии в отдельно взятой стране, возродил опыт рабовладения во всех красках с одной поправкой: рабы не привозились на названные великими стройками плантации из дальних колоний, а вырывались из гущи её собственного народа.
Великие рабовладельческие империи прошлого перестали быть таковыми, когда лишились бесплатной рабочей силы, рабов, освободив их в приступе гуманности. Та же участь, вероятно, ожидала в будущем и новую рабовладельческую империю, в которую обратилась страна, когда-то именовавшаяся Святой Русью…
С такими мыслями отец Вениамин лежал на втором ярусе (решётке, надвое разделившей пространство) подло именуемого «столыпинским» вагона, стиснутый со всех сторон людьми, масса которых превышала в разы число, которое могло туда вместиться. Пищи и воды не было, но отчасти и ко благу: в вагоне, где люди лежали вповалку, не имея возможности шевельнуться, даже такое сомнительное «удобство», как параша, было недосягаемо. На первом ярусе скончался один из заключённых, и напрасно кричали лежавшие рядом, чтобы покойника убрали от них – так и проехал, смердя, до пункта назначения…
А затем была приёмка новой партии рабов на Соловках, и то, что казалось немыслимым вновь обернулось кошмарной явью… Многочасовая муштра на ледяном ветру под аккомпанемент отборной матерщины, избиения ослабевших «в битое мясо» озверевшими конвоирами, прапорщик Курилко, раздающий зуботычины не понравившимся арестантам. Впрочем, он, этот Курилко, оказался не самым большим злом. Бывший офицер, коренной петербуржец, этот человек, столь жестокий обычно, был исключительно обходителен со «своими»: с петербуржцами, с офицерами…
Случись оказаться на Соловках годом раньше, отец Вениамин вряд ли ступил бы в 1930 год. Аккурат на закате 1929-го, в преддверье широкомасштабных чисток в лагере освобождали место для новых партий… Освобождали единственно возможным способом: уничтожением ранее прибывшего контингента. Само собой, уголовных не трогали. Они, равно как и бытовики, были объявлены социально близкими, тогда как политические – социально опасными. Первых теория заповедала перевоспитывать, вторых – использовать исключительно на физических работах, то есть медленно и последовательно изводить. Реальность, правда, всё-таки поправляла теорию: сколь ни социально близки были советской власти воры и бандиты, но доверить им склады и каптёрки было делом немыслимым – перевоспитуемые вовсе не собирались отказываться от привычного ремесла. Не мешала им социальная близость и обворовывать вольнонаёмных. Волей-неволей приходилось начальству нарушать указания и ставить на ответственные работы «контру».
Тем не менее, «близких» лелеяли, а потому уничтожались лишь те, кто перевоспитаться не мог – «бывшие» люди. Шестьсот человек было «отправлено в расход» в те осенние дни. По ночам их партиями выводили мимо запертых бараков в рощу и расстреливали. Тела наспех закапывались у южной стены монастыря в братской могиле, курган над которой и ныне могли указать старожилы. К нему, правда, добавились другие – начатое тюремщиками зимой довершил завезённый с материка тиф, выкосивший много душ.
Среди убитых в страшные дни был и Георгий Михайлович Осоргин, человек, который в соловецком аду всецело посвятил себя помощи товарищам по несчастью. Будучи делопроизводителем лазарета, в каждом прибывающем этапе он разыскивал своих и старался устроить их, как мог, избавить от убийственных общих работ. Многие узники были обязаны жизнью благородству этого человека, давшего живой пример деятельной христианской любви к ближним. Рассказывали, что он уже был арестован, когда к нему на свидание с материка приехала жена. Его отпустили к ней, чтобы не пошло прежде времени слухов, и он ни единым словом не встревожил её, ничем не выдал нависшей над ним угрозы. Едва бедная женщина покинула остров, как Осоргин был расстрелян.
Незадолго до этого Соловецкий лагерь посетил Горький. Экскурсоводы от ГПУ продемонстрировали ему в качестве заключённых обряженных в новёхонькие робы чекистов. Классик пролетарской литературы умилялся… Многие наивные ждали его приезда, надеясь, что он, всегдашний защитник угнетённых, наконец, скажет правду, положит предел соловецкому кошмару, заступится за невинных… Один из малолетних узников рискнул наедине рассказать ему о том, что скрывали созданные чекистами к его приезду декорации. Алексей Максимович прослезился и… оставил в «Книге отзывов» Соловецкаго лагеря восторженные похвалы тюремщикам, «которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют, вместе с этим, быть замечательно смелыми творцами культуры». Наивного парнишку, судьба которого нисколько не озаботила «заступника», расстреляли…
Как ни прорядили соловчан из «бывших», но немало их оставалось в лагере. Иные прибывали с новыми потоками. Таким образом, как и на Шпалерной, отец Вениамин очутился среди своих. Как и на большой земле, на Соловках не было церковного единства: часть духовенства принимала митрополита Сергия, другая стояла на позициях иосифлян. Последних становилось больше по мере того, как поток их нарастал, и соловчане узнавали доподлинно о том, что происходит вовне.
Ядро соловецкой Катакомбной Церкви составляли епископы Иларион (Бельский), Виктор (Островидов), Максим (Жижиленко), Дамаскин (Цедрик), священник Николай Пискановский, профессор Иван Андреевский.
Епископ Виктор был единственным, с кем отца Вениамина до сих пор не сводила судьба, хотя не раз доводилось ему среди прочих документов перевозить и копии его пламенных воззваний. Казалось, что человек, пишущий подобное, должен выглядеть суровым пустынником, бичующим грехи и неправды, ветхозаветным пророком, Аввакумом. Но владыка, за глаза ласково называемый многими в лагере «владычкой», совсем не соответствовал этому образу.
Невысокий, румяный, синеглазый, одетый в какую-то бабью кофту поверх обкромсанной рясы, он походил на скромного сельского попика, а не архиерея. И не праведным гневом пылал его взор, а лучился теплотой и любовью, весёлостью и добротой, притягивавшей к нему людей. Всех он встречал открытой улыбкой, словно вслед батюшке Серафиму обращаясь к вошедшему «Радость моя!», со всеми был ласков и приветлив. «Каждого человека надо чем-нибудь утешить», – говорил он и умел утешить всякого, не делая исключений ни для кого – даже для «урок». Для каждого встречного у него было какое-нибудь приветливое слово, а часто даже какой-нибудь подарочек. Когда, после полугодового перерыва, открывалась навигация, и на Соловки приходил первый пароход, владыка Виктор обычно получал сразу много вещевых и продовольственных посылок с материка. Все эти посылки через несколько дней он раздавал, не оставляя себе почти ничего.
В лагере епископ Вятский работал бухгалтером Канатной фабрики. Домик, в котором находилась бухгалтерия и в котором он жил, располагался вне кремля, на опушке леса. Сюда часто приходили к нему для бесед, как соловецкие иосифляне, так и просто искавшие утешительного слова люди. Особенно продолжительны были разговоры владыки Виктора с владыкой Максимом, подвизавшимся в санитарной части. Их споры не были, по крупному счёту, спорами, а лишь обсуждениями единомышленниками отдельных явлений, видимых с разных сторон. Убеждённый пессимист, епископ Максим, готовился к тяжёлым испытаниям последних времён, не веря в возможность возрождения России. А владыка Виктор, несмотря ни на что, верил в возможность короткого, но светлого периода, как последнего подарка с неба для измученного русского народа.
Духовником владык был протоиерей Николай Пискановский, с которым отец Вениамин был знаком прежде. Ещё со времён патриарха Тихона отец Николай исполнял при украинских епископах-тихоновцах то же послушание, что и сам он в последние годы при архиепископе Гдовском – ведал организацией встреч епископата, обеспечивал безопасную и эффективную связь специальными посланцами и перепиской по условленным адресам, доставлял в разные точки страны письма и документы.
Некогда именно отец Николай получил из рук покойного митрополита Агафангела Ярославского отказ от притязаний на местоблюстительство, которого так добивался Страгородский…
Год спустя, направляясь в очередную ссылку, в Воронеж, он заехал к последнему в Нижний Новгород, чтобы передать ему послание от группы украинских иерархов, осуждавших Декларацию. На встрече с митрополитом отец Николай просил и убеждал его отказаться от позорного акта, но безуспешно. По этой причине и сам он уже не мог принять предложение Страгородского не ехать в ссылку, а принять хороший приход в Нижнем Новгороде.
Прибыв в Воронеж, отец Николай вслед за епископом Алексием (Буем) и многочисленными священниками и мирянами подписал адресованное Сергию протестное обращение. Вскоре после этого он был арестован и отправлен на Соловки, куда очень стремился, желая рассказать о Декларации заключённым архиереям, имевшим большой духовный вес.
Отец Николай отбыл уже больше половины своего срока, когда с воли пришло горькое известие: волна расправ над иосифлянами не миновала и его семью – в феврале арестовали и приговорили к пяти годам Соловков матушку Клавдию Петровну, трое детей остались сиротами… Отец Николай получил от жены и сына записку: «мы всегда радуемся, думая о твоих страданиях за Христа и его Церковь. Радуйся и ты о том, чтобы и мы сподобились быть снова и снова гонимыми за Господа».
Чисто мела железная метла ОГПУ… С воли от новоприбывших узников приходили вести одна тяжелее другой. В конце ноября были арестованы епископ Сергий (Дружинин), киевский священник Анатолий Жураковский и, наконец, сам митрополит Иосиф, дотоле проживавший в ссылке в Моденском монастыре. Из мест заключения в Москву доставили епископа Алексия (Буя) и Михаила Новосёлова, а также многих других священников и мирян. Это набирало обороты, стремительно приближаясь к своему апогею измысленное ОГПУ групповое дело «Всесоюзной контрреволюционной монархической организации церковников Истинно-православная церковь». На местах по делам «филиалов Всесоюзного центра ИПЦ» прошли очередные массовые аресты…
Сергиева Декларация стала лакмусовой бумажкой, обнаружившей тех, кто не мог поступиться истиной, а, значит, стать частью системы, основой которой была ложь. Оставалось лишь уничтожить их, чтобы они самим своим существованием не мешали этой системе. И уничтожали, выжигая калёным железом…
От новоприбывших петербуржцев стало известно о разгроме кружка Рункевич, после закрытия Преображенского собора устраивавшей на своей квартире богослужения. Среди тринадцати арестованных по этому делу был известный духовный писатель Евгений Поселянин.
Живя в Петрограде, отец Вениамин несколько раз встречал Евгения Николаевича, но всё как-то мимоходом, не успевая и познакомиться толком. А ведь как бы стоило! Именно его сочинения так любила читать незабвенная жена Аля. До сих пор отдельные отрывки вспоминались отцу Вениамину. Отрывки, читаемые её вкрадчивым, мелодичным голосом… И сразу образ её представал: то сидящей в кресле-качалке на крыльце в отсветах золото-багряной осени, заметающей листвой дорожки сада, то у окна в гостиной, в вечерний час…
Евгений Николаевич был духовным чадом преподобного Амвросия Оптинского. Некогда великий старец обратил юношу ко Христу и указал ему путь: писать в защиту веры, Церкви и народности. Поселянин посвятил своему наставнику очерк «Праведник нашего времени оптинский старец Амвросий». «Какое чудо души переживалось, когда вы станете пред этим человеком, сразу согретый, просветленный шедшими от него лучами благодати», – вспоминал он.
Берущийся просвещать других должен вперёд сам стать светел. Евгений Николаевич был именно таким просветителем. Его творчество, начавшееся по благословению преподобного, продолжалось более четверти века, являлось разнообразным по содержанию, красочным по форме, доходчивым до читателя даже тогда, когда касалось глубоких вопросов сокровенной молитвенной жизни человека. Его книги и статьи были проникнуты живым теплым религиозным чувством. Они свидетельствовали изнеженному удобствами жизни, охладевшему в вере, увлеченному решением социальных и политических вопросов человеку второй половины XIX и начала XX столетий о высоких и истинных началах жизни, к которой призывает Божественный Учитель.
Именно в его изложении подвиги святых впервые оказали на Ростислава Арсентьева то впечатление, какого никогда не бывало от унылых чтений отца, не могших донести нетленной красоты древних житий…
Шестидесятилетнего писателя, посвятившего жизнь духовному просвещению народа, Особый отдел ОГПУ приговорил к высшей мере наказания. Приговор был приведён в исполнение.
Эта расправа потрясла отца Вениамина больше, чем все прочие аресты, больше, чем даже арест дорогого владыки Сергия, неизбежный и ожидаемый. После тайной панихиды по новопреставленным страстотерпцам он долго не мог уснуть. Молитва также упорно не шла на ум, точно развеиваемая протяжными, истошными завываниями ледяного ветра меж стен древнего кремля. А из-за них едва-едва слышался родной голос, читающий светло и утешно:
– Кому приходилось испытывать то необыкновенное впечатление, какое переживаешь, когда вдруг до души, измученной житейской тревогой, издали донесутся тихие, безстрастные, отрадные и счастливо спокойные, как вечность, звуки церковного песнопенья, тот поймет, что подобное впечатление испытываешь и тогда, когда после долгого забвения высших интересов души, долгого периода, во время которого уста от полноты сердца не шептали молитвы, – развернутся вдруг перед глазами правдивые сказания о подвигах былых людей христианства, тех вольных мучеников, которые с такой последовательностью стремились взять и взяли от жизни лишь одну духовную ее сторону. Какой бы пропастью ни была отделена наша беззаконная жизнь от их светлых «житий», но раз мы вызываем внутри себя те сокровища, то лучшее содержание нашей души, которое отчасти раскрадено, отчасти затоптано гнетом жизни, но ростки, которого не погибают в человеке совершенно, пока он дышит – как этой лучшей стороной нашего существа мы и поймем этих дальних и странных людей… Прекрасны они цельностью своих могучих характеров, той великой сосредоточенностью, с какой провели свой земной век, не отходя от ног Христа Учителя, слушая Слово Его.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?