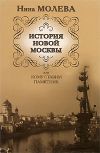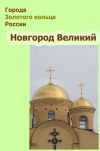Текст книги "Претерпевшие до конца. Том 2"

Автор книги: Елена Семенова
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
– Перегибов, ты хотела сказать? – уточнил Родион, чувствуя, что от слов сестры в ушах начинает звенеть.
– Да, перегибов.
– Здорово же вас всех вышколили…
– Что ты имеешь ввиду?
– Я имею ввиду пепел Глинского и разорённые могилы наших родных! Я имею ввиду Соловки с их пытками, через которые я сам – слышишь ли? – сам прошёл! Там день и ночь камни вопят о людских страданиях! И если бы только там! А вы сидите здесь… Прислуживаетесь у убийц или их пособников и радуетесь тому, что сыты, одеты и можете даже… отдыхать в Ялте! За пайку готовы забыть то, что не вправе забывать! За чечевичную похлёбку – первородство!..
– Ты говоришь зло, Родя! – на глазах Вари навернулись слёзы.
– Да, я говорю зло! Потому что мне нестерпимо видеть, как моя сестра отказывается от собственных мыслей и чувств и говорит передовицами!
– Не тебе меня судить! – вспыхнула Варя. – Да, я не святая. И не могу, не хочу быть мученицей. Я хочу, чтобы мой муж, мои дети были живы, здоровы и благополучны. Мы живём в этой стране, значит, должны соблюдать правила, которые в ней установлены.
– Правила, установленные преступниками на крови невинных!
– Пусть так! Но изменить их я не могу! Я хочу вывести своих детей в люди, Родя. И для этого я буду приспосабливаться к тем условиям, которые я не выбирала, но в которые меня поставили. И не смей меня судить!.. Мы с Никитой не пережили того, что вынес ты, но, поверь, и на нашу долю досталось немало.
– Хорошо, я не стану дольше тревожить тебя, – Родион поднялся. – Мертвецы не должны вставать из гробов и смущать спокойствие живых – это противоестественно… Прощай.
– Постой… – Варя утёрла передником слёзы. – Прости меня. Я не виновата в том, что всё так… Ты оставь свой адрес. Я передам Никите, когда он вернётся.
– Может, тебе не стоит говорить ему обо мне? Тебе ведь так будет спокойнее. Да и ему тоже…
– Ты прав. Но я никогда ничего не скрывала от мужа. И уж тем более не скрою того, что жив его лучший друг…
– Пушкино, Оранжерейная улица, дом 8. Вход с заднего крыльца. Запомнишь?
– Запомню. Может быть, ты хотя бы пообедаешь?
– Спасибо, я сыт.
– Ты вот ещё что… – Варя помедлила. – К Ляле не ходи.
– Почему? – насторожился Родион.
– Дядя Жорж работает на ГПУ, он ни в коем случае не должен о тебе знать.
– Это точно?..
– Из-за него Алексей Васильевич сослан в Пермь, а за ним уехала и тётя Мари.
Видимо, нет придела разочарованиям и утратам… Жорж – агент ГПУ! Не вмещалось в сознании… Весёлый красавец-балагур, лихой рубака-гусар, всеобщий любимец Жорж, приезд которого в Глинское всегда был праздником, в котором племянники не чаяли души – как же это возможно? В памяти пронеслись детские игры, уроки верховой езды, которые давал неподражаемый «дядинька», отчаянные скачки, в которых он всегда был впереди, перезвон его гитары и бархатный баритон, пикники, цыгане… Родион прислонился к стене и потёр ладонью лоб, пытаясь прийти в себя от очередного оглушительного известия.
– А Ляля? Она тоже агент ГПУ? – чуть слышно спросил он, чувствуя, как лоб покрылся испариной.
– Этого я не знаю. Но она жена своего мужа, для меня этого достаточно.
– Она – наша сестра, – ответил Родион. – Впрочем, спасибо за предупреждение. Я учту…
– Если всё-таки решишься пойти к ней, то иди на Арбат, в Вахтанговский театр. Большую часть времени Ляля проводит там.
– Спасибо.
Уже на пороге он, как в далёком прошлом, чуть приподнял сестру и расцеловал в обе щёки, влажные от слёз:
– Прощай, Варюшка! Дай Бог, чтобы молох обошёл тебя стороной…
Тяжело видеть пепелище отчего дома, тяжело видеть осквернёнными дорогие могилы и любимые с детства места. Но ещё тяжелее видеть близких людей, примирившихся с ложью и приспособившихся ко злу, превращающихся в покорные винтики чудовищной машины.
Всё же следовало испить чашу до дна. И, несмотря на предупреждение сестры, Родион отправился прямиком в театр Вахтангова. Впрочем, и туда он не рискнул зайти, предпочтя два часа прогуливаться по Арбату, ожидая появления Ляли и надеясь, что она будет одна.
Надежда оправдалась. Постаревшая Ляля одиноко спустилась по ступеням, на ходу закуривая папиросу. Годы сильно состарили её, но ещё больше – надломили. Поникшие, ссутулившиеся плечи, старушечье, лишённое лоска платье, седеющие волосы, собранные в пучок, очки в ужасной, уродливой оправе… Но главное – усталость, измождённость в каждом движении, словно всякий шаг она принуждает себя делать, собрав в кулак всю оставшуюся волю. А ещё – страх, заставляющий её с болезненной тревогой озираться по сторонам, оглядываться. Кого боится она – жена красного командира? Что так непоправимо изломало её, побило, не оставив живого места?
– Ляля!
Нет, она не отпрянула, как давеча Варюшка, не побледнела – и без того пепельно бледным было её продолговатое лицо. Только медленно поправила очки, закивала головой, глухо проронила:
– Я всегда знала, что ты жив. Сперва чувствовала, а несколько лет назад Жорж устроил пьяный скандал… Всё кричал, что из-за меня его расстреляют. Я сначала не поняла, а потом выяснилось, что его вызывали. Туда… И рассказали про тебя. Про побег, про то, что ты теперь в Европе, и как ты опасен для них… Они боятся… Свидетелей, вредителей, друг друга… Неизвестно, кто ещё больше боится: мы или они… Поэтому они такие злые… Бедный Жорж очень испугался такого родства. А я обрадовалась… Тому, что хоть один из нас, из Аскольдовых, остался человеком… Я никому о тебе не сказала. Все тебя считали мёртвым. А на деле ты единственный был живым, тогда как мы все – давно умерли… Нас нет, от нас остались лишь тени… – Ляля говорила быстро, изредка судорожно сглатывая воздух и гладя куда-то не то в сторону от Родиона, не то сквозь него, будто бредила.
– Ляля, что с тобой? – тревожно спросил Родион.
Сестра с заметным трудом, наконец, сфокусировала рассеянный, больной взгляд на нём и отрывисто спросила:
– Зачем ты здесь, Родя? Зачем тебе это царство Аида, страна теней, в которой не осталось даже родных могил? Живые не должны сходить к мертвецам, оставив другим мертвецам погребать их…
Родион чуть встряхнул Лялю за плечи, взмолился:
– Очнись, прошу тебя! Поговори со мной по-человечески, как бывало раньше!
Ляля поднесла палец к губам:
– Тсс! Тени не должны разговаривать, разве ты не знаешь? – она вздохнула. – Не бойся, Родя, я ещё не сумасшедшая. Лишь в малой степени… И, во всяком случае, не больше, чем те, что делают вид, что ничего не видят и не понимают. А я всё вижу и понимаю. Поэтому и схожу с ума… Давай посидим где-нибудь. Ко мне идти нельзя, ты понимаешь.
– Значит, насчёт Жоржа – это правда?
– Варя предупредила?
– Да…
– Я не хочу говорить о моём муже, Родя, – Ляля закурила очередную папиросу.
В сгущающихся сумерках они неспешно пошли в сторону Смоленского бульвара.
– Ты, кажется, совсем не удивлена мне, – заметил Родион.
– В последние годы я разучилась удивляться. Я вижу, как самые порядочные люди вдруг начинают восхвалять подлость и подлости делать, как люди умные искренне восхищаются глупостью, как невиновных обвиняют в нелепых и чудовищных преступлениях… Всё перевернулось, Родя. Всё! Стало с ног на голову… Всё, все. Мне всё время кажется, что я существую в кошмарном, бредовом сне, от которого не могу пробудиться. Или хожу по лабиринту с кривыми зеркалами и не могу найти выхода. Мне кажется, я не удивлюсь, даже если передо мной возникнет архангел Гавриил.
– Почему ты никому не сказала, что я жив?
– Варя обрадовалась тебе, когда ты пришёл?
– Скорее, испугалась…
– Правильно. Вот, я и не пугала никого твоей тенью. А заодно и своей… Они меня, Родя, боятся, – Ляля горько усмехнулась. – Они, вообще, всего боятся, – она повела рукой вокруг. – Видишь этих людей? Они все боятся! Что «возьмут», что «заберут». Вот, он – советский новояз… Им ещё запестрят когда-нибудь книги. Тебе Варюшка не сказала, как в прошлом году её Никиту старшим по подъезду поставили? Оказали честь! – сестра нервно хохотнула. – В обязанность этих несчастных старших входит сопровождать ГПУ, когда они приходят в очередную мирно спящую семью, чтобы увести отца, мать, дочь или сына… Он, бедный, поседел через несколько месяцев, а потом впервые в жизни ушёл в запой. Этим только от «почётной» обязанности и спасся! А меня они избегают… Трусы…
– Ты выглядишь совсем больной и разбитой, – заметил Родя.
– Что, очень страшна стала? Знаю. Зеркало, к сожалению, льстить не умеет.
– Почему ты не поедешь куда-нибудь на отдых? На юг?
– Юг, север… Что за разница? Страх и удушье везде одинаковы. Разве ты не чувствуешь? Воздуха нет… Дышать нечем! – Ляля остановилась и, повернувшись к Родиону, покачала головой: – Ты напрасно вернулся, мон шер фрэр3… Здесь нельзя жить, понимаешь? Не-льзя! Даже порядочно умереть – и то задача… Не провожай меня дальше, прошу тебя. Нас не должны видеть вместе. Это может быть опасно для тебя.
Встреча с Лялей оставила в душе не менее горький осадок, чем визит к Варе. Старшая сестра была начисто лишена грёз, но тоска, владевшая ею, довела её душу до болезни, с которой она не имела сил и желания бороться. Безысходность и обречённость сквозила в каждой черте её, в каждой нотке глухого голоса.
Оставалось узнать ещё одно, узнать главное, о чём он не решился спросить сестёр – узнать о её судьбе. Помочь в этом мог лишь один человек – Сергей. Но где искать его самого? Когда-то семейство Кромиади жило на Маросейке. Вероятность того, что и этот адрес живой, была ничтожна, и Родион надеялся лишь на одно – что в маросейском храме, чьими верными прихожанами были Кромиади, знают что-то об их судьбе. Наводить подобные справки было опасно, но ничто не могло угасить той мучительной тяги, которую он испытывал.
Полный сомнений и колебаний, Родион отправился на Маросейку. Приехав аккурат к концу литургии, он в нерешительности замялся чуть поодаль от храма, разглядывая выходящих на улицу прихожан. Внезапно по телу пробежала дрожь, а в горле пересохло – с крыльца неспешно спускалась вечная гостья его сновидений, та, ради кого он пришёл сюда. Это был явный Божий перст – не понадобилось ни расспросов, ни розысков, встреча словно посылалась свыше.
Однако, Родион не подошёл к Аглае, заметив с нею тоненькую девочку-подростка. Он незаметно последовал за ними, и вскоре уже знал их адрес. Дальнейшее «следствие» не составило большого труда. Несколько дней наблюдений принесли Родиону ещё одно безотрадное открытие: она была замужем за его незаконнорожденным кузеном-большевиком и растила дочь… Если бы хоть кто-то другой оказался её мужем! Но это подобие человека, этот революционер-безбожник, вероятно, отпетый негодяй… Почему именно с ним?! То, что счастливым соперником оказался именно Замётов, ощущалось Родионом как двойное унижение. Ревность и обида испепеляли его. Тем не менее он вновь и вновь приходил к дому Аглаи и подолгу блуждал вокруг, пытаясь представить встречу, ища слова, утирая лихорадочный пот и не решаясь дать о себе знать. Если сёстрам не нужен он, то для чего – ей? Ей, предавшей ещё раньше? Ей, с которой связывали лишь недели романтической влюблённости и грёз? Она, должно быть, и думать забыла о той давней истории.
И всё-таки Родион решился. В этот день он шёл за Аглаей по пятам с момента выхода её из дома. В отличие от сестёр она почти не переменилась. Молодая свежесть ушла, уступив место зрелой красоте, в которой не было ничего наносного, лишнего. Та же стройность и стать, то же открытое лицо с гладкой, матовой кожей, те же крупные, бархатные глаза – прямые и волевые, казавшиеся неспособными лгать. Золотисто-медовые волосы уже не в косы заплетены, а аккуратно уложены в пышную причёску, подобраны сзади, обнажив стройную шею. Всю дорогу поглощал Родион глазами ту, что все эти годы мстилась ему и на войне, и в лагере, и в изгнании, и лишь на обратном пути набрался духу подойти…
Объясняться в трамвае было невозможно, и он ограничился тем, что шепнул ей адрес. Если чудо случится, и она не забыла – придёт. А если нет, то и лучше обойтись без тягостных объяснений…
Вернувшись в своё пристанище, Родион не мог найти себе места. Хозяйки не было дома, и он напряжённо вслушивался в каждый звук, вздрагивал, уловив чьи-либо шаги, то и дело подходил к окну и смотрел на дорогу. Он страстно желал, чтобы она пришла, и в то же время боялся, не зная, что сказать ей, и терзаясь одновременно обидой за давнишнее и ревностью к настоящему.
Когда, наконец, стемнело, Родион в изнеможении опустился на скрипучую кровать. Он твёрдо решил выждать неделю, а затем бежать прочь от Москвы. В какую-нибудь далёкую глушь, подальше ото всего и всех.
Заслышав робкое поскрёбывание, Родион заставил себя не двинуться с места: ни к чему, в такой час могут скрестись только мыши. Но поскрёбывание переросло в стук, и тут уж он вскочил с постели прыжком и, боясь поверить чуду, распахнул дверь.
Аглая вошла на крохотную веранду и, ни слова не говоря, уронила голову ему на грудь, обвила руками, а затем стала оседать на пол и, вот, уже сидела, обнимая его ноги и по-бабьи взахлёб плача. Родион растерялся. Разом отступила и обида, и ревность перед той, которая одна лишь и ждала его и без страха, бросив всё, прибежала по первому зову.
– Полно, Аля, что ты… – пробормотал он, пытаясь поднять её. Но Аглая поймала его руку и, прижав её к мокрому лицу, подняла на него заплаканные глаза, прошептала:
– Прости меня! Слышишь? За всё прости! Если бы ты знал, как я ждала тебя… Все эти годы… Ни на день не забывала…
– И я не смог тебя забыть, Аля, – Родион, наконец, поднял её, погладил по плечам, успокаивая. – Мои сёстры обе спросили меня, зачем я приехал. Я не сказал им, я и себе этого не говорил… А теперь скажу. Я сюда только для тебя приехал, для одной тебя, – он чуть отстранился. – Я понимаю, много воды утекло, но для меня ничего не изменилось. Я понял это, когда ты вошла… Никто не пришёл бы ко мне сюда. А ты не побоялась… Ты, наверное, спешишь? Тебе будет поздно возвращаться одной…
– Я не спешу, – покачала головой Аглая, приблизившись. – Я сказала, что отец попросил меня приехать, что я еду проведать его дня на три… Я одного только боялась, что ты прогонишь меня.
– Три дня… – повторил Родион, чувствуя, как грудь наполняется жаром, а руки начинают подрагивать от захлёстывающего чувства. Он провёл рукой по её щеке, коснулся горячими губами волос, затем лба, глаз, губ… Вкус её губ опьянил, закружил голову, но Родион сдержал себя и уточнил снова: – Значит, останешься?
Аглая не ответила, а медленно извлекла шпильки, дав свободу своим русалочьим волосам, тяжелыми волнами покрывшим её плечи и спину. Так же прекрасна была она, как шестнадцать лет назад у омута в божелесье, только не осталось тогдашней робости и юной стыдливости. Девочку сменила женщина, не менее желанная и сама без страха идущая навстречу этому желанию…
В эту ночь он забыл и обиду, и ревность, и всё, что было с ним, оказавшись во власти абсолютного счастья, о котором не мог и мечтать. Однако, при свете дня всё возвратилось…
Полдень давно миновал, когда Родион проснулся. Аглая уже не спала, а сидела рядом, обнажённая, и смотрела на него. Любой скульптор, вероятно, был бы счастлив лепить с такой натурщицы Венер и Афродит, но Родион внезапно почувствовал болезненный укол от мысли, что не он один созерцал эту красоту.
– Зачем ты предала меня тогда, если любила? – спросил он.
Аглая потускнела, закуталась в простыню:
– Я не предавала тебя, Родя, никогда. Я никого и никогда не любила, кроме тебя.
– Тогда зачем?
– Не мучай меня, Родя, прошу тебя… Так нужно было. Во всяком случае, тогда мне так казалось. Со мной случилась беда, и я не смела прийти с ней к тебе. Ведь ты был для меня… царевичем… Почти полубогом! Я казалась себе такой чёрной и негодной рядом с тобой… Я решила, что лучшее, что я могу сделать для тебя, это освободить тебя.
– Безумие какое-то! Ты сломала жизнь нам обоим своим благим намерением, Аля… Мы потеряли целых шестнадцать лет! Неужели ты не чувствовала, как сильно я люблю тебя?
– Чувствовала, но не смела поверить своим чувствам. Поверь, я очень дорого заплатила за это. Так дорого, что страшно вспоминать. Но это – пусть, поделом. Но твоей боли я себе до смерти не прощу, и всегда буду себя перед тобой преступницей считать.
– Полно! – Родион привлёк Аглаю к себе. – Какая ты преступница… Запутавшаяся девочка, которую я не смог понять и удержать от глупого и рокового шага. Не кори себя. Пусть эта ночь положит конец тому, что нас разъединило когда-то… Пусть прошлое останется прошлым.
– А будущее? Что нас ждёт в нём? Я не хочу больше разлучаться с тобой, не хочу снова потерять тебя!
– И я не хочу, – ответил Родион. – Но я свободен. Нищ, бесправен, но свободен. А у тебя ведь… семья…
– Я брошу его! – решительно сказала Аглая, и глаза её вспыхнули. – Он меня не остановит! И не вправе остановить!
– А как же твоя дочь? – вздохнул Родион.
– Дочь? – отрывисто переспросила Аля, вздрогнув. Она внезапно отстранилась, поднялась с постели и ответила: – У меня нет дочери, Родя.
– Как так? Я своими глазами видел вас вдвоём.
– Ты видел Нюточку?
– Да, видел.
– И что, на кого она, по-твоему, похожа?
– Не знаю… – растерялся Родион и тотчас усмехнулся: – По крайней мере, не на Замётова.
– Она похожа на отца, Родя, – голос Аглаи дрогнул.
– В самом деле? Стало быть, Замётов не отец?
– Так же как и я – не мать… – еле слышно проговорила Аля. Она подошла к своей сумке, лежавшей на стуле, и, вынув из неё две фотокарточки, подала Родиону: – Смотри!
Родион взял фотографии и вздрогнул: на одной был запечатлён он вместе с матерью, на другой Аглая со светловолосой, большеглазой девочкой, лицо и улыбка которой странным образом походили на лицо улыбающегося молодого офицера с первой карточки…
– Что ты хочешь сказать этим? – проронил Родион.
– Только то, что сказала. Нюточка копия отца… Ты её отец, – Аглая запнулась и с видимым трудом докончила: – а мать – Ксения…
Глава 10. Плач Рахили
– Федичка мой! Федичка!… – от этого истошного, душераздирающего крика проснулся бы и мёртвый. Голосила, прижимая к иссохшей груди окоченевшее тело трёхлетнего сына, свояченица Дарья, ещё недавно дородная, румяная баба с заливистым смехом…
Федичка был пятым её ребёнком, которого отняла злодейка-судьба. Оставалась старшая девочка Настя, сидевшая теперь чуть поодаль, закутавшись в тряпьё, и смотревшая на мать расширенными, пугающе неподвижными глазами.
Потянулись к несчастной кое-кто из баб, говорили что-то, не утешая, так как у каждой из них ближе или дальше отсюда остались свои маленькие могилки, которые никаких слёз не достанет оплакать.
А Любаша лежала. Надо было подойти тоже, но хотелось одного – забыться, забыться навсегда от нескончаемого ужаса. И невольно подкрадывалось раздражение: не завопи Дарья, и хоть несколько часов забвенья дал бы сон. Всё же приневолила себя, подошла к свояченице. А зачем? Ведь и слова вымолвить мочи нет – да и какими словами такому горю поможешь?
Отец, как всегда, оказался прав. Ещё с детства усвоила это Любаша: мать может ошибаться, может и бабка, но не отец. Его глаз дальше других видел. Почему же не вняла ему в этот раз? Почему повела себя, как мужнина жена, а не отцовская дочка-ягодка? А ведь и Боря сам – разве по своей воле решал? В его семействе своей волей разве что дядька Андриан жил, а все прочие слушались свёкра.
Филипп же Мироныч упёрся, что твой бык, решив не отдавать своего кровного. После очередного собрания, на котором уполномоченным было без обиняков предложено вступать в колхоз или быть записанными поимённо в перечень врагов советской власти, даже Боря с братьями попытались образумить закусившего удила родителя. Но не тут-то было. Свёкор только глазами выпученными блеснул:
– Дураки вы вымахали! Только хвосты коровам крутить вам! Да нешто вы не понимаете, что если мы даже добром этим татям всё отдадим, то всё равно своими для них не станем! Всё равно свежуют раньше или позже! А, значит, биться надо! Мужицкая сила – всегда великая сила на Руси была! Вот, обождите, подымется народ!
– Да какой народ подымется, тятя?! – воскликнул Боря. – Все ж бабами да детьми связаны! Никто на рожон не полезет!
– Бабы! Дети! Эх вы! Сопляки! Только за подолами да люльками прятаться горазды!
– Лично я с отцом согласен, – заявил Илья, старший из братьев, не обратив внимания на жалостливый Дарьин взгляд. – Главное, время потянуть. Глядишь, что-то и повернётся наверху. Раз уж повернулось. Поглядим, чья правда переважит.
– Правд, Илюшка, здесь нет. Есть правда, наша, мужицкая, и их большевистская кривда. И если есть Бог, то правда кривду одолеет.
– Не кощунствовал бы ты, Мироныч, – укорила сына Фетинья Гавриловна.
– А вы, мамаша, помалкивайте, молитесь, вон, лучше за нас, грешных.
Фетинья вздохнула и перекрестилась. Её мытарствам не суждено было продлиться долго. На вторую неделю пути в обледенелом вагоне для скота она преставилась, и на ближайшей остановке тело её вынесли, не позволив родным даже проститься с бедной старухой по-человечески. Как и других погибших в пути, могилы у неё не было: общий ров, кое-как присыпанный землёй. Та же участь несколькими днями ранее постигла и её мужа, Мирона Ильича. Этого полупараличного старца чекисты не пожалели, как и малых детей, и Боря с младшим братом Николаем до вагона несли деда на руках… Старику отчасти можно было позавидовать. Пребывавший последние годы в слабоумии, он практически не понимал, что происходит. Мирон Ильич чувствовал холод и голод, чувствовал боль, но не чувствовал самого страшного и невыносимого: как гибнет всё то, что он, некогда крепостной крестьянин, сам выкупивший себя из зависимости, строил многие годы. Его сын такого облегчения был лишён…
Лютым февральским днём в деревню нагрянуло ГПУ. Прислали вооружённые наряды в поддержку комсомольцам, двадцатитысячникам и голыдьбе. Группы активистов пошли по намеченным домам. Перво-наперво нагрянули к дядьке Андриану. Тот с обычным невозмутимым видом сидел за столом, прихлёбывал чай с блюдечка и закусывал баранкой.
– Батюшки святы! – приветствовал вошедших. – Сколько гостей в столь ранний час! Боюсь, для такой оравы у меня амущества не хватит: придётся вам мои портки надвое драть и по одной штанине носить. А, Демьяш? Тебе, чай, не впервой?
– Договорился ты, вражина, – хрипло отозвался Демьян. – Больше власть срамить не будешь!
– Бог с тобой, Демьяш! Кому это только в голову прийти может – нашу матушку-власть срамить? Сама бы не срамилась, вон какая штука!
– Ну, хватит! – стукнул кулаком по столу один из рабочих.
– Уважаю ваши внушительные кулаки, – ухмыльнулся дядька. – Что же, последний ультиматум? Кошелёк или жизнь?
– Я б тебе ультиматума не ставил, гнида, зараз шмальнул! – рявкнул Демьян. – Да уж больно начальство с вами миндальничает! Поэтому в последний раз: колхоз или тюрьма?
– Тюрьма, товарищи тюремщики, тюрьма! – ответил Андриан Миронович. – Раз вы на свободе, так порядочным людям только в тюрьме и место!
Стон и крик стоял в тот день по деревне. Не жалели ни старых, ни малых – вышвыривали в снег, глухие к мольбам, и, не в силах дожидаться, тут же делили отнятое добро. Павами выступали вчерашние оборванки – жёны лодырей и пьяниц, вырядившись в наряды, украденные из чужих сундуков. Любаша сразу узнала шубу и платок своей закадычной подружки Веры на ивашкиной жене Натахе, щерившей остатки зубов, выбитых по пьяной лавочке мужем. А ведь сколько раз Веркина мать помогала Натахе, сколько старых, но хороших вещей отдала ей, вечно ходившей в рванине, сколько подкармливала её голодных и сопатых ребятишек… И, вот, мстила Натаха за добро, кичилась своими сынками-комсомольцами, высоко задирала острый, некрасиво выступающий подбородок.
– У-у, кикимора! – погрозил ей десятилетний Веркин братец и унырнул от греха подальше за амбар.
Когда комиссия явилась по душу Филиппа Мироновича, то вначале должна была потратить некоторое время, чтобы сломать наглухо запертые мощные ворота. Свёкор ждал их у крыльца с факелом в руке. Ещё загодя закупил он керосин и, едва узнав о начавшемся погроме, несмотря на сопротивление большинства родных, вместе с Ильёй облил горючим сруб, заключил, кривя прыгающие губы:
– Теперь полыхнёт, так полыхнёт!
– Тятя, окстись! – воскликнул Николаша, ещё почти мальчишка, повис у отца на локте: – Хоть скотину-то пожалей! Она чем виновата?!
– А какая разница – пожгу я её, или в колхозе заморят?! – взревел Филипп Миронович, отбросив сына.
– Тогда и меня с ней жги!
– И сожгу!
Рассудок свёкра явно мутился последние дни. Любаша с испугом видела, как переменилось его лицо. Некогда спокойное, дышащее здоровьем, теперь оно осунулось, покрасневшие глаза словно выкатились из орбит, волосы и борода были всклокочены. В отличие от отца Илья сохранял спокойствие, но отчего-то шёл за родителем. Совсем недавно они с Дарьей готовились отмечать новоселье: их новый дом был почти отстроен. Илья мечтал, наконец, зажить самостоятельно, самому стать хозяином. И, вот, рушилась мечта, отнималось то, во что вкладывались силы и душа. Им обоим, и сыну, и отцу, легче было придать огню нажитое и погибнуть самим, чем видеть его в чужих руках, а самим оказаться, как говаривал свёкор «в батраках у лодырей».
Когда комиссия вошла, все домочадцы были на дворе. Бабы плакали, умоляя Филиппа Мироновича одуматься. Тянула к нему дрожащие руки старуха Фетинья, голосила Ульяна Кузьминична. И никто не смел приблизиться к замершему с факелом в одной руке и ружьём в другой свёкру. Только Николаша, не замеченный отцом, бросился на задний двор: догадалась Любаша – решил отворить двери скотине, чтобы та не погибла.
– А ну, прекрати дурить, Филипп! – крикнул Демьян, а у самого предательски задрожали колени.
– Только подойди! – отозвался свёкор, вскинув ружьё. – Мне терять нечего! Кто полезет, как собаку пристрелю!
Затеснились активисты за забор да друг за дружку, никому под шальную пулю попасть не хотелось. А кабы все их так приняли?..
– Дурак ты, Филька! Семью пожалей!
– А мне теперь назад дороги нет! И не тебе о семье моей заботиться! Ты у ней, у моей семьи, последний кусок отнять пришёл! Баб своих в тряпки моих дочерей рядить собрался? Выкуси, снохач! Не бывать тому!
Распалённый перепалкой, поздно заметил свёкор с боков подбирающихся милиционеров. Залаял на них Лаврушка и в тот же миг завизжал и, упав на снег, прополз несколько пядей к хозяину, оставляя кровавый след… Филипп Миронович оглянулся и, поняв, что окружён, крикнул отчаянно:
– Ах, вот вы как? Ну, так гори же вся моя жизнь синим пламенем!
Выстрел грянул, но могучая рука свёкра успела швырнуть факел в дом: свежий сруб, подпитанный керосином, вспыхнул, как свеча. В тот же миг рухнул ничком и стрелявший, сражённый пулей Ильи…
– Пожарную команду вызывайте! – раздались крики.
– Воды сюда, воды!
Филипп Миронович тяжело осел на снег, повалился на бок в нескольких шагах от застреленного пса. К нему бросилась Ульяна Кузьминична, упала, расставив руки, на безжизненное тело, завыла протяжно:
– Убили, убили кормильца! Проклятущие…
А активисты суетились вокруг. Визгливо распоряжался Демьян:
– Из амбара, из сарая тащите всё, пока не занялось! Живей! Живей! Кулацкое добро колхозу нужно!
Милиционеры тащили избитого Илью, за которым, спотыкаясь, бежала растрёпанная, зарёванная Дарья. Она потом долго металась ещё, когда мужа увезли, моля карателей пощадить её малолетних детей, разрешить ей уехать с ними. Дети в это время испуганно жались к прабабке, чуть слышно шепчущей молитвы.
Младшая дочурка родилась у Дарьи в январе. Она первой и сгинула в первые же дни пути, как ни старалась мать укутать её потеплее. Да и чем укутаешь в такую стужу? Тем более, что даже те немногие пожитки, что успелось взять из обречённого дома, были частично отобраны. Потеряв дочь, Дарья прошептала:
– Погубили нас Илюша с тятей, погубили…
– Полно, – ответил Боря. – Другие не сопротивлялись, а обречены на то же…
И то была сущая правда. Много чёрных, горестных подвод потянулось из окрестных деревень к вокзалу. И не только зажиточных, но и середняков вычёркивала власть из списка своих граждан, а многих и из самой жизни.
Никто не знал, какой путь ждёт впереди, не знал грядущей участи. Участь эта предстала сначала тем самым вагоном смерти, отнявшим старуху Фетинью с мужем, четверых детей Дарьи, дочь Веры, сына Бориной сестры Зины и Игошу… Две недели боролась Любаша за жизнь первенца, две недели, как другие матери, кутала его и пыталась согреть собственным дыханьем, но смерть оказалась сильнее.
Его тоже отняли у неё на очередной остановке и, Бог знает, погребли ли хоть как-то… После этого Любаша словно онемела. Её охватило безразличие к грядущему, к окружающему. И напрасно муж заботливо предлагал ей крохи собственного пайка, который время от времени, точно спохватившись, что везут живой груз, бросали изголодавшимся заключённым конвоиры. От плохой воды многих косила дизентерия, и за время пути душ в поезде немало поубавилось.
Первые дни Любаша ещё волновалась, спрашивала у мужа, куда их могут везти. Боря пожимал плечами, а старик Федосей ответил:
– В Сибирь, девонька. Куда ж ещё могут?
Их, действительно, привезли в Сибирь. Через три недели мытарств выбросили в тайге вместе с пожитками. Уже вечерело, и холод пронизывал насквозь. Никакого жилища поблизости не было, но было кое-что из инструментов…
– Руки есть, топор есть – как-нибудь справимся… – вымолвил Боря.
В темноте, освящённой лишь огнями костров, в сугробах по колено измученные люди стали валить деревья и строить временное «жилище». Перво-наперво поставили опорный каркас из жердей, к нему прислонили свежесрубленные ели, обложили лапником и для утепления сверху засыпали снегом. В этом бараке-шалаше умельцы навесили дверь, у которой наладили печь-«буржуйку», по обеим сторонам и в центре на всю длину растянули в два-три яруса сплошные нары из жердей. На одну душу в этом «жилище» пришлось по одной десятой квадратного метра…
– Ничего-ничего, – бодрился Боря. – Были бы руки и голова на плечах… Вот, сойдёт снег – не так отстроимся! Избы срубим, огород насадим. Проживём!
Но до той поры, пока снег сошёл, рядом с шалашом успело вырасти кладбище, на котором нашла последний приют свекровь и ещё многие, многие…
Детей, которых было так много в начале пути, почти не осталось, и уже привычным стал плач матерей в тяжёлые ночные часы. Днём за работой тоска притуплялась, а ночью грызла лютым волком.
Измученная Дарья, наконец, затихла, прижав к себе безмолвную дочь. Подле неё остался лишь Николаша, обнимавший несчастную за плечи. А совсем рядом неподвижно сидела, обхватив колени, Зина. Дорога отняла у неё двоих: трёхлетнего сына и дитя, бывшее ещё в утробе. Сама после выкидыша она осталась жива чудом. И неужели только затем, чтобы увидеть, как день за днём истают два её мальчика-близнеца? Они лежали теперь рядом с ней, укрытые шубой, неподвижные, исхудавшие, посиневшие – как не живые. Цинга уже взялась за них, как за большинство обитателей барака. Зина смотрела на них немигающими, отчаянными глазами, изредка переводя их то на Дарью, то на спящего или притворяющегося таковым мужа.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?