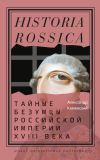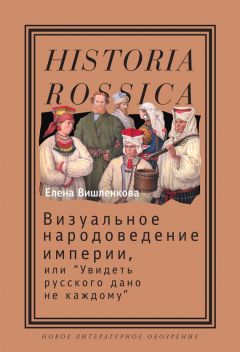
Автор книги: Елена Вишленкова
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Архитектоника книги
Исследовательские задачи данной книги заданы блоком проблем технологического, стратегического и коммуникативного характера.
Художественное воспроизводство изучаемой эпохи подразумевало прохождение авторского рисунка через технологический процесс изготовления гравюры. Как правило, к зрителю он попадал в виде очерковой гравюры, выполненной в технике офорта. До открытия в 1796 г. А. Зенефельдом литографии, или метода плоской печати, гравюрная техника в России была двух видов – высокой и глубокой печати. Та и другая давали «штриховую» трактовку образа. Чаще всего в гравюре воспроизводился только абрис изображения, а основной акцент делался на ручной раскраске полученного рисунка. Ее мог выполнить сам автор, его ученики, или выполнение такой работы отдавалось «под заказ».
В публикациях того времени встречаются два варианта гравюр – однотонные, сочно и глубоко протравленные, и цветные, или раскрашенные от руки по бледной гравированной основе. Для получения мягких «акварельных» переходов в протравленной гравюре использовался метод акватинты. Для этого гравировочная доска покрывалась порошком канифоли, которая в результате подогрева равномерно обтекала поверхность. Травление поверхности происходило постепенно, благодаря чему гравер добивался мягкости перехода одной части поверхности в другую. В этом случае получалось изображение, напоминающее работу водяными красками в один тон[85]85
Корнилов П.Е. Офорт в России XVII–XX вв.: краткий очерк. М., 1953.
[Закрыть].
В 1812 г. для тиражирования авторских рисунков применялся прием иглового офорта. На полированную поверхность медной или цинковой доски гравер наносил лак, по которому затем особой иглой процарапывал рисунок. После этого доска протравливалась. Затем в углубленный рисунок набивалась офортная краска, доска накрывалась плотной и влажной бумагой, на нее клалось сукно, и всё вместе пропускалось сквозь вал на металлографическом станке. В результате такой процедуры на бумаге оставался отпечаток – эстамп.
По мнению историка гравюрных технологий П.Е. Корнилова, использование данного способа позволяло граверу сохранить живой свободный рисунок оригинала, а создателям проекта он давал «возможность размножать “простовики” в большом количестве и распространять их в самых широких кругах народных масс»[86]86
Там же.
[Закрыть]. Отвечая на растущий спрос потребителей, карикатуристы нередко делали так называемые «повторные доски», вводя изменения и уточнения в образ и в текст[87]87
Каганович А. И.И. Теребенев. М., 1956. С. 140.
[Закрыть]. Этим объясняется наличие в коллекции карикатур двенадцатого года целого ряда односюжетных и близких по композиции рисунков.
Технические возможности копирования, тиражирования, перевода абриса на различные поверхности (плоскость листа, объем поверхности посуды или табакерки, воплощение в скульптурных формах) – все это определяло условия появления образа и его воздействие на воображение современного зрителя. На специфике и возможностях визуального языка сказывались также техника и материал изготовления образов (карандашный или угольный рисунок, металлогравюра, литография на камне, косторезная композиция или роспись по дереву). А финансовые возможности их приобретения определяли широту социальной циркуляции данных посланий.
Что касается состава видеодискурса, то для того чтобы определить какие художественные феномены стали его объектом, мне предстояло выявить используемые в данное время стратегии «включения – исключения». Их анализ подразумевает, в том числе, изучение репрезентаций телесности. Как правило, они составляют ядро изображения в «народоведении». В этой связи было важным определить, какие типы и конфигурации тел включались в дискурс, а какие – нет, какие эталоны выдвигались, как они могут быть упорядочены в соответствии с его внутренней логикой.
В изучаемое время отождествление визуальных образов с тем или иным этнонимом осуществлялось посредством различных когнитивных кодов (через исторические аллюзии, метафоризацию, благодаря инверсии значений, в опоре на ассоциативный ряд, гендерные и этнические стереотипы). Визуальные критерии «народоведения» создавались из физической антропологии («славянские черты», «азиатское лицо»), исторической и военной атрибутики (кольчуга, шлем, конфедератка), речевых идиом, элементов традиционного костюма, посредством построения типических персонажных позиций и жанровых сцен (диспозиций), определялись режимом просмотра «картинки» или альбома. Таким образом, исследование выходит на анализ технологий визуального конструирования групповой идентичности. Их выявление позволит говорить об антропокультурной механике изготовления репрезентаций.
Появление образов (а также символические значения, которые они несли) было предметом неизменного внимания властей и прежде всего самого монарха. В исследуемое время императорский двор задавал эстетический тон в аристократическом обществе, поощрял проведение конкурсов в Академии художеств, выступал заказчиком и оценщиком художественной продукции, финансировал возведение скульптурных памятников, отбирал эскизы монет и медалей, утверждал проекты публичных сооружений, инициировал возведение декораций для ритуалов и настаивал на типовой застройке российских городов.
Однако процесс порождения художественных текстов не был монополизирован. Он осуществлялся и силами губернской бюрократии, и по инициативе редактора журнала, и желанием владельца лубочной мастерской и даже отдельного художника-любителя. Разница в социальных и интеллектуальных идеалах отразилась на разнообразии способов описания «состояний» и групп. В связи с этим мне предстояло проанализировать коммуникативное пространство визуального дизайна и выяснить распределение власти в данном дискурсе. Такой анализ потребовал выявления субъектов, имевших право изготавливать, устанавливать, тиражировать образы империи, ее народов и русской нации.
Данный подход позволил рассмотреть трансформацию групповой идентичности как следствие многовекторных коммуникаций. У любой из них, в том числе визуальной, были условия, задающие границы понимания. «Схватывание смысла» обусловлено критериями утвердившейся рациональности, и в частности, если говорить о произведениях искусства, визуально-образными процедурами. В связи с этим данное исследование вторгается в историографический спор о (не)возможности диалога элитарной и низовой культур[88]88
Миронов В.В. Изменение коммуникационного пространства культуры как фактор ее кризиса. http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mironov_izmenenie.pdf. Последнее посещение 30.11.2010; Moscovici S. The Phenomenon of Social Representations. P. 4–8.
[Закрыть]. Ограничиваясь текстуальными свидетельствами, на этот вопрос нельзя дать позитивного ответа. Между тем визуальная культура содержит следы рецепции социальных обращений. Сам факт приобретения профессиональных гравюр крестьянскими кустарями, само наличие коммерческого спроса на изображения со стороны простонародья, отбор кустарными художниками определенных сюжетов и образов для копирования, а также новшества, привнесенные ими в оригинальный рисунок при копировании, дают богатый материал для анализа. Наличие таких свидетельств позволяет выявлять не только восприятие, но и механизмы адаптации изобретений в недрах массового сознания.
С данным сюжетом тесно связана другая задача – выявить способы концептуализации видеодискурса. Они различны, и их анализ ослабляет противопоставление слова и образа. В культурных исследованиях давно признано: визуальное нуждается в вербальной поддержке, а вербальная коммуникация нуждается в визуальном опосредовании[89]89
Kress G., Van Leeuwen T. Reading Images: The Grammar of Visual Design. London, 1996. P. 40.
[Закрыть]. Однако изучение механизмов их взаимодействия ставит перед исследователем вопрос о границах: следует ли связывать в единый коммуникативный союз с рисунком только подпись к нему, или весь лист, или даже все издание? Вербальные и визуальные элементы пространственно интегрированы через их композицию на листе. Но на композицию также влияет и временная последовательность их прочтения – порядок показа. Таким образом, вербальный контекст[90]90
Им называют любую надпись, которая должна быть прочитана в непосредственной связи с изображением.
[Закрыть] может быть привязан к изображению либо пространственно (близость), либо темпорально (последовательность). Все остальные разновидности текста рассматриваются как часть более широкого «дискурсивного контекста». Контекст-зависимость означает, что в некоторых случаях смыслы скорее подразумеваются, чем выражены, и что они открыты для широкого спектра возможных интерпретаций[91]91
Проблема «слово – изображение» обсуждалась в работах: Шмитт Ж.-К. Историк и изображения // Одиссей: Человек в истории. М., 2002. С. 9–29; Haskell F. History and Images: Art and Interpretation of the Past. New Haven; London, 1993; Kruger K. Der Blick ins Innere des Bildes. Asthetische Illusion bei Gerhard Richter // Pantheon. 1995. Bd. 53. S. 149–166; Vision and Visuality. Seattle, 1988; Schmitt J.-C. La culture de l’imago// Annales. Histoire, Sciences Sociales. 1996. Vol. 51, № 1. P. 3–36; Sturken M., Cartwright L. Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. New York, 2001; Алленов М. Тексты о текстах. М., 2003.
[Закрыть]. Эта многофункциональность, а также гибридные формы взаимодействия вербального и визуального образуют разнонаправленные векторы в идентификации[92]92
Howard J.A. Social Psychology of Identities // Annual Review of Sociology. 2000. № 26. P. 367–393.
[Закрыть]. В исследуемое время их упорядочение сопровождалось письменной фиксацией российских норм изображения и видения, утверждением локального канона.
В пространство действия западных художественных канонов Россия вступила довольно поздно – в конце XVIII в. Сама по себе ее интеграция стала возможной лишь после обособления в среде российских элит слоя «любителей изящного». Характерно, что в обсуждении критериев, назначения, сферы применения канона принимали участие не только выпускники Академии художеств, но и художники-любители, а также «критики», то есть «просвещенные» современники, не принимавшие непосредственного участия в художественном производстве. Именно они присвоили себе сначала право судить о «настоящей красоте», «возвышенном» и «прекрасном», оценивать изящество произведений, осуществлять их сортировку, а также право пропагандировать отобранное соотечественникам, объясняя скрытые смыслы и значения. Они же объявили впоследствии Россию приоритетным объектом художественного увековечивания и потребовали от создателей изобразительных произведений «патриотизма», выраженного в сотворении привлекательных образов страны и ее людей.
Относительно позднее вхождение в поле действия западных художественных канонов предопределило специфические черты российского эстетического сознания. Во-первых, для него характерно усвоение ранее существовавших в Западной Европе конвенций без учета их генеалогии и внутренних противоречий (в результате чего они были восприняты как единый пакет «цеховых норм»). Вторая особенность состояла в том, что заключение собственных договоренностей шло в контексте становления национализирующего дискурса. Поэтому проблематизация художественного канона оказалась связанной с вопросом о необходимости формирования сокровищницы русского искусства.
Этот сюжет тесно связан с историей бытования (то есть эффективности и устойчивости) созданных образов, иными словами, с проблемой процессуальности видеодискурса. Его специфика обусловлена интерпретационной открытостью изображения. Естественно, что, складываясь, любой дискурс постепенно замыкается на себе, пресекая возможность семантической новизны. Но при этом, согласно концепции М. Фуко, происходят следующие типы его трансформации: деривация, связанная с адаптацией или исключением тех или иных понятий, их обобщением; мутация позиции говорящего субъекта, языка изображения или смещение границ объекта; редистрибуция, вызванная внешними социокультурными процессами. Эти теоретические положения мне предстояло контекстуализировать и проверить на исследуемом материале.
Изучаемые мною тексты и тиражируемые копии содержат разные варианты прочтения визуальных образов. Их выявление позволяет реконструировать рецепцию изобразительных текстов и проследить процесс перекодирования значений. Все это является частью культуры imago в России. Понятно, что она носила гибридный характер. Но вряд ли правомерно при ее анализе исходить из европоцентристского ракурса рассмотрения. Я полагаю, что западноевропейские конвенции визуальной репрезентации не являлись единственными, и на это, в частности, указывают различия в реакциях на увиденное россиян и иностранцев. В связи с этим анализ визуальной культуры Российской империи потребовал обращения не только к современным ей западноевропейским, но и к отечественным культурным практикам допетровского времени. Таким образом, я предпочла полицентристский подход, акцентирующий внимание на динамичных образованиях, возникших в результате взаимодействия культур и сообществ[93]93
Клейн И. Пути культурного импорта: труды по русской литературе XVIII в. М., 2005; Shohat E., Stam R. Narrativizing Visual Culture: Towards a Polycentric Aesthetics // The Visual Culture Reader. London, 1998. P. 27–49.
[Закрыть].
Таковы сюжеты данного исследования.
Глава 1
«РУССКИЕ/РОССИЙСКИЕ КОСТЮМЫ»
Народо-видение как государственная проблема
На протяжении веков обыденные представления жителей Западной и Южной Европы о людях, населяющих земли к северо-востоку от них, опирались на фантазию античных авторов и средневековую космологию. Помпоний Мела писал о свирепости скифов – народов, живущих на севере от греков, описывал их обычай поедать тела умерших родителей, рассказывал, что «агафирсы расписывают лицо и все тело несмываемыми знаками»[94]94
Фоменко И.К. Скифия – Тартария – Московия – Россия: Взгляд из Европы. Россия на старинных картах. М., 2008. С. 30–31.
[Закрыть]. О сарматах древние греки свидетельствовали: «Это воинственный, вольный, необузданный и до такой степени дикий и суровый народ, что даже женщины у них принимают участие в войне… Достигшие зрелости девушки обязаны убить врага»[95]95
Там же. С. 31.
[Закрыть]. Фантазия древних географов населяла неведомые земли причудливыми существами – поедателями вшей, людьми с козлиными ногами, амазонками, бессмертными существами, людьми с песьими головами, народом, питающимся паром[96]96
Эдельман О. Родина амазонок и рыбы Бегемот // Пушкин: русский журнал о книгах. 2009. № 2. С. 144.
[Закрыть]. Средневековое христианство добавило в эти миры новых персонажей. Согласно библейской мифологии, на север от Каспийского моря ушли исчезнувшие поколения Израиля – свирепые народы Гога и Магога.

«Русский». Кукла бродячих кукольников из музея Любека (Германия)
Воображаемые образы были частью реальности. Вера в них рождала действия. Свидетельством тому явились еврейские погромы, прокатившиеся по Европе после появления в XIII в. отрядов монгольских кочевников. Современники верили, что евреи призвали родственные орды на погибель христианам. И вплоть до XIX в. отправлявшиеся в рискованное путешествие на «Восток» авантюристы «открывали» в России те самые существа, описания которых веками воспроизводились в письменных и художественных текстах.
У обитателей Московии представления о человеческом многообразии собственной страны складывались на иных источниках. Кроме заезжих иностранцев такие описания делали местные подьячие, служившие в приказах и аккумулировавшие сведения о занятиях, особенностях культуры, а также о численности «тяглого люда». Записи, а иногда и зарисовки подобного рода составляли странствующие монахи, описывавшие среду, в которой обреталась новая чудотворная икона или учреждался монастырь. Наконец, их создавали посольские дьяки, сообщавшие в Москву практические сведения об увиденных народах и странах. Резные и живописные образы соседей творили крестьянские кустари – на забаву или на продажу. Сегодня образы «московитов» исследователь может отыскать не только в книгах, но и в графике, иконах, изразцах и прочих предметах искусства допетровской эпохи.
Такой вариант производства знания антропологи называют «бытовой этнотизацией»[97]97
Conversion to Modernities: The Globalization of Christianity / Ed. P. Van der Veer. New York, 1996; Colonial Ethnographies / Ed. P. Pels, O. Salemink. New York, 1995; Helgerson R. Camoes, Hakluyt and the Voyages of Two Nations // Colonialism and Culture / Ed. N.B. Dirks et al. Ann Arbor, 1992. P. 27–63; Hacking I. The Taming of Chance. Cambridge, 1990; Rafael V.L. Confession, Сonversion and Reciprocity in Early Tagalog Colonial Society // Colonialism and Culture. Ann Arbor, 1992. P. 65–88.
[Закрыть], и он присутствует в истории многих стран. В этом отношении трудно согласиться с мнением В.А. Дмитриева о принципиально различных способах познания народов в Западной Европе и в России[98]98
«Необходимо отметить, что, если в западной науке большой массив первичных сведений поступал от путешественников, мореплавателей, купцов, миссионеров, российская наука XVIII в. вся изначально строилась на научной, академической основе, на принципах рационализма, на приемах описательного анализа, предписывавших беспристрастно фиксировать увиденное» (Дмитриев В.А. Предисловие // Георги И.-Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. СПб., 2005. С. 10).
[Закрыть]. Вероятно, речь может идти лишь о специфических особенностях «нормы». Как и на «Западе», в России на поиски неизведанных земель и «новых народов» отправлялись не только правительственные, но и частные экспедиции торговцев и зверопромышленников. Известно, что во второй половине столетия к Тихому океану ушли более 100 частных промысловых и пять государственных научных экспедиций[99]99
Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во второй половине XVIII в: Cб. док. М., 1989. С. 6.
[Закрыть]. Другое дело, что, в отличие от практики западного колониализма, их описания не были произвольными (альтернативными по отношению к научной схеме). Петербургская академия наук снабжала «любителей» специальными инструкциями, которые структурировали «естественный» взгляд и предопределяли увиденное. Соответственно, контроль над результатом смотрения оставался за тем, кто определял объекты сравнения и параметры, по которым оно проводилось. Таким образом, политика видения Российской АН сказалась на специфике собранных отечественными предпринимателями данных и на сопроводительных комментариях к ним.

А. Экхот «Мамелюк» (1641) и «Мулат» (б.г.)
В остальном же, как и в прочих странах, стихийные писатели и рисовальщики образовывали в русском государстве тот самый субъект, благодаря которому формировалось представление местных элит о населении в целом и о составляющих его людских сообществах в частности. В этом отношении отличие XVIII в. от предшествующего времени состоит не в появлении новой темы, а в том, что в Российской империи процесс описания жителей и производство «народных» образов обрели системный и инструментальный характер. Это произошло в силу потребности перевести рассказ о них на язык западной культуры.
Примеривание петровскими «птенцами» западного имиджа власти сопровождалось обыгрыванием метафоры возникновения и символического движения от невежества к науке (как заявлялось, «общего для политичных народов мира»[100]100
Wortman R. Texts of Exploration and Russia’s European Identity // Russia Engages the World, 1453–1825. London, 2004. P. 91.
[Закрыть]). Соответственно, молодая империя стремилась утвердить за собой престижное место в создаваемом западными интеллектуалами «порядке»: системе вещей, народов и культур[101]101
Slezkine Yu. Naturalists versus Nations: Eighteenth-Century Russian Scholars Confront Ethnic Diversity // Russia’s Orient: Imperial Borderlands and Peoples, 1700–1917. Bloomington, 1997. P. 27–57.
[Закрыть]. Учрежденная для реализации этой задачи Петербургская академия наук и рекрутированные из Германии и Швеции ученые должны были собрать «российский материал», пропустить его через западные способы рационализации и вписать в европейскую парадигму знания. В условиях России это потребовало иной заточки западного научного инструментария.
Западные натуралисты добывали первичные сведения об аборигенах посредством вопросников – «рамки», которую естествоиспытатели заполняли полученными ответами, собственными визуальными впечатлениями и современными им этническими стереотипами[102]102
Образцы вопросников см.: ПФА РАН. Ф. 21. Оп. 5. Ед. хр. 36 (Instruction was zur Geographischen und Historischen Beschreibung von Sibirien erforderet wird fьr den Herren Adjunkten Ioh.Eberh.Fischer. Шесть разделов на 111 л. Заверено Г.Ф. Миллером); ГА РАН. Ф. 1. Оп. 13. Ед. хр. 11. Л. 128–133 (Допросы при описании народов и их нравов и обычаев. 1737 г. Заверено Г.Ф. Миллером); Миллер Г.Ф. Выписка из описания живущих в Казанской губернии языческих народов, яко Черемис, Чуваш и Вотяков, с показанием их жительства, политического учреждения, телесных и душевных дарований, какие платья носят, от чего и чем питаются, о их торгах и промыслах, каким языком говорят, о художествах и науках, о естественном и вымышленном их языческом законе, также и о всех употребительных у них обрядах, нравах и обычаях, сочиненного д. ст.с. Г.Ф. Миллером по возвращении его в 1743 г. из Камчатской экспедиции // Новые ежемесячные сочинения. 1791. Ч. 55, январь. С. 11–52; Февраль. С. 16–57. Отд. изд.: Миллер Г.Ф. Описание живущих в Казанской губернии […]. СПб., 1791.
[Закрыть]. Ведь для того чтобы изначально выделить исследовательский объект, путешественнику предстояло соотнести интересующих его людей с их окружением, что предполагало наличие априорных критериев сопоставления. Выявляя, описывая, показывая обнаруженные группы жителей, путешественники называли их, локализовали в имеющейся на тот момент картине мира, определяли их место в иерархии «народов», устанавливали границы – где один народ кончается, а другой начинается.
В течение столетия используемый в России вопросник постоянно корректировался и расширялся. Так, отправляясь в 1733 г. в путешествие по просторам империи, Г.Ф. Миллер получил от Академии наук список из 11 пунктов, а спустя несколько лет составил для своего ученика и последователя И.Э. Фишера список из 923 вопросов[103]103
Slezkine Yu. Naturalists versus Nations. P. 30.
[Закрыть]. Первоначальный вариант анкеты В.Н. Татищева состоял из 92 вопросов, а в расширенной редакции 1737 г. она включала 198 пунктов[104]104
Токарев С.А. История русской этнографии: (дооктябрьский период). М., 1966. С. 81.
[Закрыть]. Такое расширение приводило к изменению семантики понятия «народ» и смещению границ между группами жителей[105]105
Knight N. Ethnicity, Nationalism and the Masses: Narodnost’ and Modernity in Imperial Russia // Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices. New York, 2000. P. 42.
[Закрыть]. Соответственно, Татищев обнаружил в Российской империи 42 народа[106]106
Татищев В.Н. Избранные труды по географии России. М., 1950. С. 171–173.
[Закрыть], а последующие исследователи – гораздо больше.
Изучение «наречий» в XVIII в. было в значительной степени отделено от описания внешнего облика людей. Как правило, «прото-этнографов» интересовали визуально познаваемые явления, а «прото-лингвисты» занимались сравнением языков, причем прежде всего их фонетического ряда. Сегодня сравнительное языковедение эпохи Просвещения историки науки называют тупиковой ветвью развития филологии, а тогда российские элиты с энтузиазмом занимались лингвистическими изысканиями, стремясь найти в разнообразии звучащих слов и диалектов общую основу, или прото-язык.
Обнаружить универсум во множественности было главным желанием всех тогдашних исследователей. Фиксируя человеческое разнообразие, естествоиспытатели тоже стремились найти «природную» общность людского рода. И поскольку возврат к «исходной естественности» мог стать основой имперского единства, такие исследования получали финансирование от верховной власти. К тому же экспедиционные карты и зарисовки служили легитимным документом, подтверждающим права российского престола на «новые» земли. Издавая их в виде гравюр, правительство показывало современникам территориальные и людские приобретения. В этой связи особенно важно было назвать и показать периферийные народы, на владение которыми претендовали и другие империи (чаще всего это были Англия и Франция). Отправляя очередные корабли или обоз в дальние края, Петербург побуждал путешественников тщательно фиксировать странности увиденных людей, составлять словари их говоров, зарисовывать тела и одежду (рисовать «костюмы»), делать планы и снимать панорамы[107]107
Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана. С. 241.
[Закрыть].
Судя по прямым и косвенным свидетельствам, увиденные образы оказывали сильное воздействие на этническое воображение современников. «Костюмы» воспринимались неоспоримым доказательством существования той или иной группы жителей, ее принадлежности к России, они же давали обществам локальную и культурную приписку. Таким образом, у рисовальщиков была возможность возводить зримые границы между людскими группами, а назвав их, они утверждали наличие у членов сообщества стабильных отличительных признаков. В результате принявший все это на веру зритель в реальной жизни соотносил внешность встречаемых людей с известными ему по гравюрам «народами», то есть использовал графические «костюмы» как опознавательные маркеры.
Далеко не во всех экспедиционных отрядах были рисовальщики и копиисты[108]108
Материалы для истории экспедиций Академии наук в XVIII и XIX вв.: Хронологические обзоры и описание Архивных материалов / Сост. В.Ф. Гнучева. М.; Л., 1940. С. 47.
[Закрыть], но там, где их удавалось нанять, результаты исследований оказывались особенно популярными среди современников. Характерно, что в сложившейся тогда структуре знаний этнографическое письмо и рисунок оказывались разделенными. Вербальное описание относилось к текущей политике, а рисунок идентифицировал время и место, а потому принадлежал к «гистории». По крайней мере, таким был статус «костюмов» (графических образов народов) в системе, разработанной Г. де Гатцером (1621–1700) для коллекционеров эстампов и описанной в отечественных учебниках рисования[109]109
Пиль Р. де. Понятие о совершенном живописце, служащее основанием судить о творениях живописцев, и Примечание о портретах / [Пер. с фр. и итал. А.М. Ивановым]. СПб., 1789. С. 121.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?