Текст книги "Тень парфюмера"
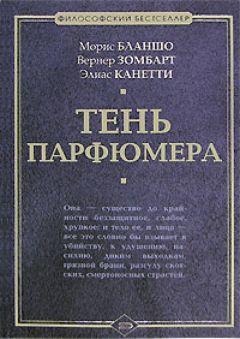
Автор книги: Элиас Канетти
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 14 страниц)
Здесь в ходе наших рассуждении следует подчеркнуть два пункта: 1) Сообщество не является редуцированной формой общества, равным образом, оно не стремится к общностному слиянию. 2) В противоположность любой социальной ячейке, оно чурается производства и не ставит перед собою никаких производственных целей.
Чему же оно служит? Да ничему, разве что оказанию помощи другому даже в миг его смерти, чтобы этот другой не отошел в одиночку, а почувствовал поддержку и в то же время сам оказал ее другому. Сопричастие в смерти – замена истинного причастия. Жорж Батай пишет: «Жизнь сообща должна держаться на высоте смерти. Удел большинства частных жизней – незначительность. Но любое сообщество способно существовать лишь на высоте гибельной напряженности, оно распадается, как только перестает постигать особое величие смертельной опасности».
Читая этот отрывок, хочется отстраниться от сочетания некоторых использованных в нем терминов (величие, высота), ибо речь в нем идет не о сообществе богов, а, тем более, героев и сильных мира сего (как это часто случается у Сада, где поиски неумеренных наслаждений не ограничены смертью, поскольку причиняемая или принимаемая смерть доводит наслаждение до высшей точки, точно так же, как она вершит свою власть, замыкая человека в нем самом, тем самым давая ему возможность самовосторжения, присущего владыкам).
Сообщество и письмо
Сообщество – это не обиталище Властности. Оно показывает, выставляя напоказ себя самое. Оно включает в себя внешнюю сторону бытия, которое эту сторону исключает. Внешнюю сторону, с которой не в силах совладать мысль, хотя бы наделяющая ее различными именами: смерть, отношение к другому или даже слово, когда оно не подчинено речевым оборотам и в силу этого исключает всякую связь с самим собой, тождественную или противоположную. Сообщество, определяющее место всех и каждого, меня и самого себя, представляющееся чем-то самоисключающим (самоотсутствием) – такова уж его судьба, дает повод для нераздельного и в то же время неизбежно множественного слова и, таким образом, не может изливаться в словах, вечно обреченное заранее, невостребованное, бездеятельное и не кичащееся даже этими пороками. Таков дар слова, равнозначный «чистой» потере, исключающей всякую возможность быть услышанным другим, хотя этот другой мог бы воспользоваться если не словом, то хотя бы мольбой о речи, таящей в себе опасность отверждения, заблуждения или непонимания. Так выявляется, что сообщество даже в своем крушении отчасти связано с известного рода письмом, которое только и знает, что ищет последние слова: «Приди, приди, придите, вы или ты, которым не пристало прибегать к приказанию, просьбе, ожиданию».
При слове «приди» невольно приходит на ум незабываемая книга Жака Дерриды[20]20
Деррида Жак (Derrida Jacques; 1930–2004) – французский философ, литературовед и культуролог, интеллектуальный лидер «Парижской школы» (1980—1990-е). – Примеч. ред.
[Закрыть] «Об апокалиптическом тоне, некогда принятом в философии», особенно та фраза из нее, которая странно созвучна с той, что мы только что процитировали: «Произнесенное в повелительной тональности, слово «приди» не содержит в себе ни пожелания, ни приказа, ни просьбы, ни мольбы». Приведу здесь и еще одно рассуждение: «Разве апокалиптика не является трансцендентным условием любой речи, любого опыта, любой пометки, любого отпечатка?» Значит ли это, что именно в сообществе слышится, против всякого ожидания и как особая его примета, апокалиптическая тональность? Вполне возможно.
Будь мне позволено – но по нехватке средств об этом не может идти и речи – повторить ход рассуждений Жоржа Батая касательно сообществ, мне пришлось бы отметить следующие этапы: 1) Поиски некого сообщества, существующего хотя бы в виде группы (в таком случае прием в него чреват риском отказа или полного отвержения): взять хотя бы группу сюрреалистов, почти все члены которой мне совсем не по нутру, в таком случае остается возможность безуспешной попытки: вступить в нее и тут же организовать анти-группу, резко размежеваться. 2) «Контратака» – таково название другой группы; следовало бы хорошенько уяснить, что позволяет ей выжить скорее в условиях борьбы, чем в условиях бездеятельности. В каком-то смысле она способна существовать только на улице (прообраз майских событий 68-го года), то есть вовне. Самоутверждается она с помощью листовок, которые тотчас разлетаются и бесследно пропадают. Она пытается афишировать свои политические «программы», хотя основа этой группы – мысленный бунт, безмолвный и подспудный ответ на сверхфилософию, приведшую Хайдеггера к временному соглашательству с национал-социализмом, в котором он видел подтверждение своих надежд на то, что Германия станет преемницей древней Греции с преобладающей ролью философии в ее судьбе. 3) «Акефал». Это, как мне кажется, единственная группа, с которой считался Жорж Батай, надолго сохранивший о ней воспоминания как о своей последней возможности.
«Социологический колледж», при всей своей значительности, никак нельзя приравнять к некой уличной манифестации: он взывал к утонченному знанию, он подбирал своих членов и свою аудиторию единственно с целью осмысления и постижения вопросов, которыми почти не интересовались официальные научные учреждения, хотя вопросы эти и не были им чужды. Тем более что руководители этих научных учреждений первыми их поставили в той или иной форме.
Сообщество «Акефал»
«Акефал» до сих пор окутан тайной. Те, кто в нем участвовал, не совсем уверены, что и впрямь были его членами. Они предпочитали помалкивать, их преемники тоже держат язык за зубами. Тексты, вышедшие под грифом «Акефал», не раскрывают значения этого сообщества, за исключением нескольких фраз, много лет спустя после опубликования потрясавших даже самих авторов. Каждый его член являлся не только персонификацией всего сообщества в целом, но и воплощением – яростным, бессвязным, растерзанным, немощным – той совокупности существ, которые, стремясь к целостному существованию, обрели лишь небытие, на которое они были заранее обречены. Каждый член представляет собою группу лишь в силу своей абсолютной отъединенности, которая жаждет самоутвердиться, дабы порвать с группой все отношения, и без того парадоксальные и бессмысленные, если только можно представить себе отношения с другими абсолютами, исключающими наличие каких бы то ни было отношений.
Наконец, тот «секрет», который знаменует их отъединенность, не следует искать в каком-нибудь лесу, где могла быть заклана жертва – покорная, готовая принять смерть от руки того, кто может нанести ее, только умирая сам. Здесь невольно вспоминается роман «Бесы» и описанные в нем драматические события: в ходе их группа заговорщиков, желая скрепить свою организацию кровью, возлагает ответственность за убийство, совершенное одним человеком, на всех остальных, укрепляющих свое «эго» стремлением к общей революционной цели, по достижении которой все они должны были слиться воедино. Пародия на жертвоприношение, совершаемое не ради разрушения угнетающего порядка, а для того, чтобы свести разрушение к иной форме гнета.
Деятельность сообщества «Акефал», в той мере, в какой каждый его член нес ответственность не только за всю группу, но и за существование всего человечества, не могла осуществляться только двумя ее членами, поскольку все принимали в этой деятельности равное и полное участие и были обязаны, подобно защитникам Массады, бросаться в пропасть небытия, тем не менее воплощавшегося в самом сообществе. Можно ли все это считать абсурдом? Разумеется, но не только, ибо оно означало разрыв с уставом группы, учредившей его как вызов окружавшей его трансцендентности, хотя трансцендентность эта не могла быть не чем иным, как трансцендентностью данной группы, внешней стороной того, что составляло сокровенную суть ее множественности. Иначе говоря, самоорганизуясь с целью человеческого жертвоприношения, это сообщество как бы отрекалось от своего отречения от любой деятельности, будь ее целью смерть или только симуляция смерти. Невозможность смерти в самой неприкрытой ее возможности (нож, приставленный к горлу жертвы, который одним движением перерезает глотку и «палачу») откладывала до конца времен преступное деяние, посредством которого могла бы самоутвердиться пассивнейшая из пассивностей.
Жертвоприношение и самопожертвование
Жертвоприношение – навязчивая тема Жоржа Батая, смысл которой был бы обманчив, если бы он постоянно не ускользал от исторического и религиозного истолкования с их непомерными претензиями: открываясь с их помощью другим, этот смысл решительно отчуждает их от себя. Темой жертвоприношения пронизана вся «Мадам Эдварда», но оно не объясняется в ней. В «Теории религии» утверждается: «Совершить жертвоприношение не значит убить, а значит отринуть и даровать». Примкнуть к «Акефалу» – значит отринуть самого себя и отдаться: бесповоротно отдаться безграничному самоотречению[21]21
Есть дары, получение которых обязывает одаряемого сторицей отблагодарить дарящего: таким образом, дарения как такового не существует. Дар, являющийся самоотречением, обрекает дарящее существо на безвозвратную потерю всякого расчета и самосохранения, да и самого себя: отсюда тяга к бесконечному, таящаяся в безмолвном самоотречении. – Примеч. авт.
[Закрыть] и самопожертвованию. Вот пример жертвоприношения, созидающего общество, разрушая его, предавая освобождающему времени, которое не поощряет ни сам этот акт, ни тех, кто предается ему и любой другой форме самовыявления, тем самым обрекая их на одиночество, не только не служащее им защитой, но и рассеивающее как их, так и самое себя, лишающее возможности самообретения как поодиночке, так и сообща. Дарение и самоотречение таковы, что на их пределе уже не остается ничего, что можно было бы дарить, от чего можно было бы отречься, и само время становится всего лишь одним из приемов, с помощью которого даримое ничто предлагает себя и утаивается в себе, подобно капризу абсолюта, уделяющему в себе место чему-то другому, превращаясь в собственное самоотсутствие. Самоотсутствие, частным образом приложимое к сообществу, единственной и совершенно неуловимой тайной которого оно является. Самоотсутствие сообщества неравнозначно его крушению: оно принадлежит ему как мигу своего наивысшего напряжения или как испытанию, обрекающему сообщество на неминуемый распад. Деятельность «Акефала» была совокупным опытом, который невозможно было ни пережить сообща, ни сохранить порознь, ни приберечь для последующего самоотречения. Монахи отрекаются от того, что имеют, и от самих себя ради участия в сообществе, благодаря которому они становятся обладателями всего на свете под ручательством Бога; то же самое можно сказать о киббуце и о реальных или утопических формах коммунизма. Сообщество «Акефал» не могло существовать как таковое, а лишь как неотвратимость и отстраненность: необходимость смерти, ближе которой ничего не бывает, предрешенная отстраненность от того, что противится отстраненности. Утрата сообществом Главы не исключает, стало быть, не только идеи главенства, которую эта Глава символизировала, идеи начальства, мыслящего разума, расчета, меры и власти, – она не исключает и самой исключительности, понимаемой как предумышленный и самодовлеющий акт, который мог бы воскресить идею главенства под маской распада. Обезглавливание, влекущее за собой «безудержный разгул страстей», может быть совершено только разгулявшимися уже страстями, стремящимися самоутвердиться в постыдном сообществе, приговорившем самое себя к разложению.
Как известно, роман Достоевского «Бесы» обязан своим происхождением факту из уголовной хроники, весьма, впрочем, многозначительному. Известно также, что исследования Фрейда о происхождении общества побудили его искать в преступлении (воображаемом или совершенном в действительности, но для Фрейда одинаково реальном) причину перехода от орды к регламентированному или упорядоченному сообществу. Убийство вожака орды превращает его в отца, орду – в группу, а членов этой орды – в сыновей и братьев. «Преступление предшествует зарождению группы, истории, языка» (Эжен Энрикес. От орды к государству). Мы, как мне кажется, совершим непростительную ошибку, если не примем во внимание то, чем отличаются фантазии Фрейда от установок «Акефала»: 1) Смерть, разумеется, присутствует в этих установках, но убийство, даже в виде жертвоприношения, исключается. Прежде всего, жертва должна быть добровольной, а одной добровольностью здесь не обойтись, поскольку смерть может нанести лишь тот, кто, нанося ее, умирает в то же время сам, то есть обладает способностью превратиться в добровольную жертву. 2) Сообщество не может основываться на кровавом жертвоприношении всего двух своих членов, призванных искупить грехи всех, сыграть роль козлов отпущения. Каждый должен умереть ради всех, и только смерть всех может определить для каждого судьбу сообщества. 3) Но ставить своей целью акт жертвоприношения значит попрать устав группы, первейшее требование которого состоит в отказе от любого деяния (в том числе и смертоносного), – устав, основная цель которого исключает любые цели. 4) Этим обусловлен переход к совершенно иному виду жертвоприношения, представляющему собой уже не убийство одного или двух членов сообщества, а дарение и самоотречение, бесконечность самоотречения. Обезглавливание, отсечение Главы не грозит, таким образом, главарю или отцу и не превращает остальных членов сообщества в братьев, а только побуждает их к участию в «безудержном разгуле страстей». Все это дарует участникам «Акефала» способность предчувствовать бедствие, превосходившее любую форму трансцендентности.
Внутренний опыт
Таким образом, еще до своего основания обреченный на невозможность когда-либо быть основанным, «Акефал» был сопричастен бедствию, превосходившему не только это сообщество и ту вселенную, которую оно призвано представлять, но и всякое понятие о трансцендентности. Разумеется, есть что-то ребяческое в призыве к «безудержному разгулу страстей», как будто эти страсти были приуготованы заранее и распределялись (абстрактно) между теми, кто на них мог позариться. Единственным «эмоциональным элементом», который можно распределить, не прибегая ни к какому дележу, является неотвязная ценность чувства близости смерти, то есть времени, разносящего существование в клочья, освобождая его от всего, что осталось в нем рабского. Иллюзия «Акефала» состояла, стало быть, в возможности самоотречения сообща, самоотречения от смертной муки, доводящего до экстаза. Смерть, смерть другого, подобно дружбе и любви, высвобождает некое внутреннее, сокровенное пространство, которое у Жоржа Батая всегда было не субъективным пространством, а ускользанием за его пределы. Таким образом, «внутренний опыт» свидетельствует о чем-то прямо противоположном тому, что нам чудится в его свидетельстве: о самоопровергающем движении, которое, исходя от субъекта, его же и опустошает, ибо коренится прежде всего в соотношении с другим, равнозначным всему сообществу, которое было бы ничем, если бы не открывало того, что подвергает себя бесконечному отчуждению, и в то же время не предрешало его неумолимую конечность. Сообщество, сообщество равных, подвергающее их проверке неизведанным неравенством, не стремится подчинить одних другим, но облегчает постижение того, что есть непостижимого в этом новом отношении к ответственности (или самостоятельности?). Даже если сообщество исключает непосредственность, которая подтвердила бы степень растворения каждого во всеобщем обмороке, оно предлагает или навязывает знание (опыт, Erfahrung) того, что не может быть познано: это «бытие-вне себя» (или вовне), то есть восторг и бездна, не перестающие служить взаимосвязью.
Было бы, разумеется, обманчивым искушением видеть во «внутреннем опыте» замену и продолжение того, что не могло иметь места в «Акефале» даже в качестве попытки. Но то, к чему это сообщество было действительно причастно, требовало своего выражения в парадоксальной форме какой-нибудь книги. Известным образом, иллюзорность озарения, перед тем как передаться кому-то, должна быть показана другим – не для того, чтобы затронуть в них некую объективную реальность (отчего она тут же обратилась бы в реальность извращенную), а для того чтобы они поразмышляли над ней, разделяя ее или оспаривая (то есть выражая по-другому, даже изобличая ее в соответствии с той противоречивостью, которую она в себе заключает). В силу всего этого заветы сообщества пребывают неизменными. Сам по себе экстаз не имел бы никакой ценности, если бы он не передавался и, прежде всего, не давался как бездонная основа любой коммуникации. Жорж Батай всегда считал, что внутренний опыт был бы невозможен, если бы он ограничивался только одним человеком, способным нести его значимость, его выгоды и невыгоды: опыт совершается, продолжая упорствовать в своем несовершенстве, лишь тогда, когда им можно поделиться, и в этом дележе обнаруживает свои границы, обнаруживается в этих границах, которые ему надлежит преодолеть и посредством этого преодоления выявить иллюзорность или реальность абсолютности закона, ускользающего от всех, кто хотел бы поделиться им в одиночку. Закона, предполагающего, стало быть, наличие какого-то сообщества (соглашения, взаимопонимания), пусть мимолетного, между двумя разными людьми, преодолевающего малой толикой слов невозможность высказывания, сводящегося вроде бы к единственному проявлению опыта, к его единственному содержанию: способности передачи того, что таким образом пополняется, ибо стоит передавать только непередаваемое.
Иначе говоря, опыта в чистом виде не существует; нужно еще располагать условиями, без которых он невозможен (даже в самой своей невозможности), вот почему и необходимо сообщество – возьмем, к примеру, замысел «Сократического колледжа», заранее обреченный на провал и задуманный лишь как последняя судорожная тяга к сообществу, неспособная осуществиться. А взять «экстаз»: сам по себе он есть не что иное, как связь, коммуникация, отрицание обособленного существа, которое, исчезая в момент этого резкого обособления, пытается воодушевиться или «обогатиться» за счет того, что нарушает свою отъединенность, открывая себе путь в безграничное; хотя все эти положения, по правде говоря, высказываются лишь для того, чтобы быть опровергнутыми: обособленное существо – это индивид, а индивид – всего лишь абстракция, экзистенция в том виде, в каком представляет ее себе дебильное сознание заурядного либерализма.
Не стоит, пожалуй, прибегать к рассмотрению столь сложного и трудноопределимого понятия, как «экстаз», чтобы выявить людей той или иной практики и теории, которые калечат их, разобщая друг с другом. Существует политическая деятельность, существует цель, которую можно назвать философской, и существует этический поиск (потребность морали преследовала Жоржа Батая так же неотступно, как и Сартра, с тою лишь разницей, что у Батая она была главенствовавшей, тогда как у Сартра, над которым тяготело его «Бытие и Ничто», она была чем-то вроде горничной, служанки, заранее обреченной на повиновение).
Отсюда следует, что когда мы читаем (в посмертных заметках): «Объект экстаза – это отрицание изолированного бытия», нам бросается в глаза ущербность этого ответа, связанная с самой формой вопроса, поставленного одним его другом (Жаном Брюно). И, напротив, нам становится ясно, мучительно ясно, что экстаз не имеет объекта, как, впрочем, и причины. Что он отвергает любую форму достоверности. Это слово (экстаз) не напишешь, не заключив его предварительно в кавычки, ибо никому не дано знать, что же оно обозначает, да и существует ли вообще экстаз: выходя за пределы знания, включая в себя незнание, он противится любому утверждению, кроме словесного, зыбкого, неспособного служить залогом его подлинности. Его главная особенность состоит в том, что испытывающий экстаз находится вовсе не там, где он его испытывает и, следовательно, не в силах его испытать.
Один и тот же человек (на самом деле он уже не тот же самый) может считать, что он может овладеть собой, погрузившись в прошлое как в воспоминание: я вспоминаю о себе, я восстанавливаю себя в памяти, я говорю или пишу в исступлении, превосходящем и сотрясающем всякую возможность воспоминания.
Самые строгие, самые суровые мистики (в первую очередь св. Хуан де ла Крус) приходили к выводу, что воспоминание, рассматриваемое в личном плане, может быть лишь чем-то весьма сомнительным; принадлежа памяти, оно относится к разряду понятий, пытающихся вырваться из-под ее власти – власти вневременной памяти или памяти о прошлом, которое никогда не было пережито в настоящем (и, стало быть, чуждом какому бы ни было Erlebnis[22]22
Переживанию (нем.). – Примеч. перев.
[Закрыть]).
Раздел тайны
Сходным образом, самое личное в нас не может храниться как тайна, принадлежащая кому-то одному, поскольку она разрушает границы личности и жаждет быть разделенной, более того, утвердиться именно в качестве раздела. Этот раздел возвращает нас к сообществу, выявляется в нем, самоосмысляется и тем самым подвергает себя опасности, становясь истиной или объектом, поддающимся удержанию, тогда как сообщество, по словам Жана-Люка Манси, может удержаться лишь как местопребывание – неуместность, где нечего удерживать, – как тайна, лишенная всякой таинственности, действующая только посредством недеяния, пронизывающего даже письмо или – при любом публичном или словесном общении – заставляющего звучать конечное безмолвие, хотя недеяние не может быть уверено, что все наконец-то закончится. Нет конца там, где царит конечность.
Если прежде мы считали сутью сообщества незавершенность или неполноту существования, то теперь усматриваем в ней знак того, что возвышает существование до такой степени, что оно рискует раствориться в «экстазе»; это исполнение существования как раз в том, что его ограничивает, самовластие в том, что делает его отвлеченным и ничтожным, перетекание в ту единственную связь, которая теперь ему подобает и преодолевает всякую буквальную условность, когда та запечатлевается в деяниях лишь для того, чтобы утвердиться в недеянии, неотвязно преследующем их, даже если они не в силах погрузиться в него. Отсутствие сообщества способно положить конец чаяниям групп; отсутствие деяния, которое, напротив, нуждается в деяниях, измышляет их, позволяя им вписаться в притягательные поля недеяния, – вот поворотный столб, равнозначный военному опустошению, который может послужить устоем целой эпохи. Жорж Батай порой признавался, что все написанное им ранее, за исключением «Истории глаза» и «Эссе об издержках», быть может, выпавших у него из памяти, суть лишь несостоявшийся подступ к осуществлению потребности в письме.
Это дневная исповедь, подкрепляемая исповедью ночной («Мадам Эдварда», «Малыш…») или заметками из душераздирающего «Дневника» (который писался без всяких планов на публикацию), если только ночная исповедь, невыразимая, не поддающаяся датировке и могущая принадлежать лишь несуществующему автору, не открывает собою иную форму сообщества, когда горстка друзей, каждый из которых представляется единственным в своем роде существом, вовсе не обязательно общающимся с другими, втайне составляет это сообщество посредством безмолвного чтения, предпринимаемого сообща, осознавая всю важность этого из ряда вон выходящего события, с которым они столкнулись или которому себя посвятили. Не сыщется таких слов, что были бы ему соразмерны. Не существует толкования, которое могло бы его сопровождать: разве что какой-нибудь пароль (вроде заметок Лора о Священном, публиковавшихся и распространявшихся подпольно), пароль, сообщающийся каждому так, как будто тот был единственным, и служащий не заменой «священного заклинания», замышлявшегося некогда, а тому, чтобы, не нарушая отъединения, углубить его сообщным одиночеством, подчиненным непостижимой ответственности (лицом к лицу с непостижимым).
Литературное сообщество
Идеальное сообщество для литературного общения. Ему способствовали различные обстоятельства (значимость поворота судьбы, случая, исторического каприза или неожиданной встречи – сюрреалисты, и прежде всего Анри Бретон, не только предвидели ее, но и загодя осмысливали). Строго говоря, можно было бы объединить за одним столом (как тут не вспомнить торопливых застольников еврейской Пасхи) нескольких свидетелей-читателей, не все из коих осознавали бы важность объединившего их эфемерного события на фоне чудовищного военного игрища, к которому почти все они были так или иначе причастны и которое не исключало для них вероятности скорого уничтожения. Так вот: произошло нечто, позволявшее хотя бы на несколько мгновений, наперекор недоразумениям, свойственным существованию отдельных личностей, признать возможность сообщества заранее предумышленного и в то же время как бы уже посмертного; от него ничего не останется – и это заставляло сжиматься сердце, но и наполняло его восторгом: так приходится стушеваться перед испытанием, которому подвергает нас письмо. Жорж Батай чистосердечно (пожалуй, слишком чистосердечно, он это и сам понимал) указал на два момента, к которым, на его взгляд и по его мысли, сводится соотношение между запросами сообщества и внутренним опытом. Когда он пишет: «Мое поведение с друзьями вполне мотивировано: ведь ни одно существо неспособно, как мне кажется, в одиночку исчерпать свое существование», то это утверждение подразумевает, что опыт невозможен для одиночки, поскольку он отсекает частность от частного и открывает его другому; быть – значит быть для другого: «Если я хочу, чтобы моя жизнь имела для меня смысл, нужно, чтобы она имела его и для другого». Или так: «Я не могу хотя бы на миг перестать бросать вызов самому себе и неспособен проводить различие между самим собой и другими, с которыми хочу общаться». В этом таится некая двусмысленность: тотчас и одновременно переживаемый опыт может быть таковым, только если им можно поделиться с другим, а сделать это можно только потому, что по сути своей он открыт вовне, открыт другому, он есть порыв, провоцирующий неистовую диссиметрию между мною и другим: разрыв и связь.
Итак, оба эти момента могут быть проанализированы порознь, ибо они предполагаются лишь самоуничтожаясь. Батай, например, утверждает: «Сообщество, о котором я говорю, виртуально существовало, завися от существования Ницше (он был выразителем его требований) и каждый из читателей Ницше разрушал это сообщество, уклоняясь от него – то есть не разрешая поставленной загадки (и даже не вникая в нее)».
Но между Батаем и Ницше – большая разница. У Ницше было страстное желание быть услышанным, но была и подчас заносчивая уверенность, будто он является носителем истины настолько опасной и возвышенной, что ее невозможно передать людям. Дружба для Батая составляет часть «суверенной операции»; не ради красного словца его «Виновник» снабжен подзаголовком «Дружба»; дружба, по правде сказать, плохо самоопределяется: дружба ради нее самой, доведенная до распада; дружба кого-то с кем-то как переход и утверждение некой непрерывности, исходящей из необходимости прерывности. Но чтение – праздный творческий труд – тем не менее присутствует в ней, хотя и истекает подчас из головокружительного хмеля: «…Я уже хватил изрядную толику вина. И тогда попросил Х. прочесть мне один отрывок из книги, с которой никогда не расставался. Он прочел его вслух – никто, как мне кажется, не умеет читать со столь суровой простотой, с таким страстным величием. Я был слишком пьян и поэтому не запомнил, о чем шла речь в этом отрывке. Было бы неверно думать, будто такое чтение в подпитии – всего лишь вызывающий парадокс… Смею полагать, что нас объединяла наша открытость, наша беззащитность перед искушением разрушительных сил: мы были не храбрецами, а чем-то вроде детей, которых никогда не оставляет трусливая наивность». Вот что наверняка не заслужило бы одобрения Ницше: уж он-то никогда не терялся, не раскисал, разве что во время приступов безумия, но и тогда это раскисание умерялось порывами мегаломании. Описанная Батаем сцена, участники которой нам известны (хоть это и неважно), не была предназначена для публикации. На ней лежит печать некоего инкогнито: собеседник автора не назван, но подан так, что друзья могут его узнать – он скорее само воплощение дружбы, нежели просто друг. Эта сцена увенчивается афоризмом, записанным на следующий день: «Тот, кто мнит себя богом, не занимается собой». Подобное недеяние – один из признаков праздности, а дружба вкупе с чтением в подпитии – это сама суть «праздного сообщества», над которым призывает нас поразмыслить Жан-Люк Нанси, хотя на этом не стоило бы и останавливаться.
И однако я (днем раньше, днем позже) вернусь к этой теме. А пока напомню, что читатель – это не просто читатель, свободный по отношению к тому, что он читает. Он может быть желанным, любимым, а может быть и совершенно нетерпимым. Он не может знать того, что знает, и знает больше, чем ему известно. Он – спутник, обрекающий себя на обречение и в то же время остающийся на обочине дороги, чтобы лучше разобраться в том, что происходит – проходит и таким образом ускользает от него. Он тот, о котором говорят бредовые тексты вроде нижеследующих: «О, подобные мне! О, друзья мои! Вы похожи на непроветренные жилища с пыльными окнами: закрытые глаза, распахнутые веки!».
И чуть дальше: «Тот, для кого я пишу (буду с ним на «ты»), будет из сочувствия к тому, что он только что прочел, сперва плакать, а потом смеяться, ибо он узнал в прочитанном себя самого». А затем следует вот что: «Ах, если бы я мог узнать – заметить, открыть – того, для которого я пишу, я, как мне кажется, умер бы. Он запрезирал бы меня, будь я достоин себя самого. Но я не умру, убитый его презрением: для выживания потребен дух тяжести». Такого рода метания противоречивы только с виду. «Тот, для кого я пишу», – непознаваем, это незнакомец, причастный ко всему незнакомому, причастный хотя бы посредством письма, и обрекающий меня на смерть и на конечность, на ту смерть, что не таит в себе утешение от смерти.
Как же в этом случае обстоит дело с дружбой? И что такое дружба? Дружба – это общение с незнакомцем, лишенным друзей. Или вот еще как: если дружбой называется сообщество, созданное посредством письма, она может являться только самоисключением (дружба, проистекающая из тяги к письму, исключающей любую форму дружбы). А при чем тут «презрение»? «Достойный себя самого», будучи живым воплощением необычности, непременно опустился бы до крайней низости, то есть до осознания того, что только недостойность делает его достойным меня: то было бы в известном роде торжеством зла или развенчанием торжества, которое уже невозможно с кем-то разделить: выражаясь в презрении, оно обесценивается и тем самым отрицает возможность жизни или выживания. «Лицемеры! Признайтесь, что никто не может писать, то есть быть искренним и откровенным, нагим. Я и не хочу этого делать» («Виновник»). И в то же время на первых же страницах той же книги говорится: «Эти заметки словно нить Ариадны связывают меня с мне подобными, остальное не имеет значения. И однако я не смог бы прочесть их никому из моих друзей». Ибо тогда они стали бы личным чтением личных друзей. Отсюда – анонимат книги, не обращенной ни к кому: ее соотношения с неведомым учреждают то, что Жорж Батай (по крайней мере однажды) назвал «негативным сообществом: сообществом тех, кто лишен сообщества».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.






































