Текст книги "Идиот"
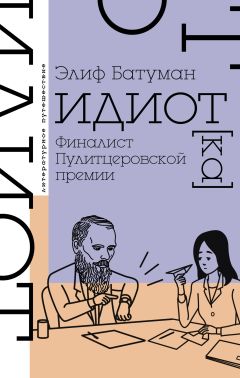
Автор книги: Элиф Батуман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
* * *
Я пропустила уйму уроков по русскому и получила из деканата извещение, что если я хочу продолжать эти занятия, то должна принести подписанное преподавателем письмо. Я отправилась на прием к Варваре. Она подписала письмо без лишних слов и сказала не волноваться о деканате, но ей показалось, что я в этом семестре сама не своя и рискую получить «четверку».
– Это из-за соседок? – спросила она. Я и забыла, что рассказывала на занятиях о своих соседках. – Мне знакомы эти проблемы. На первом курсе мне пришлось поменять соседей.
Я впервые задумалась о том, что Варвара в Восточной Германии ходила в университет, и о том, какой она была на первом курсе. Я ответила ей, что с соседками всё налаживается. Она спросила, не хочу ли я поговорить о чем-нибудь еще. Вид у нее был очень добрый и серьезный – огромные мягкие глаза и квадратная челюсть.
– Вам не кажется, что имя Соня несчастливое? – вырвалось у меня.
– Что ты имеешь в виду?
– В «Дяде Ване», в «Преступлении и наказании». Даже в «Войне и мире» она вызывает жалость, она… – я заколебалась, не желая употреблять толстовское слово, «пустоцвет».
– Она так и не получает своего мужчину, – произнесла Варвара. Я заметила в ее глазах удивление и сострадание и – со вспышкой ужаса – почувствовала, что она поняла, о чем я говорю.
* * *
У нас с Иваном выработался ритм: он писал мне раз в неделю, а потом я заставляла себя ждать неделю, прежде чем написать ответ. И даже эта неделя казалась громадной потерей времени. Однажды прошло восемь дней, а письма я не получила, потом – десять дней, и я, уверенная, что он уже никогда теперь не напишет, впала в отчаяние. В итоге сообщение пришло. Поле «Тема», где было написано безумие, вселяло надежду, поскольку это соответствовало моим чувствам. Но когда я открыла письмо, то обнаружила лишь одну строчку: У меня через две недели диплом, я тебе потом напишу.
На испанских занятиях мы посмотрели гневный фильм на баскском и грустный – на галисийском. Преподаватель сухим тоном объяснил, что пейзажи в Галисии – невыносимой красоты, что там всегда идет дождь, что там много замков, петроглифов и кромлехов, и что побережье там – чистый камень, как в Ирландии. Галисийцы интровертны, смиренны и меланхоличны, на вопрос они нараспев отвечают вопросом, и еще они играют на «примитивных волынках» под названием gaita galega. В языке у них восемь восходящих и нисходящих дифтонгов – ai, au, eu, ei, oi, ui, ou и iu. «Галисийская троица» – это корова, дерево и море; да галисиец и сам – крылатое дерево; он улетел, невзирая на корни.
* * *
– Снег весной, ну как это называется? – говорил итальянец-психолингвист с интонацией, которая, очевидно, должна была демонстрировать обаяние и юмор, но мне она казалась исполненной невыразимым унынием мира. – Почему никто не способен по-настоящему насладиться неторопливым обедом?
На занятии по философии мы говорили о проблемах, с которыми столкнемся на Марсе, – о проблемах языка. Если мы, допустим, прилетим на Марс и марсиане, завидев бегущего кролика, будут всякий раз говорить «гавагаи», мы не сможем знать наверняка, к чему это «гавагаи» относится – к кролику, к бегу или к мушкам, живущим у кроликов в ушах. Мне всё это казалось невероятно тягостным – и языковые барьеры, и кролики вместе с их мушками в ушах.
* * *
Однажды вечером позвонил Ральф и спросил, чем я занимаюсь. Мы отправились в «Пиццерию Уно».
– Даже не знаю, с чего начать, – сказал Ральф и заказал брускетту. Что такое «брускетта» – я не знала.
Ральф поведал длинную историю о Кайле, парне, который жил с ним в одном коридоре и порой нас с Ральфом раздражал. Я не могла понять, почему Ральф говорит о Кайле, и ждала, когда же он доберется до сути. Сначала Кайл дал почитать Ральфу книгу об Одене. После этого Ральф прочел в «Нью-Йоркере» статью о Стивене Спендере, она имела какое-то отношение к книге, поэтому он сделал копию и оставил ее в корзинке у Кайловой двери. Потом Кайл сказал что-то интересное о статье, и Ральф подумал, что, может, Кайл не такой уж и плохой. Но тут Кайл вынес ему выговор за какую-то лампочку и обнял его за талию. Вот, собственно, и вся история. Сперва я подумала, что Ральфа обидели странные слова Кайла о лампочке, но дело оказалось не в этом. А в том, что Кайл принял Ральфа за гея.
– С чего он это взял? – говорил Ральф. – Может, дело в Стивене Спендере?
– Может, – ответила я, пытаясь вспомнить, кто такой Стивен Спендер.
– А ты когда-нибудь думала обо мне что-то подобное?
– Ну, Ральф. – Я прикоснулась к его плечу, соображая, как ответить правильно. Я сказала, что действия Кайла, возможно, отражают не столько его мысли о Ральфовых чувствах, сколько тот факт, что он, Кайл, считает Ральфа забавным, симпатичным и приятным, каковым Ральф и является.
– Да ладно, – сказала я через мгновение. – В смысле, быть геем – это же не конец света. Ты и тогда не был бы как Кайл и не заморачивался бы с этими «лампочками». Ты оставался бы собой, – он оторвал взгляд от своего полулимонада – полухолодного чая, такого лица я раньше у него не видела.
* * *
Мы с Ральфом в учебном центре готовились к коллоквиумам. Он читал учебник по экономике, а я занималась психолингвистикой. Стоило мне поднять глаза от книжки, как я ловила взгляд Хэма из «Строительства миров», который сидел за соседним столом вместе с тремя другими парнями.
Через несколько минут Хэм подошел к нам.
– Похоже, у тебя интересная книжка, – сказал он. – Про что?
Я повернула к нему лицом лиловую обложку с крупными белыми буквами ЯЗЫК.
– Боже, как я ненавижу язык! – сказал Хэм. – По мне, лучше бы мы все просто хрюкали.
– Но тогда хрюканье стало бы языком.
– Только не у меня.
– Пожалуй, – сказала я.
В ответ он издал какой-то звук.
* * *
На весенних каникулах я поехала домой. Мы с матерью проболтали допоздна. На следующий день, когда я проснулась, она уже ушла на работу. Я отправилась на пробежку, но бегала недолго, поскольку в плеере начали садиться батарейки. «Эти вещи извееестны лишь мне и ему-у-у», – монотонно гудела жуткая, искаженная версия группы They Might Be Giants. Я побежала домой. У подъездной дорожки бродила миссис Оливери в желтом кардигане. У меня никогда не было особых тем для бесед с миссис Оливери, девяностовосьмилетней старушкой. Сначала я решила пройти к дому так, чтобы она не заметила, но потом мне стало стыдно за свои мысли, и я поздоровалась. Похоже, она не услышала. «Здравствуйте!» – громко произнесла я еще дважды. Она по-прежнему не отвечала. Должно быть, ей не хотелось разговорной речью превращать наши отношения в банальность. Я подошла прямо к ней. «Здравствуйте!» – сказала я.
– О, привет! Откуда ты взялась? Я тебя не видела! – она подняла взгляд к небу. Я ответила, что подошла с дорожки. Она просто не могла поверить. – Откуда? Отсюда? Но я тебя не видела! – она сказала, что очень мне рада. А потом добавила: «Я люблю тебя!», и похлопала меня по руке. Я ужасно смутилась: никогда прежде она не говорила, что меня любит. Я тоже похлопала ее по руке и сказала, что тоже очень ей рада. Когда по дороге в душевую я взглянула в зеркало, меня удивило, насколько сияющим было мое собственное лицо.
Вернувшись домой, мать объяснила, что миссис Оливери перенесла удар. Она разозлилась на другую миссис Оливери, когда та содрала с нее десять долларов за задержку с квартплатой. В ту же секунду позвонили в дверь. Это оказалась миссис Оливери – та, у которой не было удара. Она принесла пирог. Мать сделала милое лицо.
– О, спасибо! – поблагодарила она. – Вы зайдете? – Пирог оказался почти целиком из глазури.
Мать сказала, что мне нужно что-то делать с волосами. На выходных мы поехали в Нью-Йорк к ее стилисту. Опять пошел снег, но тут же выглянуло солнце, было градусов семнадцать, и снег сразу растаял. Ничего реального больше не существовало; всё завершилось. У парикмахера Джерарда были баки на щеках, жилетка в тонкую полоску и бодрый смех. Он сказал, что ему нравится, когда волосы невозможно заставить лежать.
– Они не ложатся безответно, а возвращаются в свое положение. Вот на что это похоже. Готов спорить, они повторяют хозяина. Бьюсь об заклад, ты тоже не будешь просто лежать.
Мой дух был сломлен. Чего от тебя там ждут, кроме как лежать? Что мои волосы знают такого, о чем неизвестно мне? И почему гей выдвигает гипотезы о моем сексуальном поведении? Это лишено всякого смысла. Джерард тем временем жаловался на музыку. Он говорил, что раньше у них играла стоящая музыка, типа Сантаны, а сейчас крутят сплошного Криса Айзека. Стрижка у меня вышла совсем короткая.
* * *
Я вернулась в университет в субботу накануне начала занятий. Поезд шел почти пустым. Названия станций в Коннектикуте проводник перечислял с усталым скептицизмом, словно ему не верилось, что их может быть столько. «Саут-Сэйбрук. Сэйбрук-Рэйстрак. Сэйбрук. Оулд-Сэйбрук. Норт-Сэйбрук. Сэйбрук-Фоллз».
Иван так и не написал. Я позвонила Ральфу, но трубку никто не снял. Потом позвонила Светлана. Тот вечер и весь следующий день мы провели вместе – гуляли по Массачусетс-авеню и, перейдя мост, по Бостону. После передышки у «Тауэр Рекордз» мы двинулись по Ньюбери-стрит. Заглянули в бисерную лавку. Светлана не видела ничего особенного в том, чтобы в Бикон-Хилле[30]30
Бикон-Хилл – престижный исторический район Бостона.
[Закрыть] пойти в лавку и спустить почти двадцать долларов на бисер.
Вернувшись к Светлане, мы слушали купленные ею диски – альбом Джони Митчелл Blue и «Страсти по Матфею» Баха – и делали бусы, периодически демонстрируя их друг другу и сравнивая. Светлана объясняла, как ее бусы характеризуют ее, а мои – меня, я же думала, как женщины испокон веков – наверное, сколько существует цивилизация – нанизывали бусины на нитки, тростинки или на что там еще. Потом я задумалась, всегда ли это были женщины? Может, в древности бусами увлекались и мужчины. Хотя сегодня трудно представить парней, которые, рассевшись в креслах-мешках, слушают Джони Митчелл, примеряют бусы к шеям друг друга и болтают о Светланиной сестре. В моей душе жило беспокойство: не поэтому ли женщины никогда ничего не добьются, что мы постоянно так или иначе осаживаем себя.
На каникулах Светлана навещала сестру в художественной школе. Она застала ее сидящей со скрещенными ногами на кровати в крохотной общажной комнатке, прихлебывающей один и тот же еле теплый кофе, который каждые два часа разогревала в микроволновке, и мастерящей из мелких палочек артишок. Артишок был обязательным заданием для всех первокурсников. На предыдущей неделе они все делали туфлю из проволоки.
Саша, их мать, хочет отправить сестру к русскому целителю, человеку, который рисует мистические картины ночного неба. Одна из картин висит в ее, Сашиной, спальне. На картине одинокая балалайка проплывает мимо полной луны.
* * *
Вернувшись к себе, я в электронной почте нашла только письмо от матери, где в строке «Тема» было написано: нашествие муравьев.
Пришлось провести мини-дезинсекцию. Я выбросила соседский пирог, муравьи бы, наверное, огорчились, но их теперь тоже нет.
Увидев утром в папке входящих имя Ивана, я едва не расплакалась. Это напомнило мне одну пытку из книжки, где после истязаний твои тюремщики последовательно возвращают тебе чувства и ты настолько им благодарен, что рассказываешь всё.
* * *
Солнце, писал Иван, встает. За его окном светофор совершает колебания между красным и зеленым. Время от времени мимо проезжает машина, вот и сейчас проехала. В русском языке для описания этой машины – и других машин – требуются глаголы движения с префиксами – как несущественна эта премудрость! Иван только что закончил проверять работы студентов, одногруппницей которых я так и не стала, а через час у него поезд в Йель. Завтра – Калифорния. Солнце уже встало, а он еще ничего не успел. Судьба преподносит подарки, не заглядывая в свою книгу.
Я очень живо всё это представила – светофор, ненужно мигающий в ночи, первые машины на рассвете – и вдруг прониклась пониманием, насколько в его жизни больше всего, чем в моей: что ему нужно сделать, какие расстояния проехать, в то время как я ничего не делала и никуда не ездила и никогда не сделаю и не поеду. Все мои дела – бесконечно навещать родителей – сначала одного, потом другую, – и этому ни конца, ни края. И хуже всего – осознавать, что винить, кроме себя, мне некого. Если мать говорит чего-то не делать, я и не делаю. Все матери что-нибудь запрещают своим детям, но слушаюсь – только я. У меня, у вечного голодранца на огромном мировом рынке идей, нет ничего, чему я могла бы хоть кого-то научить. Ничего, что было бы хоть кому-то нужно. Я перечитала письмо Ивана и взглянула в лицо этому ужасному унижению.
Дорогой Иван!
Мои каникулы – сплошная фигня. Я ничего и ни о чем не знаю. У меня есть книга со словом ЯЗЫК на обложке, но чему я могу по ней научиться? Думаю, проблема лежит очень глубоко. Нефтяная бочка пуста, и ты бросаешь сигарету. И всё вокруг вспыхивает пламенем.
Я не понимаю, что происходит или зачем. Не понимаю, почему, если просто поздороваться или даже побеседовать друг с другом, эти слова обратятся в банальность. Ты говоришь, у тебя нет настроения для несущественных премудростей. Но несущественные премудрости – это единственное, что создает разницу между чем-то особенным и огромной грудой мусора, плывущего через вселенную. Это – не моя выдумка. Люди открыли это в девятнадцатом веке.
Похоже, я в тебя влюбляюсь. С каждым днем мне всё сложнее разглядеть общий знаменатель, понять, что именно можно считать реальным объектом. Все категории, из которых составлено понятие «собака», расплываются и исчезают, я потеряла способность давать определения. По моим рукам бежит холод, а в голове крутятся песни. «(Если мне суждено умереть, пусть это будет твоя) Рука аристократа»[31]31
Название вымышленной песни.
[Закрыть].Твоя Соня
* * *
Когда я отослала письмо, был уже поздний вечер. Я отправилась к реке на пробежку. Всё казалось словно отмытым до скрипа – более и в то же время менее реальным, чем обычно. Я чувствовала землю обеими ногами. И ни в какую не хотела прекращать бег. Не хотела переходить к следующему занятию, потом к следующему.
Приняв душ, я залогинилась в Юниксе и применила команду finger, чтобы узнать, где Иван. Он был онлайн, сервер назывался neptune.caltech.edu.
Я взяла книжку и принялась за чтение. Книжка была как-то связана с Испанией. Каждые пять минут я проверяла, что там у Ивана. Порой он на пару минут переходил в режим бездействия, а потом опять возвращался в активное состояние. Я пыталась представить его там, в Калифорнии, где еще прошлое, где на три часа раньше, – как он набирает что-то на компьютере с именем Neptune, потом на пару минут прерывается и снова набирает.
В 2:40 от него пришло сообщение. Я перечитала его дважды. Я не поняла ни слова, но физически почувствовала, что ничего хорошего для меня там не написано. От отдельных строчек мое сердце парило в вышине, но от того, что лежало под поверхностью, в основе, мне становилось муторно.
Я перечитала письмо в третий раз.
Дорогая Соня, начиналось оно. Мне так много хочется тебе написать. Иван сидел в крошечной комнатке Калифорнийского технологического института. Я всё время описывала нечто вроде вертиго от «выпадения из языка». Он испытывал то же самое. В математике он больше всего любил непосредственность в отношениях между мыслью и текстом – ты пишешь ровно то, о чем думаешь.
Когда я пишу тебе, у меня – похожее чувство, словно мои мысли и настроение передаются прямо в клавиатуру. Не знаю, почему мне этого хочется, это очень трудно постичь. Я понимаю примерно треть из того, что ты пишешь, и у тебя, наверное, – то же самое.
С другой стороны, в той трети, которую я понимаю, Тебя больше, чем если бы это был популярный прозрачный текст, типа эссе или толкования. Во всём, что ты пишешь с таким вниманием и с такой глубиной, есть твой образ. Именно поэтому я боюсь тривиальности разговорной речи. Попробуй я установить с Тобой связь той же глубины, как в этих письмах, – а вдруг у меня бы не вышло?
Разумеется, это просто страх. Всё равно стоит попытаться. Мы можем идти себе и идти, а говорить – лишь когда есть повод.
Ближе к концу он обратился к теме любви, которая, по его словам, настолько сложна, что у него не получается написать об этом хоть одно осмысленное предложение. В последние два года у меня много всего произошло, и мое представление о любви изменилось. У меня есть девушка, но я испытываю к ней любовь далеко не всегда. Я очень много думаю о тебе. Моя любовь к тебе – это любовь к человеку, который пишет твои письма.
Чтобы усвоить смысл этих предложений, пропустить их через мозг, потребовалась масса усилий. Я прочувствовала их на всех уровнях – графемологическом, морфологическом, семантическом, – и на каждом уровне эти предложения причиняли мне боль. Он пишет «моя любовь к тебе» – и тут же говорит, что любовь – не ко мне, а к кому-то другому, к автору моих писем. Дальше речь идет о колоссальной ценности этих писем, которые очень сложно понять, и именно сложность в понимании делает их такими для него ценными. Это, в некотором роде, даже пугает.
При четвертом перечитывании я остановилась на предложении о девушке. Неужели самое важное – именно оно? Но каким бы катастрофическим ни стало это открытие, хуже было другое: он не хочет узнать меня, узнать хоть что-нибудь, и единственное его желание – строить предположения, задавать вопросы и исчезать.
Что ж, теперь я, по крайней мере, в курсе. Больше никаких писем, в них нет никакого смысла. Мы через это уже прошли, и нам нечего больше сказать, да и к тому же у него нет времени. Я выключила компьютер и отправилась спать.
* * *
Когда я проснулась, из коридора доносилась песня о каком-то парне в поисках повседневности. Я пошла чистить зубы. Ханна сидела за своим компьютером.
– Привет! – сказала она. – Ты завтракала?
Мы отправились на завтрак. Было почти одиннадцать, и в столовой уже начали продавать обеденное мороженое. Страстно поглощая большую порцию клубничного, Ханна подробнейше пересказывала сон о сериале «Друзья». Я машинально жевала какую-то кашу и прихлебывала черный кофе.
В столовой появились девочки-скауты. Я уже много месяцев не видела ни одного ребенка. Двое из них подошли к нашему столику.
– Вы не хотели бы купить печенье?[32]32
Члены «Гёрлскаутов Америки» соревнуются между собой в продаже печенья со скаутской символикой. Это одна из статей доходов в бюджете организации.
[Закрыть] – спросила одна из них, с роскошными волосами.
Я купила две пачки «Тонкого мятного», себе и Ханне.
– Я взяла у тебя из посылки шоколадный кекс, – объяснила я.
– Это же прекрасно! Посылка – для всех, – она просияла. Любой знак дружбы делал ее счастливой.
Я тоже когда-то была герлскаутом, а точнее – брауни[33]33
Брауни – девочки-скауты младшей возрастной группы (8–11 лет). Название происходит от сказочных существ брауни, которые селятся рядом с жилищем людей и помогают им в хозяйстве.
[Закрыть]. Однажды я взяла в гараже грабли и разгребла весь двор старушке миссис Эммерет, чтобы получить значок за добрые дела. Миссис Эммерет заявила на меня в полицию, будто бы я пробралась к ней на территорию и отравила ее собаку. Я никогда не знала, что у миссис Эммерет есть собака. Оказывается, есть. Отравленная собака.
Когда пришла пора продавать печенье, моя мать – она считала, что на свете есть мало более постыдных занятий, чем бродить от дома к дому, втюхивая что бы то ни было, – продала всё печенье сама, причем собственной матери. Десять лет спустя, навещая бабушку в Анкаре, я обнаружила его в кладовке – тридцать нераспечатанных пачек гёрлскаутского печенья. «Почему ты не съела свое печенье?» – спросила я. «А, так это печенье? Я думала, это свечки», – ответила бабушка.
– У тебя что-то случилось? – спросила Ханна. – Ты всегда такая бодрая.
– Плохое настроение, – ответила я.
– Что-то стряслось?
– Мне нравится человек, которому не нравлюсь я.
Мне казалось, это – лишь приблизительное описание ситуации, но, произнеся вслух, поняла: именно так всё и обстоит.
* * *
В итоге я поехала к Ральфу в Библиотеку Кеннеди. Села на автобус у серой безлюдной станции метро, вокруг которой завывали ветры. Я была единственным пассажиром. Игнорируя остановки, водитель промчался прямо до библиотеки, здания из стекла и бетона, напоминавшего одновременно надгробный памятник и космический корабль. Я ждала Ральфа в мрачном павильоне с видом на океан. И мысленно всё время повторяла «нет, нет», открывая и закрывая застежку на рукаве. Увидев друг друга, мы с Ральфом рассмеялись. Потом мы пошли через макет, изображающий Национальный съезд Демократической партии 1960 года, и обратили внимание на розовый костюм – «радиоактивно розовый», как окрестил его Джон Кеннет Гэлбрейт, – сшитый Кассини для Джеки к ее встрече с Джавахарлалом Неру. У жакета – воротник в стиле Неру и соответствующая шляпка. Когда Джеки появилась в этом костюме, одна делийская газета сравнила ее с Дургой, богиней Силы.
* * *
На следующее утро я обнаружила письмо от Ивана, в поле «Тема» было написано: Куда ты пропала? Он писал, что мои письма ему необходимы. Он думает, ему нужно многое сказать, но прежде он должен знать, что думаю я. Сейчас он – в Калифорнийском технологическом со своим школьным другом Имре. Русский специалист по статистике – с выражением лица, как у дрессировщика, который положил голову в львиную пасть и тут же вынул, – битый час читал им лекцию о своей работе. И всё это время Иван обдумывал свое следующее письмо.
Для беседы обо мне Иван выпил с Имре яблочного вина. Если хочешь, чтобы разговор с Имре на любую тему не обратился в спор, нужно сперва с ним выпить. Порция оказалась недостаточной. Они нашли еще бутылку. Штопора под рукой не обнаружилось. Иван знал от отца одну хитрость: заматываешь бутылку в полотенце и стукаешь дном об стенку. Вместо полотенца у них был свитер Имре. А вместо стенки – модернистский фонтан. Бутылку разнесло вдребезги.
Иван с Имре прошагали три километра, чтобы купить еще вина, выпили и отправились на факультет проверять почту. В компьютерном зале Имре уронил бутылку, и остатки вина разлились вокруг, просочившись в коридор. В мужском туалете бумажных полотенец не было. Когда они вытирали пол полотенцами из женского туалета, откуда ни возьмись появился немецкий специалист по теории чисел и стал рассказывать о своей работе. Сейчас Имре ждет у фонтана. Иван обещал сводить его в парк «Юниверсал-Студиос», он нашел способ проникнуть туда, не платя тридцать пять долларов за вход. Хотел бы написать более глубокий текст, но не может, пока не услышит мой голос.
* * *
Я выключила компьютер и вместе с Ральфом отправилась в «Копли Плазу» покупать ему подтяжки. У меня не обошлось без проблем с вращающейся дверью. Мысли мои были поглощены тем, что если кто-то пишет о тридцати пяти долларах или о штопоре, я даже не пытаюсь показаться более крутой. Как я могу добиться в жизни хоть чего-нибудь? Как могу хоть кого-то заинтересовать?
Мы прошли через парфюмерию, косметику, сумочки, солнечные очки и на эскалаторе спустились в мужской отдел. Он оказался чем-то совершенно невразумительным, ни один товар не был призван удивить или восхитить, все – на одно лицо. О какой невидимой руке рынка может идти речь? Как сделать выбор среди обилия идентичных серых пиджаков? Но я всё равно пробовала на ощупь эти широкие надежные плечи и, несмотря на то, что их однотипная серьезность и важность смотрелась смешно, чувствовала волну вожделения.
Подтяжки должны были подходить к штанам хаки, флотскому пиджаку и галстуку винного цвета. Невозможно удержать эти три цвета в голове одновременно. Нам обоим понравились красные подтяжки – но только если бы не винный галстук. Черт меня дернул спросить у Ральфа, какого цвета будут туфли.
– Черные, – ответил он.
– Черные туфли, флотский пиджак, – вслух размышляла я. Мы посмотрели друг на друга ошеломленно. – Коричневые туфли, – и отправились в обувной отдел. Это было начало конца, и дело даже не в том, что покупка обуви – само по себе занятие печальное (взять хотя бы «Золушку», разве это – не аллегория фундаментальной безрадостности выбора обуви?), – а в том, что наш путь пролегал через отдел пижам и нижнего белья. В отделе пижам мы окончательно себя потеряли – забыли, зачем мы здесь и кто мы такие. Туфли хотя бы перекликались цветом с подтяжками. Здесь же цвета теряли всякий смысл – ну или не то чтобы теряли смысл, но несли в себе какое-то иное значение. На одних трусах было красным написано НЕТ НЕТ НЕТ, а зеленым флуоресцировало ДА ДА ДА.
* * *
Прошел еще день. Логи компьютера Ивана мигрировали сначала из Калифорнийского технологического в Калифорнийский университет Сан-Диего, а потом – в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса. Я то и дело пыталась написать ему, но меня парализовала мысль о том, что всё теперь зависит от моего хода. Ведь это же его слова: у него есть что мне сказать, но он скажет, только если сначала я скажу то, что нужно.
Я не могла ни работать, ни спать. Я перестала видеть суть вещей, не понимала, что должно произойти. Я постоянно, почти в режиме нон-стоп, насколько могла, писала – в своем блокноте на спирали или в лэптопе, – зачастую отмечая время записи, поскольку хотела чувствовать, что время – под контролем. Разумеется, постоянно контролировать время невозможно. Стоит записать, который час, как уже наступает следующее мгновение.
Мне хотелось с кем-нибудь поделиться происходящим, но я не знала ни как это сделать, ни с кем. Светлане я рассказать не могла: она либо примется рассуждать про змея-искусителя, либо скажет забыть об Иване, поскольку у того есть девушка. А что если связь можно установить по-иному? Вдруг на свете существуют другие вещи? С матерью я поделилась урезанной версией. Я сама слышала, что во всём этом нет никакого смысла. Что это не имеет смысла как история. Я утратила способность вести беседу. Способность читать.
* * *
Я записалась на прием к специалисту в студенческой поликлинике. В приемной взяла брошюру «Факты и мифы об изжоге» – мифы я обычно люблю, но эти оказались дурацкими. «При изжоге помогают мятные конфеты». Медсестра произнесла какое-то слово – видимо, предполагалось, что это мое имя. Я пошла за ней к двери с медной табличкой «Детская и юношеская психология». В кабинете за столом, уставленным деревянными брусками и пластиковыми свинками, сидел беловолосый розовощекий человек. Других животных на столе не было, одни свиньи. Иван в своих письмах упоминал свиней, даже несколько раз. Может, в свиньях есть что-то, чего я не знаю?
– Пожалуйста, присаживайтесь, – сказал детско-юношеский психолог, жестом указывая на ряд стульев – некоторые размером предназначались для детей, а некоторые, надо полагать, – для юношества. Я села на один из тех, что побольше, и всё рассказала. Рассказала о проблемах со сном, разговором и чтением, об электронной переписке, о своем признании и об ответе Ивана. Рассказ оказался долгим.
– Как вы отреагировали, когда он рассказал о своей девушке? – спросил психолог.
– Я не ответила на то письмо, – сказала я.
Он энергично закивал.
– И что потом сделал этот парень?
– Он снова написал. Он что-то хочет мне рассказать, но сперва ему нужно услышать мой голос.
– То есть, он хотел поговорить с вами по телефону?
– В смысле?
– Если ему нужно услышать ваш голос, значит, он собирается позвонить?
– А, нет, думаю, он просто просил меня ответить на письмо. Наверное, когда он написал «голос», это была, э-э, метафора.
– Понимаю. Ваш писательский голос.
При фразе «писательский голос» я от смущения лишилась дара речи.
– Да, – выдавила я.
– Вы говорили с ним по телефону с тех пор, как он уехал?
– Я вообще никогда не говорила с ним по телефону.
– Что? Ни разу?
– Нет.
– Вот это да. То есть его голос вы тоже никогда не слышали? Если, конечно, не брать в расчет его писательский голос.
– Ну, мы общались на занятиях, и еще немного потом.
– Ну да, вы же ходили в одну группу. По русскому. А кроме этого?
Я покачала головой.
– Только, м-м-м, писательский голос.
– Вот это да, – повторил он. – Что же вам теперь делать? Он написал второе письмо. Вы собираетесь отвечать?
– Не знаю, – сказала я. – Я хочу, но не знаю – как. Не знаю, какой ответ будет правильным.
Психолог откинулся на спинку стула. Последовало долгое молчание.
– Знаете что, Селин, – сказал он. – Мне вообще не нравится, как всё это выглядит.
Это меня удивило: я не знала, что ему, оказывается, может нравиться или не нравиться, как что выглядит.
– Не нравится? – спросила я.
– Не нравится, – ответил он. – Это всё напоминает мне историю Унабомбера.
– Унабомбера?
– Унабомбера.
– Почему?
– Не знаю. Просто мне в голову сразу пришел Унабомбер.
– Потому что он изучал математику?
– А, интересная мысль. Я об этом не подумал, – он что-то бегло записал в блокноте. – Я думал о компьютерах, о том, что всё это связано с властью и компьютерами. Компьютеры. У них – власть.
– М-м, – сказала я.
– Вы сейчас переживаете весьма уязвимый период своей жизни. Вы впервые покинули дом, сталкиваетесь с трудностями учебы, чувствуете, что зашиваетесь. А этот компьютерный парень, он где, в Калифорнии?
– Да. Он сейчас ездит по магистратурам.
– У него есть девушка, он – выпускник, он едет в Калифорнию. Это – неподходящий для вас человек. Ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе. Из того, что вы описали, похоже, что он вообще едва ли существует. Он – это лишь голос из компьютера. Неизвестно – кто или что там за компьютером: видимо, ему нравится скрываться. И вы тоже прячетесь за компьютером. Это абсолютно объяснимо. Все мы, человеческие существа, терпеть не можем рисковать. Мы все хотим спрятаться. И благодаря имэйлу, – он произнес так, словно это слово изобрела я, – благодаря имэйлу у вас завязались целиком идеализированные отношения. Вы ничем не рискуете. Спрятавшись за экраном компьютера, вы – в полной безопасности. Мне хотелось бы, чтобы вы кое о чем подумали. Ведь вы на самом деле об этом парне ничего не знаете? Возможно, его вообще не существует.
– В смысле?
– Этот человек, о котором вы мне рассказываете. Возможно, его вообще не существует.
Я почувствовала, как ткань реальности вокруг меня расползается. Я вгляделась в розовое лицо детско-юношеского психолога. Не похоже, чтобы он шутил или говорил метафорически.
– Мы ходили в одну группу, целый семестр, – с расстановкой произнесла я. – Виделись почти каждый день. Общались друг с другом. Я… в моей памяти это прекрасно отложилось, – моя уверенность росла с каждым словом. – Я твердо убеждена, что он существует. В смысле, я не уверена на все сто процентов, но у меня нет и стопроцентной уверенности в том, что я сижу сейчас здесь и говорю с вами, понимаете?
– Но мы сейчас сидим лицом к лицу. Мы – реальные люди. Он же действует не на уровне реальной личности. Для вас он – не реальная личность. Если бы он был реален, у вас имелась бы масса возможностей разглядеть изъяны этой ситуации – увидеть, что для вас его на самом деле нет. А получается наоборот: поскольку он существует в виде писем, он как бы есть всегда, стоит вам включить компьютер. Готов спорить, вы вновь и вновь перечитываете его письма, я прав?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































