Читать книгу "Идиот"
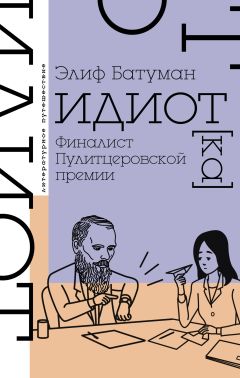
Автор книги: Элиф Батуман
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Большинство людей считают, что круговой удар – в колене, – объяснял Уильям, – а на самом деле он – в бедре.
– Нужно, чтобы ты сосредоточилась на своем бедре, – сказал он. Я пообещала постараться. Но когда комната такая маленькая, а его тело – такое большое, и белая форма почти не скрывает длинные, тяжелые, покрытые темными волосами руки и ноги, трудно сосредоточиться на чем бы то ни было. Он выбросил вперед, в сторону мешка, свою огромную голую ногу, и я почувствовала, что мне бы лучше отвести взгляд, но в то же время приходилось быть внимательной, ведь он искренне хотел научить меня круговому удару.
– Главная ось – в бедре, – сказал он. Своими движениями он как бы корректировал положение моего бедра, но меня не касался. В этом заключается философия тхэквондо: максимальная энергия, но никакого контакта. – Ты должна представить, будто стоишь на единичной окружности, на единице, – продолжал он. – Твое бедро – это синус, а колено – косинус. Косинус на единице стабилен, как и твое колено. Косинус не сдвинуть даже при желании – разве что дикими способами, о которых мы и думать не будем, а то покалечишься. А вот стоит совсем капельку изменить синус, и ты уже летишь по этой окружности. Понимаешь, о чем я?
* * *
После занятий я отправилась к Светлане. Она сидела на полу с лихорадочным румянцем на щеках, а на коленях – бежевый дисковый телефон.
– Ты уже слышала? – сказала она, поднимая заплаканные глаза. – Умер Иосиф Бродский.
Это известие застало ее утром, но подсознание Светланы уже успело внедрить его в сновидения – после обеда она прилегла вздремнуть. Ей приснилось, будто они с Бродским и еще какими-то людьми сидят, скрестив ноги, у фонтана рядом с Научным центром и передают из ладони в ладонь кукурузные зерна. Послышался тихий звенящий звук, небо стало цветом как пепел. Фонтан иссяк. Они принялись молиться о дожде. Небо потемнело, но гроза не шла – вместо нее началось затмение.
Я подняла книжку, лежавшую на полу обложкой вниз, – сборник «К Урании» на русском языке. Открыла ее наугад. Мне было знакомо примерно одно слово на строчку: «здесь», «твой», «наверное».
Вернувшись в свою комнату, я села за стол проверить почту. Увидела в папке с входящими имя Ивана, вздрогнула и вдруг поняла, что весь день ждала этого письма. В строчке «тема» значилось Сибирь. Я перечитала письмо несколько раз. Его смысл оставался неясным. Отдельные слова и даже предложения были вроде бы понятны, но составленные вместе они казались написанными на другом языке.
Дорогая Селин, Соня, мне снился странный сон, – начиналось письмо. Сон был про реку Енисей. Теперь я знаю, что ты – там. Знаю, что ты изменишь мне с бывшим парнем моей будущей девушки. Но я всё прощу. Не будь тебя, я не нашел бы Барбару, идеальную механическую преподавательницу.
Иван просил меня пересказать сюжет фильма «До свидания, лето», 15-серийного сериала, снятого на Би-Би-Си для изучающих начальный русский. Мы должны были смотреть его весь семестр, и нас могли спросить о нем на экзамене. Если ты мне его перескажешь, я прощу тебе Сибирь, 150 лет турецкой оккупации венгров и даже отвратительные книги, которые мне пришлось читать в школе о том времени.
Я никогда не слышала об оккупации Венгрии османами. В детстве мне говорили, что турки и венгры – родственные народы, что гунны – тоже тюрки, что оба эти народа мигрировали на запад с Алтая и что говорили они на схожих языках. У меня был дядя Аттила, обычное турецкое имя. Но в Ивановом мире наши предки враждовали.
От этого ощущения близости и в то же время отдаленности кружилась голова. Всё, что он говорил, пришло откуда-то совершенно извне. Я никогда не смогла бы всё это сочинить или угадать. Он рассказал мне сон. Он написал: знаю, что ты изменишь мне. Но пообещал всё простить, даже дважды. Я ничего против него не совершала, но от мысли о том, что всё же что-то совершила или совершу, захватывало дух. Мне захотелось сразу ответить, но он медлил с ответом целый день, так что и я подожду по меньшей мере столько же.
* * *
По пути в раздевалку мы со Светланой шли через тренажерный зал.
– Я обмолвилась Уильяму о том, как ты обалдела от его бесед по тригонометрии, – говорила она. – Этого больше не повторится.
Я почувствовала, что меня предали, но потом поняла, что у Светланы, наверное, к Уильяму слабость. В этот момент я увидела у одного из тренажеров Ивана, который тянул за прикрепленный к шнуру железный стержень. На другой стороне блока плавно ползала вверх-вниз стопка грузов. Поднявшись, Иван отпустил стержень, и грузы с приглушенным лязгом рухнули. Низкое подвальное помещение не давало ему встать в полный рост. Он повернулся, но увидел ли нас? – я не была уверена. Пока я раздумывала, поздороваться или нет, мы уже подошли к раздевалке.
* * *
Дорогой Иван, набирала я в компьютере. Проснувшись в Сибири, я почувствовала, как сильно тоскую по дому. Я думала, за день тоска пройдет. Но она не прошла. Я написала, что уехала из Сибири и вернулась домой. В душе мне казалось, что больше ничего не будет, что я поднимусь на эскалаторе и увижу лишь снег. Но вместо этого я обнаружила кирпичные стены, Бальзака, замороженный йогурт, альвеолярные фрикативные звуки – словно никуда не уезжала. Я чувствовала потребность рассказать ему о том, что меня окружают и подавляют вещи, чей смысл сомнителен или неведом и чьи масштабы никак не соотносятся с моими.
Я принялась за пересказ фильма «До свидания, лето». Это была длинная история, и по ходу письма мне пришло в голову, что я теряю некий политический капитал. Я удалила всё написанное и вместо этого набрала: Пересказать сюжет я, разумеется, могу. Теперь он должен снова попросить.
* * *
Перед экзаменом мы со Светланой встретились на завтраке.
– У тебя вид, будто кто-то умер, – сказала она.
– Плохо спала, – ответила я.
– Только не говори, что нервничаешь, – сказала Светлана.
– Когда я начинаю волноваться, – вставил парень по имени Бен, – мне нравится думать о Китае. Там живет чуть не два миллиарда людей, и никому из них даже в голову не приходит париться по поводу вещей, которые тебе кажутся очень важными.
Я допустила, что эта мысль может придать бодрости.
Светлана любила приходить всюду заранее, и в экзаменационный класс – залитый солнцем зал с длинными дубовыми скамьями – мы вошли в числе первых. Я примостилась на краю одной из скамей, а Светлана села впереди и повернулась ко мне. Мы беседовали о том, стоит ли Светлане поехать на церемонию памяти Бродского в колледже Маунт-Холиок. Вдруг она умолкла, уставившись на что-то позади меня.
– Соня, – сказал Иван. – Ну что, расскажешь мне этот бибисишный фильм?
Я изложила ему сюжет, начиная с того момента, когда Ольга забыла учебник у Виктора в такси. Гам в зале усиливался, Иван подошел ближе и наклонился ко мне. Вскоре он уже сидел у моих ног, хмурясь и для равновесия держась за спинку моей скамьи.
Когда в зале появился проктор, я как раз дошла до той части, где они оба вступили в брак, каждый со своей парой.
– Этим всё и кончается, – сказала я.
– Ты мой спаситель, – ответил Иван, глядя мне в глаза, и затем отправился искать себе место.
– Кто это? – спросила Светлана.
– Иван, помнишь? Мы же все были в одном классе.
– Совсем его не помню. Не понимаю, как я могла забыть такого парня. А почему он сам не мог посмотреть этот фильм?
– Полагаю, был занят.
– У него, наверное, очень богатая внутренняя жизнь, – сказала Светлана. Я рассмеялась. Но она оставалась серьезной. – А ты не замечаешь за ним ничего странного? То, как он смотрит, – словно пытается заглянуть тебе внутрь. Никогда не бывает не по себе? Мне сделалось неуютно.
А мне не сделалось.
* * *
Иван прислал имейл с темой Ленин. Он писал, что русские собираются убрать Ленина из мавзолея на Красной площади. Ивану будет его немного не хватать. Ленин всегда был рядом – «Ленин фотографией на белой стене», эти стихи они читали в учебнике четвертого класса, но им ничего не рассказывали о том, почему Маяковский свел счеты с жизнью.
После 1990 года все ленинские памятники в Будапеште собрали и вывезли в парк за чертой города. Из них вышло очень милое сообщество, «даже прелестнее, чем коммунизм, как его себе представляли». Ленин приветствовал Ленина напротив другого Ленина, за которым бежал пролетарий по прозвищу «гардеробный памятник» из-за знамени в его руках (ВЫ ЗАБЫЛИ СВОЙ СВИТЕР, СЭР!). Стоявший сзади гигантский улыбающийся Ленин был еще в начале восьмидесятых испорчен вандалами. ХВАТИТ, ИЛЬИЧ, КОНЧАЙ УЛЫБАТЬСЯ. МЫ БОЛЬШЕ НЕ ТУРКИ. ЧЕГО НАМ БОЯТЬСЯ? – написали они. По-венгерски рифма удачнее.
Еще один ленинский памятник, подарок от советского народа, получил повреждения, пока ехал поездом из Москвы. Его отвалившуюся макушку так и не нашли. Венгерские скульпторы в спешке вырезали ему из лучшего мрамора кепку. На пышной церемонии открытия все увидели, что у Ленина – две кепки: одна на голове, а другая – в руке.
Я читала и перечитывала это письмо. Мне было не вполне ясно, зачем Иван его написал, но он потратил на него время и, видимо, хотел произвести впечатление. У меня не шли из головы эти Ленины в парке, собранные в конфигурации, которую никто нарочно не придумывал, но которая каким-то образом являла собой подлинное воплощение коммунизма. Стиль письма был хоть и игривым, но в то же время серьезным. О самоубийстве Маяковского он писал всерьез.
Распорядок сна у меня совершенно пошел вразнос. Казалось, я постоянно думаю о чем-то не о том. Каждую ночь я ложилась около полуночи, закрывала глаза, и в голову начинали лезть всякие путаные мысли, я снова включала свет и читала до четырех.
Чтобы лучше понять Ивана, я прочла «Книгу смеха и забвения»[18]18
«Книга смеха и забвения» (1978) – роман чешско-французского писателя Милана Кундеры.
[Закрыть]. В первой же главе пересказывался анекдот об абсурдности в коммунистическом правлении, где тоже фигурировал головной убор. Судя по всему, коммунисты удалили с фотографии какого-то деятеля, но забыли убрать его шапку. Об этой шапке я размышляла часами. Я знала, она как-то связана с кепкой на венгерском ленинском памятнике. Но как? Она просто была, и всё – эта лишняя кепка.
* * *
Мы со Светланой посмотрели в киноархиве «Три песни о Ленине»[19]19
«Три песни о Ленине» (1934) – документальный фильм Дзиги Вертова.
[Закрыть]. В третьей песне Ленин умер. Вся заключительная часть изображала только плачущих людей – людей старше, моложе, детей; русских, татар, среднеазиатов; на заводах, в полях, на похоронах. Там была склейка, где с мертвого Ленина, лежащего в гробу, план переходит на Ленина, улыбающегося солнцу, чтобы показать весь контраст между смертью и жизнью. Раньше мне никогда не приходило в голову, как много людей в самом деле любили Ленина – любили по-настоящему, испытывали подлинное чувство.
Светлана рассказала, что когда она ходила в первый класс, школьники на игровой площадке изводили друг друга вопросом: «Ты кого больше любишь, товарища Тито или маму?»
* * *
В последний день на «Строительстве миров» Гэри помогал нам расположить завершенные проекты в выставочной галерее.
Сэнди, чьи венгерские церкви нуждались в дополнительном нарративе, принес шесть новых гравюр таких же венгерских церквей, но на этот раз на ступеньках перед входом стояли свиньи. Он пояснил, что свиньи сбежали с соседней фермы.
Гэри разложил на столе все оттиски, а потом некоторые перевернул, чтобы показать, насколько по-иному выглядят оставшиеся картинки в зависимости от их числа и от того, какие именно остались. Они и в самом деле стали смотреться совсем иначе. То, что Гэри хоть в чем-то оказался настоящим мастером, несколько воодушевляло. Мы коллективно выбрали четыре картинки, которые лучше всего подходили друг другу. По отдельности они не были лучшими, но в них чувствовалось напряжение. Одна без свиней, три другие – со свиньями. Затем мы стали думать, как их удачнее развесить. Испробовали разные конфигурации. Оказалось, манипуляциям и изменениям поддается все. Телестойка Руби выгоднее всего смотрелась рядом с фальшивой энциклопедией, изготовленной одним студентом-программистом. Венгерские церкви выигрывали, если их расположить в ряд, в то время как иллюстрациям к «Наоборот» больше шел шахматный порядок.
Из моих двенадцати фотографий розовой гостиницы класс выбрал шесть. Было забавно увидеть, какие именно картинки им не приглянулись. На одном фото в другом конце холла стоял человек с чемоданом. Все единодушно невзлюбили и его самого, и чемодан. Зато картинки с Ханной и вообще без людей имели успех. Мы развесили фотографии в ряд, а распечатку рассказа я положила на стойку под ними. Для текста я выбрала размер шрифта десять пунктов, чтобы, с одной стороны, сэкономить бумагу, а с другой – отвадить читателей от рассказа, который, как мне казалось, их мало заинтересует. Я пребывала в глубоком убеждении, что неплохо пишу и что я в некотором роде уже писатель, и неважно, написала ли я хоть один текст, который хоть кому-то захочется прочесть, и создам ли я хоть что-нибудь в принципе.
* * *
Когда Ханна увидела, сколько страниц в распечатке, да еще и таким мелким шрифтом, она долго не могла прийти в себя. Она была уверена, что во всем университете не сыщется человека, способного писать столь длинные и подробные истории, и стала склонять меня к участию в студенческом литературном конкурсе.
– Ты не забыла подать заявку? – спросила она на другой день.
– Я не нашла этот корпус, – ответила я.
Ханна знала карту кампуса наизусть и провела меня к деревянному домику, где была редакция нашего литературного журнала. Она проследила, чтобы я оставила там распечатку с моим именем и телефоном на отдельном листе.
* * *
Экзамены кончились. Настало время забыть про фонетические символы, русские глаголы и сюжеты романов прошлого века. На несколько свободных дней, оставшихся до начала нового семестра, к Светлане приехала мать. Она ночевала у Светланы в спальне, а Светлана гостила пока у меня – в общей комнате она жить не могла, поскольку Ферн выращивала какое-то нежное растение, требующее яркого освещения даже ночью.
Мать Светланы пригласила нас обеих пообедать во французско-камбоджийском ресторане.
– Селин, это Саша, моя мама, – сказала Светлана. – Мама, это Селин, моя подруга.
Светланина мать пристально на меня посмотрела.
– Дорогая, – произнесла она резким голосом, – у тебя разве нет другого пальто?
Я была в гоголевском плаще из «Файлинс». Когда я поведала про украденную куртку, Светланина мать приобрела ошарашенный вид.
– Украли? Боже мой! Светлана, у тебя же есть какая-нибудь старая куртка, которую ты могла бы отдать Селин. Может, та лиловая лыжная? Она висит дома. Я могу выслать по почте.
– Мама, той куртке уже два года. И рукава у нее коротки даже мне. Селин она не подойдет.
– Да, это так, Селин крупнее. Жаль.
– Мне нравится пальто Селин, – сказала Светлана.
– О, мне тоже, не поймите меня неправильно, оно… элегантное. Может, даже слишком элегантное – пожалуй, слегка смешное. Но, разумеется, ты должна его носить, пока не купишь что-нибудь другое. Нельзя же замерзнуть насмерть.
На стол принесли глиняный горшочек, из которого что-то гневливо плевалось кокосовым молоком. Мать Светланы предалась воспоминанием о любимом празднике своего детства. – Мы ходили на… как это по-английски? Где покойники. А, кладбище, кладбище. Турецкое кладбище. Мы плясали на их могилах. Играл оркестр – ну, небольшой, пять или шесть музыкантов, много цветов, а все девочки – в красивых шелковых платьях. Красные, желтые, белые платья, все разных цветов. Это был прекрасный праздник.
– Мама, – сказала Светлана, – это неподходящая история для моих турецких друзей.
– Не глупи. Это милый, невинный праздник – танцы и цветы. Селин не обидится. Турки были могущественным, достойным противником.
– Как сербы в Боснии? – спросила Светлана.
– Причем здесь это вообще?
– Странно, что ты говоришь о турках. Можно подумать, быть сербом сегодня – это круче всего.
– Нет никакой разницы – быть сербом или еще кем-то. Я не устраиваю этнических чисток. Лично я желаю боснийцам только добра. И туркам тоже. Я просто поделилась воспоминаниями из своего счастливого детства, к чему эти вечные политические споры? Хватит быть серьезными. – Она резко повернулась ко мне. – Ты не эпилируешь брови воском? Или ты наверняка пользуешься пинцетом. Нет? Они у тебя такой интересной формы. И не скажешь, что от природы. Разумеется, тебе не нужно ничего делать с бровями. Вот только тут слегка подправить, но это не критично. Не то, что Светлана, которая вообще ничего не желает делать со своими бровями, и из-за них у нее сердитый вид.
– Это потому, что я сердита. И брови здесь ни при чем.
– Да, знаю, дорогая, ты всё время так говоришь. Но из-за них ты как бы глядишь исподлобья, словно угрюмый мальчишка. Ты могла бы стать куда привлекательнее. Как ты думаешь, Селин?
Я понимала, о чем речь, она имела в виду выражение, которое появляется у Светланы, если смотреть на нее под определенным углом, когда она опускает взгляд, и этот ее вид был мне дорог.
– Мне нравятся брови Светланы, – сказала я.
– Ах! – вздохнула она. – Вы, девочки, еще такие молоденькие.
– Я не чувствую себя молоденькой, – сказала Светлана. – Сегодня я постарела на тысячу лет. Селин, ты даже представить не можешь, какой был сегодня утомительный день. Мы с семи утра бесконечно спорим о том, как Саша просрала мое детство.
– Да нет, дорогая, мы не спорили, ведь я же полностью с тобой согласна. Я была чудовищем. Монстром. Но что толку зацикливаться на этом сегодня? Какая разница? Сейчас мы можем идти дальше. Разве я неправа?
Светлана ничего не ответила, но было чуть ли не слышно, как она закипает, словно кокосовое молоко в горшочке.
– Ты получилась великолепной, – сказала я и опустила ладонь на ее руку. – Ты просто взгляни на себя!
– Без толку! – воскликнула Светланина мать, постукивая кольцом по столу. – Даже будь она и впрямь чудовищем, нам просто пришлось бы иметь дело с тем, что есть. А спорить – без толку.
Весна
В первый день семестра мы проходили неправильные русские существительные: они внешне похожи на существительные женского рода, но при склонении требуют мужских окончаний. Это были хорошие слова: календарь, словарь, портфель, медведь. Иван опоздал и сел прямо позади меня. В его физическом присутствии с трудом верилось, что это он писал мне все те письма.
Поскольку мы сидели почти рядом, нас назначили парой в упражнении на творительный падеж. Надо было расспросить напарника, кем он хочет «стать» после университета. Ответ в любом случае получался существительным в творительном падеже. Я сказала, что хочу стать писателем.
– Что ты будешь писать? Рассказы, эссе, стихи?
– Нет, романы.
– Интересно, – сказал Иван. – Мне кажется, ты можешь написать хороший роман.
– Спасибо, – ответила я. – Мне кажется, ты можешь стать хорошим математиком.
– Правда? Откуда ты знаешь?
– Я не знаю. Просто вежливо отвечаю.
– А, понятно.
Казалось, говорить больше не о чем. Я оглядела класс. Все продолжали корпеть, словно тюлени, над своими диалогами.
– Где ты хочешь жить после университета? – спросила я, хотя этого не было в задании, и ответ не подразумевал творительного падежа.
– После университета? – он показал на пол. – Этого, Гарвардского?
– После университета. Этого, Гарвардского.
– Я хочу жить в Беркли.
Я попыталась вспомнить, что такое Беркли.
– Это… в Калифорнии?
Иван кивнул.
– Я хочу закончить магистратуру в Беркли, в Калифорнии.
Я никогда не бывала в Калифорнии и даже не думала о ней.
Варвара раздала последнюю порцию «Нины в Сибири». Там использовались все шесть падежей. Мы с Иваном вместе пошли по лестнице.
– Что ты будешь делать сейчас? – спросил он. Звучало экзистенциально.
– Не знаю, – ответила я, пытаясь не отставать.
Он замедлил шаг.
– Идешь на уроки?
– Нет, у меня окно, – сказала я. – А ты что будешь делать?
Он долю секунды поколебался.
– А я иду на занятия.
– А-а.
– Но мне очень не хочется.
Так не ходи, чуть не сказала я. Он подержал передо мной дверь, тяжелую несгораемую дверь. Мне не нравилось идти впереди него. Мне не нравилось, когда он исчезал из моего поля зрения, и не нравилось, что он смотрит мне в спину. Я прошла через дверь. Мы попрощались, и я отправилась в студенческий центр, где взяла кофе и села читать про Нину.
Затмение
Той весной случилось солнечное затмение. Нина с Леонидом поехали на конференцию в Улан-Удэ, город в восточносибирской Бурятской Республике, – считалось, что там это затмение будет видно лучше всего.
Презентация Нины прошла очень успешно. Все согласились, что это – «последнее слово в физике». Потом был большой ужин. Физики допоздна ели осетрину, пили водку, болтали и рассказывали анекдоты.
– Добрый вечер, – поздоровался незнакомец. Нина и Леонид обернулись и увидели… шамана. – Всего за два рубля я предскажу вашу судьбу, – продолжал шаман.
Леонид дал шаману два рубля. Тот долго разглядывал Нинину ладонь.
– У вас начинается новая жизнь, – наконец произнес он. – Мне кажется, вы скоро выйдете замуж.
Леонид дал шаману еще пять рублей.
На следующее утро Нина проснулась на заре и надела свои самые теплые вещи. Она взяла меховую шапку, подаренную в «Сибирской искре». Вместе с Леонидом они отправились на смотровую площадку. Там собралось много физиков.
Вдруг Нина услышала знакомый голос.
– Нина!
Она обернулась и увидела Ивана.
– Нина, – сказал Иван. – Поздравляю тебя с вчерашней блестящей презентацией. Как я рад тебя видеть! Расскажи, как ты живешь?
– Иван! – ответила Нина. – Я живу хорошо.
– Привет, Иван, – сказал Леонид.
– Привет, Леонид, – сказал Иван.
Все трое студентов замолчали.
– Нина. Леонид. Слушайте, – произнес, наконец, Иван. – Я хочу, чтобы вы узнали правду обо мне. В Москве Нина была моим другом, и мне казалось, я люблю ее. Но прошлым летом я встретил Галину и влюбился. Галина жила в Сибири и собиралась замуж за Леонида. Я жил в Москве и собирался жениться на Нине. Мы с Галиной решили просто забыть друг о друге. Но потом я получил письмо от дяди. Он пригласил меня работать в свою новосибирскую лабораторию. И тогда я понял: это – судьба.
– Судьба? – повторила Нина.
– Я решил уехать в Новосибирск, но побоялся тебе сказать. Мне почему-то казалось, ты сама поймешь, что между нами всё кончено. Позднее, когда я узнал, что ты приехала в Сибирь, то понял, что поступил глупо и трусливо. Я начал писать тебе письмо, но не мог подобрать слов. Нина, прости меня, если сможешь.
– Простить тебя, Иван? – ответила Нина. – Но я тебе благодарна! Если бы ты остался в Москве, я не уехала бы в Сибирь. А если бы я не приехала в Сибирь, то не встретила бы Леонида.
– Ребята! – крикнул кто-то. – Затмение начинается!
Солнце постепенно превратилось в убывающий полумесяц. Тень луны поглотила небо почти целиком. Разноцветная солнечная корона становилась всё ярче и ярче. Поначалу Нина и Леонид по очереди смотрели в солнечный телескоп. Но потом их взгляды встретились.
Последнюю часть я читала с нехорошим предчувствием. В ней всё казалось фальшивым: пророчество шамана, объяснения Ивана и особенно – «счастливый» конец. Зачем Нине смотреть вместо телескопа в глаза Леонида? Каким образом появление Леонида разрешило все противоречия? Почему всякая история должна непременно завершиться свадьбой? В «Холодном доме» и даже в «Преступлении и наказании» такой финал можно ожидать. Но «Нина в Сибири» казалась совсем иной. В отличие от всего, что я прочла за тот семестр, «Нина», в моем представлении, обращалась непосредственно ко мне, суля открыть нечто важное об отношениях между языком и миром. Тайна оказалась ложной, все сошлись со своими парами и аннигилировали – я почувствовала подлое предательство.
* * *
Увлеченная историей Нины, я пропустила начало урока на очередном курсе, который рассматривала для посещения, – по испанскому авангарду. Я уселась на свободное место за столом как раз в тот момент, когда профессор вставлял кассету в видеоплеер. Пленка включилась на кадре, где туча надвое разрезает луну, а в следующем кадре лезвие разрезает надвое женский глаз.
Профессор остановил плеер и включил свет. По его выжатому морщинистому лицу, – подумала я, – как-то сразу видно, что он – не американец.
– В этом, – говорил профессор, – проблема с Бунюэлем. Почему нам сначала показывают луну, а потом – глаз? Два несвязанных образа. Почему он их сопоставляет? – профессор обвел взглядом стол. Все молчали.
– В том-то и дело, – сказал он. – Ответа нет, поскольку это – сюрреализм. Мы можем предложить множество интерпретаций, но нам не удастся ничего доказать, и мы никогда не получим ответ. Вспомним Фрейда. Я прочел его «Толкование сновидений» и нашел эту книгу совершенно неудовлетворительной. Скажем, Фрейд толкует сон. Я читаю его интерпретацию. И думаю: да, может, и так. Может, это – верное толкование. Но как он докажет? Никак. Обсуждение становится бесконечным и, следовательно, бесполезным. Когда мы пытаемся толковать Бунюэля, то сталкиваемся с той же бесконечной бесполезностью.
Я посмотрела на студентов за столом. Они либо кивали, либо что-то записывали. Кажется, никому, кроме меня, не показалось, что когда профессор стоит перед классом и говорит о бесконечной бесполезности интерпретаций – это позор и ужас.
– Мы только что видели шокирующую сцену, – продолжал профессор. – В этой сцене вскрывают глаз. Разумеется, Бунюэль на съемках использовал не настоящий женский глаз, а глаз коровы.
У парня рядом со мной случился, похоже, спазм, и он быстро сделал какую-то пометку. Я мельком глянула в его блокнот. Там отрывистым почерком было написано: Коровий глаз.
– Однако, – продолжал профессор, – пусть Бунюэль и не совершал акт насилия против человека собственноручно, кино всё равно стало новым и жестоким средством коммуникации. Кино – это среда, которая фрагментирует и расчленяет человеческое тело. Мы видим голову актера, но не видим его туловище. Словно голова отрублена. Но он при этом не выглядит мертвецом. Он говорит, двигается, как живой человек. Парадокс! Во времена Бунюэля зрители вставали с мест и заглядывали за экран, думая найти там остальное тело. Никогда прежде люди не видели, чтобы человеческое тело раздробляли таким образом, и это уже само по себе было шоком.
Когда он назвал кино «парадоксом», я ощутила волну почти физической боли.
– А как же портреты? – ляпнула я.
Профессор повернулся в мою сторону и остановил свой выжатый взгляд на моем лице.
– Портреты?
– На портретах мы тоже видим только голову без туловища. Но никто не думает, будто человеку на портрете отсекли голову.
– Ах, бюсты, – сказал он. – Ведь вы имеете в виду греческие и римские бюсты? Например, бюст Афродиты. Но бюсты, которые мы видим в музее, – это зачастую лишь головы статуй, случайно отколовшиеся от туловища. Греки и римляне пришли бы в ужас, увидев подобную голову без тела.
Я обдумала его слова.
– А монеты? Разве на монетах не изображалась лишь голова правителя, без туловища?
– Естественно, – усталым тоном произнес профессор, – монеты – вещь весьма древняя, и мы могли бы обсудить их отдельно. Но суть моих слов заключается в том, что кино стало революционным средством коммуникации.
Этот риторический оборот меня впечатлил: то есть уродом теперь выгляжу я – будто я заявила, что кино революционным средством коммуникации не стало.
* * *
В итоге я записалась на другой семинар по испанскому кино, который вел внештатный преподаватель на испанском языке. Внештатный преподаватель тоже говорил всякие глупости, но произносил их по-испански, и это повышало познавательную ценность. Я была единственным неиспаноязычным студентом в классе и потому говорила медленнее всех и с самым жутким акцентом. Я учила испанский в школе, поскольку мой отец-левак говорил о важности владеть языком трудящихся классов. Мне нравился испанский, нравилось, что в испанской литературе свое место отведено ослику, и нравилась мысль смотреть испанские фильмы на испанском, узнавать о другом мире на языке, в среде которого эти фильмы рождались.
* * *
В тот день, когда я ждала, Иван на письмо не ответил. Я вновь и вновь проверяла почту, а он всё не писал и не писал. Когда на черном экране появились, наконец, зеленые буквы его имени, я ощутила изумление и испуг: во-первых, я уже успела забыть, что жду от него письма, а во-вторых, в поле «Тема» значилось: Кончай глупить – причем по-турецки.
Дорогая Соня, начиналось сообщение, я наткнулся на этот словарь, когда в библиотеке я «domuzuna calismak» для своей работы по философии. По-турецки domuzuna çalişmak означает «работал твоей свинье». Но так никто и ни при каких обстоятельствах не говорит. Может, он хотел сказать «работал, как свинья», но так тоже не говорят. О свиньях вообще в турецкой культуре говорят не слишком много, да и трудолюбием свинья определенно не славится. Но всё равно, – подумала я, – как чудесно, что Иван решил заглянуть в турецко-английский словарь и даже открыл уникальные горизонты.
Турецкий оказался единственным в мире языком, который не делает существенной разницы между деревенским сортиром и теткой Ивана по отцовской линии, и еще в нем много венгерских слов – «наручники» или «борода»: В сравнении с турецким все западноевропейские языки – просто «garb». Я потом еще несколько недель смеялась в голос, вспоминая эту строчку. Garbi по-турецки значит «западный», от того же корня, что и garip («не такой, как все», «сам по себе», «чужак»). А по-английски garb может означать garble («искажение смысла»), garbage («мусор») или просто «особая, необычная одежда» – и я подумала, что он прав. Все эти западные языки – действительно garb.
* * *
Мне хотелось знать, как всё будет складываться дальше, перелистать страницы вперед, как в книжке. Я даже не знала, что это за история и какая роль отведена в ней мне. Кто из нас воспринимает ее серьезнее? Разве это не должна быть я, поскольку я младше и к тому же девушка? С другой стороны, мне казалось, что я в чем-то легкомысленней, а в Иване есть какая-то тяжеловесная серьезность, которая чужда мне и которую я не принимаю.
* * *
Я выиграла в лотерею четыре фунта орешков кешью. Потом пару дней ела их на обед и на ужин. Каждую ночь я до четырех читала, а в восемь меня поднимал будильник. После утренних занятий я еще немного спала и снова отправлялась на уроки. Мои дни стали обретать зловещие черты дурного сна, они все слились в нечто цельное и непрерывно длящееся, я была дезориентирована, у меня болела голова, и всё же мне не хотелось изменить ситуацию или положить ей конец.
Однажды в четыре часа ночи я вместо сна написала длинное послание Ивану о том, насколько верной мне кажется гипотеза Сепира-Уорфа – хоть хомскианцы и относятся к Уорфу с пренебрежением, называя его «пожарным инспектором».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































