Текст книги "Нежность"
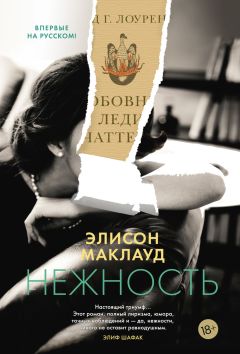
Автор книги: Элисон Маклауд
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
– Это не для меня. – Здесь он раздает советы, а не наоборот.
– Ты не испытываешь соблазна?
– Я счастливо женатый пуританин, живу по указке своей совести, а не на поводу у своих похотей. – А главное, он знал: Фрида этого не потерпит, она скора на ревность.
На той же неделе двое друзей пошли в пеший поход – вверх по склону холма Рэкхэм-Хилл, в Даунс. Первоцветы сияли, дрожа на весеннем ветру и мерцая, как свечи, в послеполуденном унылом ненастье.
Фрида тем временем слегла. Она объявила, надувшись, что подхватила простуду от Джека, но на самом деле была глубоко обижена: муж снова взъярился на нее – чудовищная, пугающая сцена. Он швырнул в стену две тарелки. Фрида в ответ бросила туристический ботинок Джека и случайно попала мужу в голову. Мёрри показалось, что Лоуренс внезапно потерял рассудок, не меньше; обернулся бессвязно бредящим демоном. Вся его внешность, манера держаться странно изменилась.
Гость кинулся – расцепить гневную, рыдающую пару, – но тщетно. Лишь когда пришла Хильда – готовить ужин, – Лоуренс склонил голову и выбежал мимо служанки, в дверь, в ошеломляющий холод ночи.
В том же месяце леди Оттолайн приехала снова, на сей раз с любовником, Бертраном Расселом, философом, сыном графа Рассела. Он очень добрый, решил Лоуренс. Держится с достоинством. Ужасно уродливый. Честное, открытое лицо, пристальный искренний взгляд. Слабый подбородок и необычная форма головы – словно сзади добавили места для дополнительных мозгов. По слухам, умник. Гений математики.
На фотографии, сделанной Мэри, Рассел держит камень – кусок известняка, из тех, что фермеры выворачивают плугами на здешних полях, – и чертит знак бесконечности на двери гаража Моники, где стоит ее машина. Рисунок Рассела плохо различим на фото, но видно, что он занимает собой почти всю дверь.
Моника вышла посмотреть на собравшихся и слабо улыбнулась. Нет, ответила она на просьбу дочери, она не намерена позировать.
Изгнанник – до этого момента сторонний свидетель – виднеется на краю кадра синекдохой самого себя: штанины и ботинки.
Потом, на кухне, Рассел посасывал трубку и кивал, пока Лоуренс варил на плите похлебку. Они непринужденно болтали сквозь облако пара из кастрюли. Изгнанник говорил о концепции «древней конституции» и «уравнителях», о Блейке, его радикальном гимне «Иерусалим» и «стрелах страсти»112, о том, как Блейка вылепила нонконформистская церковь, о толпаддлских мучениках, которых помиловал весьма ясно мыслящий человек, дед самого Рассела, ставший министром внутренних дел страны через два года после того, как толпаддлцам вынесли несоразмерно жестокий приговор. Рассел кивал и вспоминал доброго старика из своего детства. У деда были жесткие усы, и он держал для внука мятные конфеты в старой табакерке.
Изгнанник рассказал, что до сих пор держится за традицию и дух британского радикализма, идеологию свободнорожденных людей, общего права и общинной земли. Это все, что у нас есть, заметил он. Нетипично для себя, он умерял страсть, звучащую в голосе, – возможно, так подействовала тихая серьезность Рассела. Искупление, сказал изгнанник, сначала следует помыслить. Исцеление не родится из ужаса. Сломанная страна может только ломаться дальше и тогда останется вечной добычей ловчил, жадных заводчиков и хищников-политиканов. Лишь словами – честными, сострадательными словами, уважительными беседами – можно начать собирать обломки в целое.
Рассел попробовал похлебку с краю лоуренсовской ложки и кивнул. Он признался, что сам – пацифист. «На войне не бывает победителей, бывают только выжившие». Он подозревает, что за ним следит МИ5, и боится, что Тринити-колледж подвергнет его «отлучению» за пацифистские взгляды. В ту ночь, перед сном, Рассел признался леди Оттолайн: «Мне кажется, беседа с Лоуренсом помогает многое понять».
Джека Мёрри отрядили в гостиную, за длинный стол, развлекать дам. Он сидел, старательно пряча зависть: такие восхищенные похвалы расточала леди Оттолайн отсутствующему Лоуренсу. Ведь он, Джек, между прочим, тоже неплохой писатель! Одновременно он подслушивал кухонный tête-à-tête[30]30
Разговор с глазу на глаз, букв. голова к голове (фр.).
[Закрыть], ревнуя Лоуренса к новой tête[31]31
Голове (фр.).
[Закрыть], Бертрану Расселу. И продолжал мучиться из-за бегства Кэтрин к французскому любовнику.
Пока Джек Мёрри страдал от невнимания леди Оттолайн и Лоуренса, Фрида жаждала внимания Джека – молодого красавчика с глубоко посаженными глазами, правильными чертами лица и поразительно темными волосами, выступающими клинышком на лбу. Придет день, когда Джек всецело устремит свое внимание на Фриду, но в тот вечер он ее игнорировал – насколько допустимо правилами хорошего тона – и вообще, похоже, оживал лишь тогда, когда к нему обращалась Оттолайн.
Фрида надулась. Между прочим, она, Фрида фон Рихтгофен, тоже дворянского рода! Она злилась на Оттолайн, при этом втайне, про себя, лелея жгучую надежду, что гостья, одна из знатнейших дам Англии, поможет ей, сестре по благородной крови, воссоединиться с детьми, с которыми ее жестоко разлучил бывший муж, профессор. Такая несправедливость окончательно уничтожила Фриду, и она принялась рыдать за столом. И еще она завидовала жемчугам гостьи.
Оттолайн, в свою очередь, обещала только сделать что может – написать профессору Уикли письмо в защиту Фриды. Про себя она при этом думала: когда же наконец Рассел оторвется от варки супа и придет ее спасти?
Но ее надежды пошли прахом, когда Фрида захлопала в ладоши:
– Оттолайн, вы, должно быть, считаете меня ужасной хозяйкой – и совершенно справедливо. Вы с Расселом обязаны остаться на ночь! – Оттолайн побелела; Фрида продолжала: – Так вы сможете никуда не торопиться и насладиться ужином, не беспокоясь о том, что вам предстоит долгий путь.
Конечно, следовало соблюсти внешние приличия, иллюзию которых поддерживали все собравшиеся: а именно что Рассел не спит с леди О., поскольку он женат, а она замужем.
– Мёрри, ложитесь с нами, – распорядилась Фрида. – Оттолайн, вы займете ту комнату, где спали в прошлый раз, нашу лучшую, а Рассел – комнату Джека. Джек не будет возражать.
Она взглянула на Джека. Он издал какой-то утробный запинающийся звук.
– У нас с Лоренцо двуспальная кровать, а Лоренцо такой худой, что и места почти не занимает, – успокоила она.
Леди Оттолайн припомнила ледяную бессонницу недавней ночи и мокриц в ванной. И отказалась – «аристократически», то есть без объяснений и извинений. Вопрос был закрыт.
На призрачном фото, сделанном Мэри, Джек Мёрри и изгнанник кладут зеленый линолеум в длинной гостиной бывшего хлева, в потоке утреннего света. Рулон линолеума повалили набок, он больше не пальма. Мужчины переживают высший миг довольства жизнью, душевной близости – и размытости тоже. Мэри все время жалуется, что они не желают замереть перед объективом. У них закатаны рукава. Джек режет линолеум, а изгнанник, стоя на коленях, приколачивает куски на место. Рука высоко поднята, за ухом торчит карандаш.
Слова, которыми, судя по всему, Джон Миддлтон Мёрри в основном и запомнился человечеству, еще не написаны. Сейчас, когда он раскатывает рулон, та критическая статья еще немыслима – как и взрывная, подрывная книга, которой она посвящена, как и драма в зале суда, где словами Мёрри воспользуются для атаки на последний роман его бывшего друга. К моменту этой отвратительной сцены оба будут уже мертвы, но их слова продолжат сражение.
Сейчас, в Грейтэме, до того дня осталось сорок пять лет, но реальность пориста. Время просачивается насквозь. У Мэри в видоискателе Джек строит злодейское лицо, полосуя линолеум. Словно он – сам Джек-потрошитель. А рядом Лоуренс прячет смех в аккуратный треугольник бороды, и глаза его сияют.
Вдвоем они приколотили на место новый пол за одно победоносное утро. Назавтра Мёрри отбыл, едва рассвело, даже не попрощавшись ни с кем. Чем вызвано такое внезапное бегство?
Поезд Кэтрин Мэнсфилд прибывает на вокзал Виктория в восемь утра, и брошенный любовник твердо намерен ждать на перроне, чтобы смягчить ее сердце.
Изгнанник был безутешен. Джек уехал, уехал. Помчался обратно к Кэтрин, как побитый пес.
Поутру в дверь постучали. Изгнанник вскочил: Джек передумал! Но нет, то была всего лишь Мэри. Она сказала, что должна упражняться в чистописании, чтобы подготовиться к урокам Лоуренса, которые начнутся «скоро». Нет, сказал он, не скоро, только в мае. Но она переступила порог, проплыла мимо, высоко неся темноволосую голову. Потом подняла взгляд на изгнанника, сторожко вглядываясь в его лицо, и налила себе чашку их утреннего чаю.
Правду сказать, несмотря на всю мрачность, одолевшую Лоуренса, он был рад приходу девочки. Должно быть, Моника, мать, отправила ее в хлев, чтобы выкроить себе час-другой покоя: по утрам Моника всегда оживала очень медленно.
Он уселся вместе с девочкой за длинный обеденный стол и задал ей урок, выписывать строчку: «Джек Мёрри нехороший мальчик, потому что не остался у нас надолго. Джек Мёрри нехороший мальчик, потому что не остался у нас надолго»113. Он диктовал это предложение снова и снова. Мэри исписала страницу и начала другую. Лоуренс уже сбился со счета, а Мэри испачкала ребро ладони чернилами.
Диктовку наконец прервала Хильда. Лоуренс открыл дверь. Взгляд служанки испуганно метался, она что-то сжимала в руке за спиной. Оказалось – телеграмму. Только что доставленную в Уинборн и адресованную миссис Лоуренс.
Фрида прочитала и рухнула у стола. Мэри сбежала. Лоуренс стоял над женой, прижимая ее голову к своему животу.
Отец Фриды, барон, опасно заболел. Врачи говорят, что он не проживет и месяца.
– Вы должны к нему ехать, мадам.
– Я должна, Лоренцо, – сказала Фрида.
– Конечно, должна.
Иногда у них все еще получалось забывать, на миг, что идет война, что границы закрыты и что Фрида никак не может поехать к родным – во всяком случае, если хочет потом вернуться в Англию. Никто еще не успел осознать новую реальность. Мир вывернулся наизнанку.
Нехарактерно для Фриды, она так пала духом, что не стала рыдать, проклинать войну или оплакивать рок, забросивший ее в края, где ее вольный дух заточен в провинциальном Грейтэме. Она лишь укрылась в спальне на весь день и весь вечер, даже отказалась выйти к ужину. Наконец изгнанник крикнул ей, что приготовил «пастуший пирог».
– Из баранины? – тихо спросила она, тупо глядя перед собой, когда Лоуренс принес ей ужин на подносе прямо в спальню. – Это нам не по карману.
– Не беспокойся, – ответил он. – Не из баранины. Из пастуха. Я сам пошел на охоту и добыл его.
Улыбка оказалась сильнее губ Фриды.
Он сел на кровать рядом с женой и стал кормить ее маленькими кусочками с вилки.
Назавтра Фрида немного пришла в себя, но теперь уже он свалился с гриппом или простудой, которую – как не преминула напомнить Фрида – им принес Джек Мёрри, «друг до первого дождя».
Фрида выклянчила у Моники Артура с машиной и поехала в Чичестер, чтобы купить два хороших платья – дневное и вечернее – для траура. Изгнанник представил себе, какие счета придут по почте, и у него поднялась температура. Фрида обещала взять ему что-нибудь в чичестерском отделении сетевой аптеки «Бутс».
– Жалко, что от тебя у них нет лекарств, – рявкнул он.
Фрида совершенно не поняла, что он имел в виду:
– О, я уже выздоровела, милый Лоренцо. Вот съезжу за покупками, и мне станет совсем славно.
Он полусидел на кровати в гостевой комнате, подпертый подушками, во фланелевой рубахе, застегнутой до горла, унылый и одинокий. Слабый и озлобленный из-за гриппа, он не хотел никому показываться в таком виде. Он прогнал даже Уилфрида Мейнелла, своего благодетеля и хозяина Грейтэма. Согласился принять только, ради нового романа, Виолу, свою добровольную секретаршу, и ее подругу, начинающую поэтессу Элинор Фарджон.
Элинор обладала живым характером и любила пешие походы по горам. Она сразу понравилась Лоуренсу. Некрасивая, с густыми широкими бровями, в толстых очках. Когда она говорила, у нее появлялся двойной подбородок, хотя она была худая, еще молодая и не отяжелевшая лицом. Лоуренс боялся, что она из тех прелестно оживленных девушек, у которых в будущем лишь безответная любовь, из самых сильных, а потом, в конце концов, стародевичество. Он решил, что это неправильно, ведь у нее чудесная улыбка, от которой он сел на постели, забыв про свою болезнь. Как несправедлив бывает мир к женщинам.
Надо, чтобы на ней женился Кролик Гарнетт. Это все устроит. Он сам так и скажет Кролику. Она слишком замечательная, чтобы позволить жизни просто так ее сожрать.
Элинор любезно согласилась помочь Виоле перепечатать остаток рукописи. Виола постаралась умолчать о том, что сама страдает от перенапряжения глаз.
Элинор, как и ее брат Герберт Фарджон – лондонский драматург, шапочно знакомый Лоуренсу, – входили в кружок друзей, центром которого были братья Бэкс. У изгнанника сложилось впечатление, что шайка Бэксов превыше всего ставит оперу, русский балет и крикет. Дэвид – Кролик – принадлежал к тому же кружку, и Элинор хорошо отозвалась о нем. Она сказала, что была очень рада, когда через Виолу познакомилась хоть с несколькими литераторами своего возраста.
Пациент отставил чашку с овалтином[32]32
Овалтин (тж. овомалтин) – швейцарский молочный напиток с солодовым экстрактом и какао, выпускающийся с 1904 г.
[Закрыть]:
– Не катались ли вы на канадских санях в Даунсе, недалеко отсюда, с месяц назад?
Элинор непонимающе взглянула на него и рассмеялась такому странному вопросу. Лоуренс смотрел с необычной настойчивостью.
– Да, признаюсь, каталась.
– С Дэвидом? – Его глаза обжигали синевой.
– С Кроликом. Да, он был с нами.
Откуда такой интерес к обыденному катанию?
– И? – спросил он.
– Что «и»?
– Кто еще с вами был?
– А, поняла! Дайте подумать… Мейтленд Рэдфорд – да, он тоже был с нами. Понимаете, нам всем стало как-то тесно в четырех стенах – после рождественских праздников и со всеми этими военными новостями, они каждый день, и такие мрачные.
– Наверняка ты скоро познакомишься с Мейтлендом, когда он… – подключилась к разговору Виола.
Лоуренс устремил взгляд на Элинор:
– Вы про того Мейтленда, который спас малютку Сильвию, когда она повредила ногу?
– Да. – Элинор помолчала. – То было позапрошлым летом.
– Мэделайн говорила… – пробормотал он.
И соврал. Не говорила. Хильда сказала про несчастный случай, но лишь мельком. Лоуренс понял: здесь есть какое-то обстоятельство, о котором все знают, но никто не говорит вслух. Что же это?
Удивительно, что ни единая душа не упомянула главу семейства, Перси Лукаса. Любопытно. Почему он, отец ребенка, не взял дело в свои руки? Как выразилась Хильда, «время шло, и Мэделайн все больше тревожилась». Почему только Мэделайн? А Лукас? Очень странно. Хильда сказала, что приезжал врач из Сторрингтона толстенький сельский врач, неунывающий и добродушный. М-да, воспаление налицо. М-да, не исключено, что начинается заражение крови, – нет, не наверное. Но не исключено. Так прошли две недели…114
И тут явился этот самый Мейтленд, очевидно посланный Божьим провидением, – явился совершенно случайно, вместе с Элинор, осмотрел больную и сразу посерьезнел.
Есть опасность, что девочка останется хромой на всю жизнь. Страх, негодование вспыхнули в каждом сердце…115
Мейтленд, приятель Элинор, а отнюдь не Перси спас положение.
Сидя в ногах у изгнанника, Элинор вспоминала тот мрачный случай:
– Мейтленд как раз должен был получить диплом врача. Мы отправились в пеший поход по Сассексу и заглянули в Уинборн, навестить всех здешних. И конечно, дальше не пошли. По требованию матери Мейтленд осмотрел девочку и тут же заметил то, что проглядел сельский врач двумя днями раньше. Он сразу бросился звонить старшему консультанту, хирургу, в Лондон, и Сильвию помчали туда на особом автомобиле. У меня до сих пор звенят в ушах ее отчаянные крики. – Про отца по-прежнему ни слова, подумал Лоуренс; Элинор продолжала: – Я никогда не забуду ее личика в тот день, и лица Мэделайн тоже. Она была как громом поражена. Мы боялись…
– Это было ужасно, – перебила Виола. – Но все хорошо, что хорошо…
– Кто еще катался с вами на санях в тот день? – прервал ее Лоуренс.
Элинор с Виолой переглянулись.
– Боже мой! Я и не помню.
У него явно лихорадка, и он вцепился в эту тему, как собака в кость. Больному надо потакать.
– Коллега Мейтленда, доктор Годвин Бэйнс. Да, Годвин был с нами.
– И?
– И миссис Бэйнс тоже. Вообще-то, я к ним еду на сле…
– Вы с ней знакомы?
– С Роз? Конечно, хотя и не близко. Она дружит с Кроликом, и с братьями Бэкс тоже. И она, и ее муж. Розалинда Бэйнс, урожденная Торникрофт. Я с ней немножко общаюсь. Она очень милая. Мой брат Герберт недавно женился на ее сестре Джоан, она тоже очаровательная. Мейтленд ходил в школу вместе с Джоан и братом Роз. Вообще он мой близкий друг, даже друг нашей семьи. Понимаете, мы все друг друга давно знаем так или иначе. Мейтленд и Годвин Бэйнс – партнеры, вместе только что открыли медицинскую практику в Уисбеке. А почему вы спрашиваете?
Холмы Сассекса…
– Я в тот день помахал… вам всем, то есть… С Рэкхэм-Хилла.
…там была ее Англия…
– А, теперь вижу! Точнее, ничего не вижу. – Она указала на свои очки со стеклами толстыми, как донышки бутылок. – В них невозможно кататься на санках. Так вы с Бэйнсами, значит, знакомы?
Розовое пламя в лучах зимнего солнца.
– Нет, кажется, нет.
Он точно знал, что нет.
Он закашлялся и попросил Виолу поправить ему подушки. Потом указал на вторую половину рукописи, лежащую на узком столике, и позволил глазам закрыться.
Теперь он обрел ее имя. Странная форма обладания. Розалинда. Роз. Роза, розовое пламя. Конечно, ее могут звать только так. Сами боги сотворили ее, пламя, зимнюю розу, из снегов Сассекса.
В последующие дни и недели, в тисках болезни, его сознание будет приоткрываться и захлопываться, приоткрываться и захлопываться, как заслонка ящичка-фотоаппарата Мэри. Изгнанник пролежит в постели до марта, подкошенный болезнью и чувством всеобъемлющей катастрофы, дополнительно омраченной сознанием, что Розалинда Торникрофт Бэйнс – лишь мимолетное виденье; замужняя женщина, к которой у него нет ни права, ни возможности приблизиться. Он никогда ее не узнает – ту единственную, что очаровала его. В древнем смысле этого слова. Она не просто очаровательна; она зачаровала его, наложила на него чары в тот день, дотянувшись с соседнего холма.
Когда наконец вернулась Фрида с покупками – дорогими траурными нарядами, – он отрезал: «Больше никаких гостей». Но сделал одну предельно четкую оговорку: если в «Колонии» появится Персиваль Лукас – по любой причине, в любое время суток, – его, Лоуренса, следует поднять с одра.
vi
Через две недели изгнанник встал на ноги – не то чтобы поправился, но ему не лежалось на месте, – вышел из хлева спозаранку через газоны «Колонии», мимо розовых кустов Элис, по тропе притоптанной клочковатой травы в сторону далекой гряды, поросшей соснами. Никто не знал, куда он держит путь. Никто не видел, как он ушел.
Над ним сомкнулись ветви елей – будто стемнело средь бела дня. На ходу он отлеплял от стволов бледные капли смолы и жевал их, как старый лесовик. Он обошел сторонкой внезапный бочаг, присел на корточки, чтобы подглядеть за тремя черными косулями, скачущими в подлеске. И наконец прибыл в негустую рощу дубов, пологом прикрывающих низинку, где стоял Рэкхэм-коттедж – мрачный, первобытный, вросший в землю.
Удивительно, как стойко держится местами в Англии первобытный дух – например, здесь, у подножия холмов Южного Даунса. Душа земли, хранящая первозданность, как в тедалекие времена, когда сюда явились саксы116.
Дом стоял примерно в миле от Уинборна – прочный, бревенчатый, с покатой крышей-капюшоном и тяжелой дубовой дверью. Он был как отдельная приземистая сказка, посаженная в лощине, себе на уме, с каменным безразличием, приобретенным за три века. Изгнанник оглядел округу. Соседей тут не было, за исключением оленей на общинной земле, щебечущего ручья и – вдалеке – птиц Даунса.
Под ногами путника свилась и расплелась гадюка, словно бичом щелкнули. Он чувствовал, что вторгается в чужие владения, но продолжал, не колеблясь, осматривать мечту чужую мечту о саде: широкий гладкий газон и несколько клумб, уже изрытых кроличьими норами. Папоротник, дрок и вереск успели вторгнуться с общинной земли. Гость неохотно признал: чудо, что Перси Лукасу удалось вообще хоть что-то вырастить на этом трудном участке, не говоря уже – возделать такой сад.
Еще изгнанник обнаружил деревянную лохань, щеточку для ногтей и лейку – вероятно, здесь муж-садовник приводил себя в порядок после трудов праведных. Под навесом притулился старый стул с дугообразной спинкой, у которого не хватало одной ноги. Рядом валялось несколько отсыревших поленьев. Вдобавок Перси оборудовал костровую яму, посадил яблоню и разбил солидного размера огород с натянутой сеткой от птиц. Рэкхэм-коттедж был маленьким уголком рая.
Фрагменты чего-то, еще не ставшего рассказом, шевелились в голове у нарушителя границы. Здесь, на земле, прирученной незнакомым человеком, Лоуренс чувствовал, что творит Персиваля Лукаса, как фокусник – кролика из шляпы, сплетая выводы и догадки, и наконец сам крепче всего поверил в плоды собственного воображения. Нельзя сказать, что он бездельничал. Он не бездельничал. Он постоянно что-то делал в Крокхэме, постоянно возился с чем-нибудь, занимался разной мелкой работой117. Достаточно увидеть клочковатый пустырь общинной земли, чтобы понять, до какой степени, должно быть, Перси гордился сотворенной идиллией. Но какой работой, боже ты мой, какими мелочами: то это садовая дорожка, то роскошные цветы, то стулья, которые нуждаются в починке, – старые, сломанные стулья!118
Сад был пиршеством для глаз, не поспоришь, но куда еще девать силы и время мужчине тридцати пяти лет, если его, его жену и детей, няньку и гувернантку содержит тесть? И как на самом деле милая Мэделайн относилась к человеку, с которым связала себя на всю жизнь?
Ее лежащая на поверхности претензия к мужу состояла в том, что он не работает и не содержит семью; имея годовой доход сто пятьдесят фунтов, он не пытается заниматься вообще ничем – день прошел, и ладно. Не то чтобы она обвиняла его в праздности, нет. Он постоянно работает в саду, и благодаря этому они живут в окружении красоты; но… И это все? У них трое детей; она сердито сказала мужу, что больше рожать не собирается. И так уже ее отец платит за няню детей и помогает семье на каждом шагу119.
Отрывки. Проблески. Еще не рассказ.
Он знал, что говорить об этом нельзя никому, даже Фриде, которой часто была приятна его злоба по отношению к другим. Но он точно знал, как относится к Персивалю Лукасу. Беда в том, что он ничего не представлял собою120. Лукас, ни к чему не пригодный человек, пошел на бесцельную войну, и изгнанник, стоявший сейчас на его земле, презирал его за это.
Ненависть порой бывает сплавом любви, темной материей пылающих душ. Ее жар способен сжечь предмет любви, но опаляет и любящего, источник любви, столь же беспощадно. Возможно, изгнанник, нарушитель границ, также и любил Персиваля Лукаса, как, бывает, любят соперника. Возможно, он полюбил непринужденность, которая бросалась в глаза на снимке, сделанном Мэри: муж-отец, длинноногий, светловолосый, от природы элегантный во фланелевом костюме для крикета. Человек, принадлежащий Англии, их Англии, в твердом сознании, что иным ему не бывать вовеки.
Изгнанник отдал бы что угодно за такой лоск, гладкость, непринужденность отпрыска древнего рода. Но зачем убиваться? Он знал: не бывает великого искусства без трещинок, неровностей и нелепостей. Где нет странности, там не ткутся чары. Перси никогда не создаст великую музыку, великую прозу, великий танец, он лишь будет заносить все это в амбарные книги и складывать в сундуки на хранение. Виола сказала, что Перси занимался «генеалогией английской народной песни» и при каждой возможности записывал старые местные напевы. Лоуренс, новый житель «Колонии», не скрыл, что его такое занятие слегка забавляет. Даже Виола подавила улыбку.
Окна жилища Лукасов подмигивали в пятнах солнечного света, и нарушитель границ прижался лицом к тонкому оплывшему стеклу. Внутри стояла мебель в чехлах от пыли, похожая на привидения. Хмурились матицы и притолоки. Он налег спиной на дверь, но она не поддалась. Рэкхэм («Крокхэм») – коттедж хранил свои тайны.
Изгнанник уселся у кострища на старый пень меж двух мрачных вязов. Отсюда шла недоделанная каменная дорожка, замшелая и запущенная. Она была размечена воткнутыми в запекшуюся глину палочками до самого ручья. Как ни прямолинеен был Перси, прямой тропы у него не вышло: прежде чем делать разметку, следовало выкопать корни огромной поваленной сосны. А он дал кругаля, чтобы избежать настоящей работы.
На тропе валялась брошенная скакалка, и изгнанник будто наяву снова услышал песенку, что пели за игрой девочки Лукас. Он, пока лежал больной, все время прислушивался к тому, как они играют возле Уинборна. У них были нежные голоски.
Милая кукушечка
Летает и поет,
Правду говорит она,
Никогда не лжет121.
Ни розы, ни одинокую яблоню давно не обрезáли. Розы вымахали плетями, и теперь им нужна была шпалера. Яблоня зацветала, но чахла, ей явно не по себе. Рыжие белки осыпали его бранью с ветвей. Он глядел в вышину, изучая маленькие пальчики с коготочками и идеальные параболы прыжков с ветки на ветку.
Ниже, в тенях, цвели бледные крокусы, а дальше, в зарослях, пробивались из тощей серой почвы водосборы. Он встал и дошел до ручья, чтобы посмотреть, какого ремонта требует мост – еще одна кое-как сделанная постройка Перси и головная боль для Мэделайн. После зимних снегов и дождей подгнившие доски едва сдерживали напор земли в поднятых над землей грядах, грозя обвалом. Оставалось только надеяться, что танцор из Перси вышел лучше плотника. Мост тоже гнил. Страхи Мэделайн за безопасность детей совершенно оправданны. Кажется, один несчастный случай – с Сильвией – должен был преподать отцу урок раз и навсегда.
Он ли научил своих дочек песенке, которую они пели в тот день, когда изгнанник метался в жару?
Усыхает корень,
Облетит листва.
Боже, как я болен,
Жив едва-едва122.
Изгнанник твердо решил: как только закончит цветочный бордюр у хлева – для Виолы, – сразу примется за мечту сад в Рэкхэм-коттедже. Выкопает корни, разметит и проложит прямую дорожку, укрепит берега ручья, починит мостик, расчистит поросли, обновит грядки и вообще подберет и подотрет за недоделанным воякой.
Конечно, он был дилетант – дилетант до мозга костей. Он трудился так много и так мало успевал, и, что бы он ни сработал, все оказывалось недолговечным. Когда, например, нужно было разбить сад на террасы, он укреплял их двумя длинными узкими досками, которые под напором земли быстро проседали, и немного требовалось лет, чтобы они, прогнив насквозь, развалились и земля опять осыпалась вниз и кучами сползла к ручью. Но что поделаешь?123
Тогда Мэделайн сможет сдать коттедж внаем и уже не будет беспокоиться, что он стоит пустой. А ему, Лоуренсу, работа пойдет на пользу: в эти дни общество растений ему куда милее общества людей. И еще, отрабатывая свой долг Мейнеллам, он облегчает самому себе бремя их доброты. К тому же физический труд будет наслаждением после многих месяцев за письменным столом.
Исследуя владения Персиваля Лукаса, изгнанник чувствовал, как неумолимо сплетается его судьба с судьбой хозяина дома – подобно зарослям плюща и колючих прутьев малины под ногами. Все это время рассказ – его грейтэмский рассказ – разрастался и сплетался у него внутри.
Сон был все еще сильней яви. Во сне он работал на том берегу ручейка в нижней части сада, прокладывая садовую тропу дальше, к общинной земле. Он срезал слой жесткого дерна и папоротника, обнажив суховатую серую почву. Он был недоволен – дорожка получалась кривая. Он вбил вешки и задал направление – посередине между большими соснами, но отчего-то все выходило неладно124.
Да, в раю у Перси все было неладно.
Кривая тропа.
Чахлая яблоня.
Змея в траве.
Коллекция сделанных Мэри снимков – всяческих гостей и затей 1915 года – все росла и росла. Изгнанник понял: Мэри все потакают с фотографией, потому что в остальном не уделяют внимания вообще. Никто не хотел усугубить страдания Моники, надоедая ей требованиями цивилизовать и обучать девочку. И все же теперь клан Мейнеллов дружно выдохнул: мистер Лоуренс подготовит ее к вступительным экзаменам в лондонскую школу Святого Павла. Возможно, все еще образуется.
У самой Мэри в планах на эту весну было сшить альбом-кинеограф из своих фотографий – наподобие того, со скачущей лошадью, которым ее наградили на ярмарке в Арунделе за лучшую езду на пони. После фотоаппарата «Брауни» кинеограф должен был стать ее самым большим сокровищем.
Она старательно помечала дату каждого снимка карандашом на обороте.
Шелестят страницы…
6 марта. У Мэри в кадре три головы. Необычная композиция. Окно, освещенное солнцем. Писатель Форд Мэдокс Форд, суфражистка Вайолет Хант и миссис Г. Дж. Уэллс вглядываются снаружи в гостиную Хлев-Холла. Седалища торчат, словно репы в ряд на грядке. Ноги топчут только что разбитую Лоуренсом цветочную клумбу.
Женщины в светлых платьях до щиколоток. У Вайолет Хант, любовницы Форда, высоко нагроможденная прическа темных (крашеных) волос, накрученная в прерафаэлитском стиле ее молодости, хотя она уже немолода. Миссис Уэллс, примерно тех же лет – пятидесяти с чем-то, – смотрит не в окно, а на свои хорошенькие кожаные туфельки, тонущие в грязи.
Форду сорок с небольшим. Зад у него шире, чем у спутниц. На фотографии он прижал ладони к окну по сторонам лица, чтобы лучше видеть сквозь стекло. Мэри неведомо для себя создала снимок, смотрящий в корень: поймала этих людей на шпионстве. Ирония не укроется от Лоуренса, когда он вернется после визита в Кембридж.
Фрида с ним не поехала. Она дома – точнее, неподалеку, пошла в соседний коттедж проведать Монику. Гости заявляют, что случайно проезжали мимо и решили заглянуть на огонек.
«Случайно проезжать» мимо Грейтэма невозможно. Чтобы найти «Колонию» среди сплетений лесных троп и проселочных дорог, нужны решимость и умение ориентироваться на местности, а этих людей ни Лоуренс, ни Фрида не приглашали.
Фрида едва сдержалась, чтобы чего-нибудь не ляпнуть. Она прекрасно знает, что Форд явился под маской друга, дабы шпионить за ней и Лоренцо. Он обещал своему приятелю и начальнику, Чарльзу Мастерману из Веллингтон-Хауса, последние новости о предполагаемых прогерманских симпатиях четы Лоуренс – предположение, родившееся изначально лишь в мозгу самого Форда.
Форд в долгу у Мастермана, министра пропаганды и своего партнера по гольфу. Мастерман вмешался в последний момент, когда шеф полиции Западного Сассекса хотел изгнать Форда, предположительно пронемецки настроенного, из его дома на побережье у Селси. Именно тогда Форд Хюффер в одночасье стал Фордом Мэдоксом Фордом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































