Текст книги "Нежность"
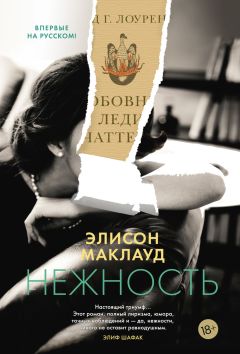
Автор книги: Элисон Маклауд
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Неблагонадежный элемент
i
Читатели – тоже хранители тайн: листают беззаконные страницы, делают опасные выводы. Сердце бьется чаще. Что-то взрывчатое тикает между строк. Подглядывающий резко втягивает воздух: беззвучная вспышка узнавания. Все это время его или ее лицо бесстрастно, даже непримечательно, потому что читатель, как любой другой неблагонадежный элемент, ведет тщательно замаскированную двойную жизнь.
Она уже собиралась уходить, когда вспомнила. Ночью ей снилась Констанция Чаттерли.
На двенадцатом этаже «Маргери», в пустой семейной квартире, она снова осмотрела себя в зеркале, принадлежащем свекрови. Новый, достойно выглядящий наряд: платье-рубашка из шелка-сырца кораллового цвета, до колен. Она скользнула в жакет такого же цвета, еще раз попыталась защелкнуть сумочку и натянула белые перчатки длиной три четверти.
– Святые угодники, неужто вам не страшно ехать одной? – спросила миссис Клайд, экономка-шотландка, работающая в семье уже многие годы.
– Ничуточки.
Прежде чем покинуть дом на Ирвинг-авеню, она попыталась сочинить легенду, чтобы побудить миссис К. уложить вдобавок ко всему остальному плащ-дождевик, простую шерстяную юбку, блузку и удобные для ходьбы туфли. Тогда ей осталось бы только проскользнуть в ресторан Шрафта на Западной Тринадцатой улице, рядом с Центральным парком, и незаметно переодеться в дамской комнате.
Но поездка планировалась всего на сутки, и как объяснить необходимость дорожной одежды и плаща в городе? В семье никто никогда не укладывал вещи самостоятельно. На этот счет существовали протоколы, восходившие еще к тем временам, когда они ездили все вместе, сопровождая отца – сотрудника посольства. И еще она обещала и миссис Клайд, и мужу никуда не ходить в одиночку. Она должна запомнить, что больше не анонимна, сказал он тогда, вонзая зубы в поджаренный хлеб с сардинками, а миссис Клайд смотрела сверху вниз, улыбаясь.
Она тогда чуть не ответила, что никогда и не была анонимной. Никто не анонимен, только кажется таким со стороны. Но она знала, что сердита – злится, что выбор собственной одежды не совсем в ее власти, – и, конечно, понимала, что имеет в виду муж.
Когда она была девочкой, распорядительницы-хостессы в ресторане Шрафта носили длинные одеяния и словно плыли, а не шагали вверх по закручивающейся лестнице ресторана, мимо фресок в стиле ар-нуво – женщин, оплетающих волосами рог изобилия. В отрочестве ее первым взрослым приобретением стал ланч у Шрафта – назавтра после выпуска из Фармингтона, в июне сорок седьмого, по возвращении в Нью-Йорк.
У нее были деньги на карте, подарок отца. Она заказала филе камбалы в креольском соусе, а на десерт – «Плавучий остров» из заварного крема. Возможность выбрать из меню была роскошью, поесть в одиночку – тоже. В Фармингтонской школе ни за что не подали бы такой десерт – разве что девочкам, сидящим за столом для худых. За столом для толстых сервировали полную противоположность – пареный чернослив или еще что-нибудь столь же неаппетитное, а остальным разрешали пудинг из тапиоки, имбирную коврижку с яблочным соусом или черничный коблер. Здоровая еда для подвижных растущих девочек.
Тогда в ресторане она изучала элегантных женщин всех возрастов, без спутников, в хорошо сшитых костюмах и шляпах – обычная обеденная клиентура «Шрафта». Кое-кто из них читал, отправляя в рот курицу в соусе бешамель. Другие сверялись с адресными книжками и что-то записывали белыми перламутровыми ручками. Третьи мечтали, глядя на улицу сквозь блестящее зеркальное стекло, или занимали угловой столик и курили, хладнокровные, как шпионки. Еще они иногда встречались глазами с мужчинами, которые шли мимо, распахнув плащ навстречу июньскому теплу или залихватски перекинув через плечо снятый пиджак.
В сорок седьмом война, конечно, была еще свежа в коллективной памяти, и тех, кто пережил ее в расцвете лет, тогда можно было узнать по особому выражению лица: трудноопределимое понимание, ненаигранный, непринужденный лоск, умудренная небрежность. Знойный, циничный взгляд на новую жизнь в стране, царстве официальной послевоенной бодрости.
Еще эти лица – черный блеск зрачков, манера бросить взгляд искоса и помедлить – наводили на мысль, что их владельцы не боятся риска или даже пристрастились к нему. Конечно, многие из них пришли с войны, из каких-нибудь ее особо неприятных уголков, лишь для того, чтобы сесть на мель нового социального порядка, воцарившегося на рубеже пятидесятых. Теперь все обязаны были «играть в домик» и, более того, получать от этого удовольствие. Разглядывая хорошо одетых посетителей «Шрафта» из-под прикрытия «Плавучего острова», девочка чувствовала, что наблюдает за тайным, организованным движением сопротивления.
Теперь, всего двенадцатью годами позже, этот тип женщин почти исчез, и она не могла не чувствовать, что родилась слишком поздно. Она, конечно, любила маленькие житейские удобства, да и кто их не любит, но знала: она прекрасно вписалась бы в Париж военного времени, где продукты и уголь были по карточкам, зато открывались неограниченные, захватывающие возможности быть и действовать.
В фармингтонском выпускном альбоме сорок седьмого Джеки написала, что ее главное стремление в жизни – «не быть домохозяйкой». А сейчас Джек уже нацелился на Белый дом и уже неофициально подыскивал людей в избирательный штаб. Если на следующий год он объявит о своих намерениях и если победит, она станет первой леди (или первой домохозяйкой, как она про себя окрестила эту должность) Америки. Она ненавидела этот титул. Он звучал как «призовая кобыла». Когда-то она собиралась стать журналисткой и писать материалы для журнала «Нью-Йоркер». А теперь сама стала материалом для прессы.
Два года назад Пэт Никсон – она как жена вице-президента носила титул второй леди (ужасно, хуже не придумаешь) – получила звание «Идеальная домохозяйка Америки». В 1953 году она завоевала еще и титул «Мать года». Рассказывали, что ей в самом деле нравится гладить рубашки и костюмы мужа – тихими вечерами, дома. Она, Джеки, никогда в жизни не сможет конкурировать с такой женщиной. И никогда в жизни не захочет.
В тот день у Шрафта ей принесли счет вместе с миниатюрным серебряным ковшиком лимонного шербета и мятной зубочисткой на белой фарфоровой тарелке. Счет потянул на 95 центов. Она едва наскребла денег на чаевые.
Кровать в «Маргери» была необъятной. Ночью Джеки дрейфовала в ней, как в Мертвом море. Одиночество было и непринужденным, и чуждым.
Джек находился где-то в Западной Виргинии, проездом через Бостон, а оттуда собирался лететь во Флориду. Официально они сейчас пытались зачать еще одного ребенка, но Джек занимался избирательной кампанией, а она, Джеки, по правде сказать, боялась. За шесть лет их брака она беременела три раза. До Кэролайн она потеряла двоих детей. Сначала у нее был выкидыш. Потом – Арабелла.
Когда летом 1956 года у нее началось кровотечение во сне, боль была непомерной, как стихия. Словно все тело выворачивало наизнанку. Оглушенная и ослепленная болью, она цеплялась за край кровати, как жертва кораблекрушения – за киль перевернутой лодки. Джек был в Европе, и она знала, что в ту ночь, если бы не настойчивость ее сводной сестры, истекла бы кровью.
Позже, когда ее скоблили, она пыталась сказать врачам, что анестезия не подействовала, но сквозь маску никто не слышал.
Потом, на пепелище, на развалинах, она хлопала глазами, пытаясь снова собрать мир воедино. Ей это не удалось – во всяком случае, не удалось вернуть ему прежний вид. Отныне он мог быть лишь корявым, неуклюжим. Но теперь она чувствовала: подлинно любит жизнь лишь тот, кто любит ее, невзирая на, и даже за, уродство.
Джек тоже боялся в самой глубине души, как ни хотел еще одного ребенка. В тягости она была неприкосновенна. Плод в утробе священен. На протяжении всех трех ее беременностей белье супружеской постели сохраняло первозданную чистоту и гладкость.
Нельзя сказать, чтобы дело было только в ней. Отнюдь. С тех пор как они поженились, Джеку уже дважды делали операцию на позвоночнике. Каждый раз врачи объясняли, что риск очень высок. И Джеки, и ее свекор с жаром указывали на пример президента Франклина Делано Рузвельта, который руководил страной из инвалидного кресла, но Джек о том и слышать не хотел. Даже когда боли были чудовищны, он почти не пользовался костылями, что уж говорить об инвалидной коляске.
До его операций она никогда не молилась по-настоящему. Даже с подозрением относилась к молитве, особенно когда к ней примешивался личный интерес. Но вдруг начала молиться. Она молилась с адским жаром. Она потеряла разборчивость. Она молила Творца за Джека. Оставшись одна в церкви Святого Франциска Ксаверия в Хайаннисе, она опускалась на колени. И низко склоняла голову, потому что склонить голову – смиряясь перед жизнью и ее непостижимыми тайнами – было в конечном итоге единственно возможной молитвой, речью тела во всей его бессловесной человечной уязвимости.
После первой операции Джек подцепил инфекцию и впал в кому. Врачи пророчили ему смерть. Но он не умер. Не таковский. Он выжил. Скоро он уже сидел в постели, читая газеты и шпионские романы, с новой серебряной пластиной в спине. Он ухмыльнулся Джеки и сказал, что это усилит его персональный магнетизм.
Магнетизм действительно усилился, по той или иной причине. В промежутке между операциями Джек разъезжал по стране, и публика его обожала.
Его было легко обожать.
Джеки уже знала, что безопасность – лишь иллюзия. Отец, азартный игрок, говорил: ничто не мотает человека по ветру так, как надежда. Но Джек твердо решил построить свою избирательную кампанию именно на ней. На надежде, а не страхе. Даже если это в итоге будет стоить ему жизни.
В августе пятьдесят шестого, когда умерла их нерожденная дочь, он был в отпуске – ходил на яхте с кучкой разнообразных друзей в Средиземном море у острова Эльба. Джеки в глубине души не верила, что он вылетел домой первым же самолетом. Никто не верил. Желание иметь детей и страх перед бездетностью сидели в нем очень глубоко. Он боялся взглянуть в лицо фактам. Еще он опасался, что виноват сам, и боялся взглянуть в лицо этому страху. Семейный врач когда-то в разговоре с ним и Джо-старшим высказал предположение, что венерическая болезнь, перенесенная когда-то Джеком, могла повлиять на матку Джеки, на ее способность к зачатию. Джека эти слова вывели из себя, но Джо и слышать не хотел: «Чепуха. Девица слишком хрупкая, почитай стеклянная. В том и беда».
Правду о подозреваемой инфекции Джеки открыла Этель, золовка. Вроде бы из жалости к невестке, которая была совершенно убита горем, поскольку подвела Джека и всю семью Кеннеди, ведь у бездетного мужчины очень мало шансов попасть в Белый дом и все такое. Будешь так убиваться, только себе повредишь, сказала Этель. Джеки об этом даже не думала, пока Этель не сказала. Но она хотела как лучше, потому что сама на месте Джеки чувствовала бы себя именно так. Бобби и Этель уже настрогали четверых и ожидали пятого. Этель заявила, что никак не может перестать беременеть, и шутливо запыхтела, изображая предельную усталость и будто желая сказать, что Джеки и половины всего не знает.
Джеки, конечно, не знала всего, но отлично знала про Арабеллу.
Восьмимесячная, само совершенство, и неподвижная, как нераскрывшийся белый бутон.
Она выбрала имя сказочной принцессы для ребенка, которого не смогла удержать.
После выписки из больницы она поняла, что не сможет вернуться в их новый дом, «Хикори-Хилл», где ждет молчаливая, пустая, заново отремонтированная детская. И Джек продал дом брату, Бобби, по себестоимости, а сами они сняли жилье в Джорджтауне, пригороде Вашингтона. Трехэтажный красный кирпичный таунхаус. Потом – с помощью Джо-старшего – Джек купил дом на Ирвинг-авеню рядом с «Большим домом» – имением на мысу Кейп-Код, где выросли все дети Кеннеди. Вскоре Джек начал планировать избирательную кампанию пятьдесят восьмого года, чтобы переизбраться в сенат. «Уже?» – спросила тогда она. Он почти не бывал дома. Бывал так редко, и время вдвоем было для них так драгоценно – что еще им было делать, как не «играть в домик»?
На Кейп-Коде под конец того лета, после Арабеллы, Джеки начала выходить гулять на прилежащий к имению кусок пляжа, и ветер с пролива хлопал калиткой ее сердца. Лязг, лязг. Ветер стал для нее чем-то вроде спутника – дикого, необузданного. Он свистел в ушах и не давал думать. Он говорил: есть только этот миг, здесь, сейчас.
Тяга приливов и отливов успокаивала. Дюны были крепостными стенами, укрывающими от мира. В теплом сентябре она плавала ночами в околоплодной темноте пролива. Миссис Клайд и свекровь Джеки не одобрили бы, но Этель и Бобби как раз родили пятого ребенка, девочку, и вся семья радовалась. Клан Кеннеди отвлекся на новорожденную. Для Джеки это было как нежданное помилование. Остров Нантакет подмигивал ей издали.
Она запретила себе рассказывать Джеку, что мысленно окрестила девочку Арабеллой. Ему ни разу не пришло в голову, что дочери нужно имя. На могильном камне написали просто «Дочь». Бобби организовал похороны по просьбе Джека, пока тот возвращался домой через Францию.
Не позволяй себе сдаваться печали.
И все же она пала духом – так сильно, что сама от себя не ожидала. Просто удивительно, как человеческое тело может изображать жизнь к удовлетворению всех окружающих, но не владельца тела.
По настоянию сестры, Ли, в ту осень Джеки поехала в Лондон – навестить сестру и ее мужа Майкла в элегантном новом доме на Честер-сквер. Лондон помогал развлечься – блистательные приемы, модный свет. Но Джеки было не по себе везде, кроме развалин – мрачного щебеночного пейзажа, – потому что ее душа тоже лежала в руинах.
Город почти не изменился с пятьдесят третьего года, когда Джеки писала репортажи о коронации в «Геральд трибьюн» – ее первое настоящее задание как журналиста. Три года спустя в Лондоне все еще виднелись развалины там, где бомбы и ракеты грубо пробудили его. Джеки ловила себя на том, что удивленно моргает, глядя на пустырь – бывший элегантный ряд или полукруг георгианских домов. Из некогда величественных фундаментов пробивались молодые деревца. Там и сям неожиданно вздымались внутренние стены, деля дневной свет на куски, и погреба зияли на улицу темными пропастями.
Город был покрыт копотью, оспинами от осколков, населен призраками. Триумфальные арки и монументы обросли странным угольно-черным мехом. Из Темзы пропала всякая живность. В воронке от бомбы прямо на Стрэнде после двух ночей сильного дождя внезапно обнаружился троллейбус: он провел больше десятка лет под слоем земли и грязи. Джеки пошла посмотреть на троллейбус, смутно думая о том, что в пятьдесят третьем сама часто ездила этим маршрутом. Оказавшись на месте, она увидела, как констебль уносит покрытую коркой глины дамскую сумочку.
Она стояла и смотрела, словно побродяжка – которой, в сущности, и была. Или зевака, из тех, что приходят на место убийства или крушения поглазеть. Возможно, это помогло ей почувствовать благодарность за то, что она жива. Возможно, это помогло ей почувствовать.
Лондонцы спешили на работу, одетые в серое, темно-синее или коричневое – другой одежды тут почти не продавали. Джеки показалось, что они в большинстве своем плохо питаются, худы, внутренне сжаты, как прищепка для белья. Неудивительно, что ее гламурная младшая сестра кружила головы. Ли ко времени приезда Джеки уже завела несколько романов – того или иного рода – со всякими знаменитостями.
Когда-то Джеки сурово осудила бы сестру. Но теперь дала волю воображению… Мадам Бовари, мадам Рекамье, Анна Каренина, леди Чаттерли. Что, если внебрачная связь – не обязательно обман? Что, если сожительствовать иногда значит жить настолько честно, насколько вообще возможно в мире, заставляющем мужчин быть много большим, а женщин – много меньшим, чем на самом деле? Ничуть не бесчестней большинства браков, которые, общеизвестно, представляют собой сделку – вынашиваешь мужчине детей, а взамен получаешь респектабельный дом и уверенность в завтрашнем дне.
После трех лет супружеской жизни она не смогла выносить ребенка для клана Кеннеди, а Джек почти не бывал дома. Дом – то, что внутри тебя, а не кирпичные стены, и ее дом был разрушен. Особняк на Ирвинг-авеню теперь служил ей пристанищем, не более того. Ни для кого не было секретом, что у них с Джеком разлад.
Лондонский свет, заметив ее явное одиночество, начал приглашать ее на охотничьи выезды в сассекские имения. Ли не очень обрадовалась, но одолжила сестре нужное: охотничье кепи, твидовый жакет, белую рубашку и бриджи для верховой езды. Еще чья-то жена подыскала охотничьи сапоги на ее большую ногу, а также шпоры, перчатки и хлыст.
Когда Джеки предоставили выбор, она присоединилась к той части охотников, которой не нужно было прыгать через препятствия. Она ездила с ними легким галопом по сжатым полям и позолоченным осенью лесам и при любой возможности сбегала, чтобы побыть одной.
Она – дубрава, темная и густая, и на каждой ветке бесшумно лопаются тысячи и тысячи почек63. Сассекское утро было туманным. Полог леса, золотой в начале октября, к концу месяца выцвел в сепию. Джеки скучала – она сама не ожидала, что может так скучать – по осенним краскам Новой Англии, палитре пунцовых, желтых и малиновых оттенков, – но тусклое сассекское золото подходило под ее настроение. Ветви обнимали пустоту. От древнего леса исходила старая-престарая грусть, и душа ее умирялась как никогда…64 Из-под копыт лошади летели обрывки папоротника, сухие листья, каштаны, шляпки грибов. Ветерок приносил запах капитуляции, умирающего лета, даже если день был обманчиво теплый. Кролики с белыми задками спешно ретировались, заслышав ее приближение. Белки следили с веток глазами-бусинками. Только в лесу обретала она и приют, и уединение65. Здесь она дома. Лес был для нее домом. Здесь можно жить. Никто за тобой не следит. Твои мысли принадлежат только тебе.
Когда в поле зрения поднялись холмы низин, зелень встряхнула ее. В этом пейзаже была радость. В нем можно раствориться: холмы были камерными по масштабу. Вздымались неожиданно гладкие бока. Бедра нежно вжимались друг в друга. Ранним утром вершины холмов часто парили над слоем тумана – это выглядело странно, будто они оторвались от подножий и дрейфуют по воздуху.
Тишину утра нарушал только заливистый лай и повизгивание охотничьих собак – английских фоксхаундов, свора не меньше чем в полсотни голов. Однако охота – ритуальное сочетание цивилизованной утонченности и животной жестокости, самоконтроля и кровожадности – завораживала Джеки. Ей казалось, что она глубоко понимает охоту, хотя в быту ее круга, зажиточных семей американского восточного побережья, ничего сравнимого не было.
У псарни один из псарей, «выжлятник», объяснил ей, заезжей американке, какие стати положено иметь хорошей охотничьей собаке: сильная мускулистая линия вдоль хребта, сказал он, удерживая собаку неподвижно, и «прямая корма». Джеки так поняла, что под кормой имелся в виду хвост.
Подходящая голова у охотничьей собаки, продолжал он, не слишком широкая и не слишком узкая. Выпуклая грудь, чтобы легкие были хорошего размера, и мощный мотор – сердце. Нос даже важнее глаз, потому что гончую ведет нюх, пока она не загонит добычу в угол или на дерево.
Она спросила разрешения Конни боялась собак66 погладить пса, но он с такой силой врезался мордой ей в пах, что она зашаталась и отступила. Она густо покраснела, но псарь расхохотался и сказал что-то про запах – она не разобрала и совершенно иррационально возненавидела псаря за этот смех, фамильярность, вторжение в ее границы. Он был хорош собой, держался уверенно, залихватски вздернув подбородок, и, может быть, думал, что это дает ему какие-то права – притом, что она здесь одна, без спутника. Она бы на него пожаловалась, но подумала, что это его только позабавит. А следовало бы. Чтобы поставить его на место. Но этого ей как раз не хотелось. По совести. Она и так ненавидела Англию за все эти «места», по которым насильственно расставляли людей; за подобострастие; за бесконечные неявные иерархии; за натянутые улыбки и лелеемые в душе обиды. Однако останься она в Европе надолго, здешние повадки вошли бы в нее, стали ее частью, и, если бы она затем вернулась в Америку, родная страна, сравнительно незрелая, более расслабленная, непринужденная, непринужденно богатая, в ее глазах вечно проигрывала бы.
Они с Джеком общались ровно в таком объеме, чтобы его семья ничего не заметила. Официально Джеки «отдыхала» у сестры («после неудачных родов»). Джек «много работал». Их телефонные разговоры через океан Джек заполнял политикой. Французы и англичане высадили больше тысячи десантников вдоль Суэцкого канала. Президент был зол на Энтони Идена: «Айк» предупреждал британцев, чтобы не лезли, но они, типично для британцев, решили, что лучше знают. Джеки никак не могла заставить себя этим интересоваться.
Через несколько недель слухи о разводе – который никем не обсуждался – достигли редакции «Тайм». Джо-старший – не Джек – передал через Ли: Джеки должна определиться.
Она вернулась в Порт-Хайаннис в середине ноября, успев к моменту, когда клан Кеннеди фотографировался на рождественскую открытку 1956 года. Она изменилась внутренне, если не внешне. Она несла в себе ощущение другой себя – той, кем могла бы быть: возможно – во Франции, возможно – в Англии. Мельком увиденные иные истины. Она лишь сейчас поняла, что, может быть, именно поэтому много лет назад не приняла предложенную работу своей мечты в журнале «Вог» в Париже, не пошла собеседоваться на место в парижском отделении ЦРУ. Выбери она эту дорогу, могла бы никогда не вернуться домой.
Однако это означало, что она – в собственных глазах – утратила цельность. В «стеклянной» личности появились трещины. Та женщина, что когда-то раздавала ценные советы и служила привлекательным примером другим молодым женам, теперь стала ей чужда. Ее юмор сделался острее, умнее, непредсказуемее. Сама она теперь была одновременно менее робкой и более замкнутой. Легче переносила одиночество. Она бесконечно читала, пока муж разъезжал по стране. Она с большим разбором прислушивалась к мнению людей из «мира Кеннеди». Самодостаточность очень успокаивает. Еще Джеки научилась понимать магию тел, магию присутствия, а вместе с ней – всю силу молчания, в том числе своего собственного.
Тем временем она принимала все больше и больше закулисного участия в избирательной кампании Джека.
– Ничто из этого для меня не имеет значения, вообще никакого, если ты не со мной, – тихо сказал он однажды ночью. Она лежала спиной к нему, но он почувствовал, что она не спит.
Она молчала и не ответила. Они пришли к согласию. Он знал точно. И он, и она. Она не хочет и не станет мешать его шансам. Но если партия не выдвинет его кандидатом, он и Джеки официально разъедутся.
Но как бы то ни было, пока предвыборная кампания набирала ход, Джеки помогла мужу осознать: в политической сфере ему надо стремиться не к популярности, но к умению зримо сочувствовать людям, будь то битком набитый зал районной школы или одинокий фермер, которому пожимаешь руку. Джек репетировал речи, она советовала ему, как и когда жестикулировать. Она подыскивала подходящие цитаты и звучные афоризмы для выступлений. Джек никогда ни с кем не общался свысока. У него и в мыслях такого не было – и она знала, что это его величайший природный дар, которого ни Джо-старший, ни избирательный штаб не видят и не ценят.
Она уже давно освоила искусство жить. Надо стараться, чтобы тобою были довольны. В школе – учителя. В колледже – преподаватели. Теперь она вела себя так, чтобы довольны были журналы и пресс-служба Кеннеди. В юности она постоянно ходила с книгой на голове, вырабатывая осанку. Теперь она сама стала книгой, и все невысказанное, что хранилось в ней между строк, мешало спокойно спать по ночам.
Она себя не обманывала. Она знала: да, Джек – бабник, и это плохо, но все равно, когда рядом незнакомый голый человек, что ни говори, наверняка по временам это придает невиданную полноту жизни. Она становится немыслимо огромной, как невозможно в круговерти дней и лет марафонского забега брака. То, что эти встречи преходящи, не обязательно обнуляет переживание, ощущение, которое они дарят, как ни ненавистна эта мысль ей, Джеки. Она даже не пыталась себя убедить, что такие встречи имеют целью исключительно физические ощущения или быструю разрядку. Просто «обществу» нужно в это верить. Все хотят дружно согласиться, что подобные контакты не имеют никакого значения. И тогда их можно будет не то чтобы разрешить, но закрыть на них глаза.
Верно ли, что все женатые мужчины изменяют женам? Она практически не сомневалась, что большинство – да. Но чувствовала, что обман заключается в словах «Это ничего не значит» – пожалуй, не меньший, чем в самом акте.
Любовь, связи, всякие там увлечения – чтоб как мороженое: лизнул раз-другой – и все! С глаз долой – из сердца вон. А раз из сердца вон, значит все это ерунда. Половая жизнь в особенности. Ерунда!67
Неприятная правда заключалась вот в чем: интрижке, связи не обязательно быть глубоко личной, чтобы оставить след в душе. Джеки догадывалась: и безличная встреча может быть глубоко интимной. Кто не мечтает вспыхнуть внезапно – и претвориться? Кто не боится потерять связь с животворной струей жизни? Ее муж ничем не отличался от других. Жены, женщины тоже хотели бы полной жизни, ощущаемой полной жизни, но цена для них, для нее обычно была слишком высока. Даже хорошо обеспеченные женщины из числа ее знакомых нуждались в суммах, выделяемых мужьями на одежду и «на булавки». К тому же, если уж на то пошло, она хотела претворяться с Джеком, своим харизматичным, обожаемым мужем, а не с кем-нибудь еще. Но как она со временем поняла, юные боги не способны – возможно, по своей природе не способны – испускать единичный луч любви.
Униженная, она часто ярилась про себя. Но, не в силах простить мужа – да и с какой стати? – она его понимала. Лучше, чем ей самой хотелось бы. Джек был глубоким, сложным человеком. Верующим, пусть и не в смысле воцерковленности, не так, как Бобби. Она знала: Джеку надобна душа в ее первозданнейшей, голой, неприкрашенной форме, самородок жизненной силы, выброс, прехождение телесной границы. Пройдя на волосок от смерти – сначала на войне, на торпедном катере, потом дважды на операционном столе, – он нуждался в том, чтобы снова и снова испытывать самую жизнь, взрыв жизни.
Пик телесного удовольствия – это одно; эссенция жизни во взгляде незнакомой женщины – как полагала Джеки – абсолютно другое. Все прочее на свете, даже ранящие миги на грани смерти, у Джека растворялось в пике наслаждения, как у других людей бывает в первой взаимной любви, в рождении ребенка, в предсмертной исповеди.
Конечно, и сама Джеки тоже. Она тоже растворялась. Ее тело, ее личность, их брак. В такие моменты она полностью исчезала из его мыслей. Да и как иначе, если он сейчас весь – восклицательный знак Жизни, вектор жизненной силы, выстреливает всем телом, как ружье? Она бы и хотела быть романтичной, но жизнь навязала ей реализм. Даже прагматизм, омозолелый по краям.
Рана была глубока. Но все равно Джеки отказывалась притворяться, даже наедине с собой, что не понимает. Отказывалась себе лгать. И еще не дала себе стать из-за этого мученицей, как некоторые женщины. Она подлинно понимала, как может измениться человек, прошедший по краю смерти, подобно Джеку. Она сама ощутила это темное течение, тянущее вглубь, когда выжила, а ее крохотная дочь – нет.
Тот же черный прилив скоро набежал снова и утянул ее любимого, беспутного отца – в августе пятьдесят седьмого. Джеки всего на несколько минут опоздала с ним попрощаться.
И с тех пор прошло уже почти два года.
Ход времени головокружителен.
Потом, за месяц до Рождества того же года, родилась Кэролайн, их собственное маленькое чудо. Джек был на седьмом небе от счастья. Они оба были. Наконец-то они стали настоящей семьей.
В декабре того же года он попал на обложку «Тайм» – благодаря тому, что Джо-старший «пожертвовал» журналу семьдесят пять тысяч долларов. За рождественским столом Джек попросил ее изобразить Кастро, Никсона и королеву Елизавету. Этот дар Джеки отточила в школе, когда по просьбе одноклассниц имитировала учителей – все для того, чтобы искупить слишком легко завоеванное положение учительской любимицы. Джек хохотал до слез.
Не прошло и года, он снова с головой ушел в дела. Он бурлил энергией и при этом был спокоен. Когда он приходил домой – если приходил, – от него пахло духами L’Heure Bleue. Ими душилась его секретарша, Сандра.
Стиль этой молодой женщины всегда нравился Джеки.
Он нравился Джеки, потому что это был ее собственный стиль.
В доме на Ирвинг-авеню ей опять казалось, что их разделяет целый Нантакетский пролив. Это преждевременная старость, думала она. Когда ты больше не женщина. Когда тебя не касаются. Ей было двадцать девять. Они и шести лет не прожили вместе.
– Еще, еще, еще! – кричала вчера Кэролайн, когда Джеки опускала ее в прибой, так что ножки в красных ботиночках касались воды.
Мать и дочь набивали карманы ракушками нежных оранжевых и желтых тонов. Ручонки Кэролайн хватали, хлопали по телу матери повсюду – руки, ноги, бедра, лицо. Прикосновения маленькой дочери заземляли и утешали Джеки, но лишь обостряли телесный голод.
«Я люблю тя, – сказал Меллорс Констанции. – Так сладко быть с тобой, сладко тя касаться». Этого довольно. Джеки понимала, отчего леди Чаттерли готова была бросить всю свою «жизнь» – свой брак, титул, положение в обществе, даже страну, – чтобы обрести жизнь. Быть не только любимой, но возлюбленной. Для этого не нужен Рагби-Холл. Для этого не нужен Белый дом.
Иногда при виде бесконечных фото ей казалось, что она смотрит на чью-то чужую жизнь. И чем подробнее запечатленную, тем менее реальную.
После этого беглого визита в Нью-Йорк и возвращения на Кейп-Код будут новые фотографии – на этот раз для «Ньюсуик». Джеку предстояло появиться на июньской обложке. Джеки выбрала для него костюм. Может, он позволит брызнуть ему на волосы капельку лака, чтобы начесать.
Что до Джеки, в подобных случаях она умела, когда нужно, притянуть взгляд объектива и правильно преподнести себя. Она знала, как расположить руки – чтобы спрятать пальцы, ногти на которых часто были обкусаны до мяса: старая дурная привычка, от которой Джеки так и не удалось избавиться, как ни мазала их учительница рисования в Фармингтоне чем-то желтым, мерзким на вкус. Джеки умела вызвать нечто из внутренних глубин, подчиняясь требованиям внешнего: взгляду фотографа. Когда тебя берут, отдавать надо умеючи.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































