Читать книгу "Богема: великолепные изгои"
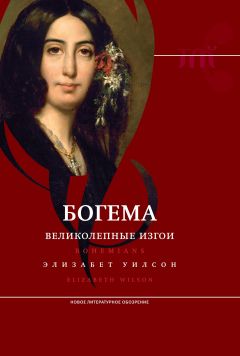
Автор книги: Элизабет Уилсон
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Рок-певица Патти Смит буквально влюбилась в Рембо, увидев его фотографию, и считала его провидцем и пророком, который намеренно старался внести смятение в свои чувства, чтобы вызывать видения и грезить наяву[150]150
Morrisroe P. Mapplethorpe: A Biography. London: Macmillan, 1995. P. 50.
[Закрыть]. Личность Рембо не давала покоя и панковской субкультуре. Журналистка Кэролайн Кун в своей статье о роке сравнила Джонни Роттена с молодым Рембо: «задумчивый, злой, красивый», – а участник группы New York Dolls сказал в одном из интервью: «Рембо писал о чудовищности города и о том, что он делает с людьми… именно про это многие мои песни»[151]151
Savage J. England’s Dreaming: Sex Pistols and Punk Rock. London: Faber and Faber, 1991. Pp. 58, 176.
[Закрыть].
Миф о Рембо строится на отказе от поэзии, принесшей ему известность, и от богемного образа жизни, с которым его с тех пор ассоциируют. Здесь существуют две точки зрения. Можно рассматривать его отроческие годы и его стихи как процесс взросления; зрелый Рембо, торговец и путешественник, покончил с ребяческими выходками – как заставляют предположить и его собственные лаконичные замечания. Это более утешительная трактовка его жизни, подтверждающая устойчивое представление о том, что юношеское бунтарство – естественная, но проходящая стадия, за которой следует зрелость, процесс остепенения (версия мифа, развиваемая Мюрже). Но можно также предположить, что бегство от поэзии, равно как и от абсента, «расстройства чувств» и безумия, было частью процесса саморазрушения – или попытки изменить себя.
Радикальная версия богемного мифа, та, что повествует о неисправимом мятежнике и вечном изгнаннике, более привлекательна по той причине, что она отрицает зрелость, нормальность и обустроенность. Рембо так и не остепенился; он сменял одну форму отрицания на другую, и каждая из них могла доставить больше трудностей, чем предшествующая. Его жизнь в Абиссинии была сурова и горька – и он часто жаловался на это, – но так он осуществлял свое желание убежать от самого себя, достигнув, по выражению Николла, «той предельной невозможной свободы, которая состоит в том, чтобы потерять себя и стать кем-то другим… в этом смысле годы в Африке можно назвать его шедевром»[152]152
Nicholl Ch. Somebody Else. Pp. 12–13.
[Закрыть].
История Рембо – это миф о богеме в его наиболее ярком проявлении. Он содержит все необходимые элементы, из которых складывается противоречивая фигура, нарциссический объект желания. Рембо – богемный художник, отвергший богему, гений, отказавшийся от искусства ради деятельной жизни, скандально известный приверженец запретной любви, игнорирующий негодование, прекрасный юноша, разрушивший собственный миф, бывалый путешественник, создавший альтернативный миф; богемный художник – и легионер, торговец оружием, работорговец. Именно радикальное отречение придает остроту этому мифу.
Прошло лишь несколько лет, и Огастес Джон продемонстрировал, как выглядит английская версия богемного художника. Он не приводил свои чувства в смятение, как Рембо, не нищенствовал в мансарде, как герои Мюрже (он был преуспевающим живописцем), не был загадочен и порочен, как Байрон. Он был преувеличенно нормален. Это был богемный художник с жаждой жизни, с огромным запасом сил и с большими амбициями.
Каким бы человеком он ни был на самом деле, Огастес Джон своей внешностью и поступками производил впечатление героического гения, каким его рисовало народное воображение. Его легко было узнать по мягкой шляпе с опущенными широкими полями, плащу, бороде и золотой серьге в ухе. Нина Хэмнетт вспоминала, как впервые увидела его в 1909 году: «Как-то я была на Кингс-роуд в Челси, и кто-то сказал: „Вот идет Огастес Джон!“… Я увидела высокого человека с рыжеватой бородой, в бархатном плаще и коричневых брюках, который шагал по улице; выглядел он великолепно, и я последовала за ним… на почтительном расстоянии»[153]153
Hamnett N. Laughing Torso. London: Virago, 1984 (первое издание – 1932). Pp. 25–26.
[Закрыть]. Дороти Бретт, еще одна ученица Школы изящных искусств Феликса Слейда, описывает его схожим образом (она также видела его на Кингс-роуд): «Высокий, бородатый, красивый, с густыми волосами, в большой черной шляпе из мягкого фетра, слегка сдвинутой на затылок», – а сэр Чарльз Уилер вспоминал, что он был «высоким, широкоплечим, держался прямо, носил просторный твидовый костюм и яркое кашне на прямой шее, у него были обаятельные черты… борода рыжая, а глаза похожи на бычьи». Уилер делал одно важное добавление к образу Джона – тот «несомненно, сознавал, что на нем сосредоточены взгляды всего Челси». Синтия Асквит, как и другие, полагала, что он «величествен, словно сошел со страниц Ветхого Завета, – мягкая, ухоженная борода, ровно постриженные волосы открывают уши, благородные, величавые черты. На нем было что-то вроде рабочего халата, запачканного краской, застегивающегося у горла и довершающего его блистательную живописную наружность»[154]154
Holroyd M. Augustus John: A Biography. Harmondsworth: Penguin, 1976. Pp. 538, 548 (цитируется письмо Дороти Бретт автору от 7 августа 1968 года); Wheeler Ch. High Relief. P. 31; Asquith C. Diaries (запись, сделанная во вторник 9 октября 1917 года).
[Закрыть]. Само то, что очевидцы подробно описывали внешний вид художника, говорит о том, что это был продуманный образ и игра на публику. Частью его образа был глубокий интерес к быту и культуре цыган. В 1909 году вместе с семьей он отправился в длительную поездку в фургоне. Они остановились в Гранчестере, на окраине Кембриджа, и о них немедленно заговорил весь город. Мейнард Кейнс рассказывал: «Джон разбил здесь лагерь и жил в окружении двух жен и десяти детей, резвящихся нагишом… Все только и говорят, что о Джоне… По словам Ричарда [Брука], большую часть времени он проводит в публичных домах Кембриджа, и на улице он ввязался в пьяную драку, в которой ударил противника в лицо». Слухи о путешествующих распространились так далеко, что семьи из Кембриджского университета специально ездили поглазеть на Дорелию, спутницу художника, и его гуляющих по полю детей[155]155
Holroyd M. Augustus John. P. 364.
[Закрыть]. (Однако, когда они добрались до Нориджа, Огастес внезапно оставил жену и детей на произвол судьбы и на поезде отправился в Ливерпуль.)
Образ Огастеса Джона строился на отрицании условностей и беспечности в любви, так что у него было множество любовниц, он беззаботно заводил детей и довольно жестоко с ними обращался. Но столь же важным компонентом его мифа было предательство великого таланта; он стал заложником своего образа художника и гения, и игра на публику вскоре помешала творческому процессу. Его биограф, Майкл Холройд, видит в нем пример английской эксцентричности, свидетельствующий и об упадке нации в целом, и о неспособности самого Джона полностью осознать свое творческое призвание. Однако неудача такого рода составляла часть богемного мифа, которому Джон так усердно старался следовать; он лишь придал ему английскую окраску, но это было, по сути, международное явление.
С течением времени Джон все больше пил и все сильнее погружался в круговорот лондонской светской жизни. Во время Первой мировой войны он курсировал между «Кафе Рояль», клубом «Дикая яблоня» (который он основал), различными заведениями в Сохо, такими как «Кафе Верри», и «Белой башней» на Перси-стрит, рестораном, который он и Нина Хэмнетт обнаружили и превратили в модное у богемы место. В 1920‐е годы он вел беспокойную жизнь знаменитого портретиста и был героем золотой молодежи, не пропускавшим ни одной модной вечеринки[156]156
Ibid., в разных местах.
[Закрыть]. Однако чем больше становились его популярность и слава, тем больше он отдалялся от самого себя, – типичный для богемы провал посреди преуспевания.
Другую сторону этого противоречия иллюстрирует пример Оскара Уайльда. Он заявлял, что в жизнь вложил свой гений, а в творчество – лишь свой талант, и потому, вероятно, не стоит удивляться, что катастрофа постигла именно жизнь, а не творчество. Как и Огастес Джон, он творил собственную легенду, и ее затем укрепляли другие – к примеру, Жорж дю Морье высмеивал его в карикатурах в журнале Punch, а Гилберт и Салливан вывели его в своей оперетте «Пейшенс». Его миф был следствием негласного договора между героем, популяризаторами и публикой; но, если легенда о Джоне, в которой естественные для мужчины пристрастия к алкоголю и женщинам были попросту усилены, могла по-прежнему доставлять публике удовольствие, то Уайльд в своем неподчинении условностям зашел слишком далеко. Уайльда, как и Джона, от континентальной богемы отличала одна специфически английская черта: дружба с эксцентричной аристократией и высшими кругами общества (Уайльд, к примеру, близко дружил с любовницей Эдварда VII Лилли Лэнгтри). Но, хотя он вращался в высшем обществе и унылые мансарды, описанные Мюрже, не были ему знакомы, он все же соприкасался с главными героями Маркса, нередко снимая занимающихся проституцией мужчин из рабочего класса. Он не остановился на роли проповедника богемной наигранности и вычурности и вместе с лордом Альфредом Дугласом погрузился в водоворот невоздержанности и бесчинств. Он бравировал своими связями с уличными юношами и в конце концов исчерпал терпение общества, которое, хотя и желало казаться искушенным, относилось к искусству с недоверием и не допускало даже мысли о сексуальных отношениях между мужчинами. По дороге в тюрьму ему пришлось стоять на станционной платформе, так что все могли наблюдать его унижение; прохожие плевали в него, и происходящее почти напоминало старый ритуал, когда обвиненного в гомосексуализме мужчину приковывали к позорному столбу на площади. Его пьесы запретили, его сыновья были вынуждены жить под псевдонимами, а перепуганные родители наказывали молодых людей за одно упоминание его имени. Однако такой итог был красивой концовкой богемного мифа.
В период между 1890 и 1914 годами на Монмартре и Монпарнасе вместе сосуществовали различные богемные слои: «апаши»[157]157
Это слово происходит от названия воинственного индейского племени.
[Закрыть] Монмартра, как называли тех, кто принадлежал к преступному миру; серьезные студенты-искусствоведы; наконец, богемные завсегдатаи кафе. Амедео Модильяни, принадлежавший к самой богемной богеме этого периода, происходил из семьи образованных еврейских торговцев и родился в Ливорно, но жил в Париже в крайней нищете. Если многие богемные художники сами создавали свой миф, то легенда о «Моди – безумном гении» создавалась, повидимому, в основном его окружением. Его жизнь была по-настоящему трагичной: его картины не покупались, а кроме того, он так и не получил признания, которого жаждал. Его собратья-художники, в том числе Огастес Джон и Нина Хэмнетт, покупали у него картины за несколько су. Выставка Модильяни, организованная в годы Первой мировой войны Леопольдом Зборовски, другом и дилером художника, была закрыта полицией, которая сочла непристойным изображение обнаженных женщин с волосами на лобке. Он очень много пил, сочетая алкоголь с гашишем, и у него было несколько неистовых любовных связей, в том числе с эксцентричной Беатрис Гастингс. Его последняя подруга, Жанна Эбютерн, покончила с собой после его смерти. Однако сразу же после похорон началось нечто вроде триумфального шествия, его картины были объявлены шедеврами и вскоре принесли их владельцам тысячи долларов, франков и фунтов.
Это была драматичная история, и другие представители богемы вскоре начали ее эксплуатировать. Дуглас Голдринг, сам в ту пору живший на Монпарнасе, первым написал воспоминания, которые положили начало мифу о Модильяни, а Беатрис Гастингс дополнила их желчными воспоминаниями об их любовной связи[158]158
См.: Rose J. Modigliani: The Pure Bohemian. London: Constable, 1990.
[Закрыть]. Илья Эренбург, советский писатель, до Первой мировой войны живший в изгнании в Париже, оспаривал распространенное представление «о голодном, беспутном, вечно пьяном художнике, о последнем представителе богемы», однако, как и все, кто знал «Моди», в своей автобиографии подтвердил, что художник ему соответствовал. Колоритного «Моди» часто упоминали в мемуарах. В 1950‐е годы легенду о Модильяни подхватили молодые экзистенциалисты и битники; ее распространению способствовал роман «Неистовая жизнь Модильяни» Андре Сальмона, основанный на биографии художника[159]159
Salmon A. La Vie Passioneée de Modigliani. Paris: Intercontinentale du Livre, 1957.
[Закрыть], а в 1962 году вышел посвященный ему фильм «Монпарнас, 19» с Жераром Филипом, секс-символом французского кинематографа 1950‐х годов, в главной роли. Эренбургу этот фильм тоже казался вульгарной карикатурой:
«Разве постановщик фильма мог спокойно посидеть на каменной ступеньке и задуматься над петлями чужой для него дороги?.. ‹…› Герой фильма и романов – это Модильяни в минуту отчаяния, безумия. Но ведь Модильяни не только пил в „Ротонде“, не только рисовал на бумаге, залитой кофе, он проводил дни, месяцы, годы перед мольбертом, писал маслом ню и портреты»[160]160
Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. М.: Советский писатель, 1990. С. 166, 168.
[Закрыть].
Морис Утрилло, друг и собутыльник Модильяни, тоже подвергся мифологизации. Франсис Карко недовольно отмечал, что «поклонников Утрилло больше интересовала легенда о нем, чем собственная притворная любовь к его картинам»[161]161
Carco F. From Montmartre to the Latin Quarter: The Last Bohemia / Transl. M. Boyd. London: Grant Richards and Humphrey Toulmin, 1929.
[Закрыть]. Однако успешная литературная карьера самого Карко состоялась во многом именно потому, что в своих многочисленных романах и воспоминаниях он создал романтический, ностальгический образ богемы. Карко писал, что Париж времен Модильяни был прибежищем последних представителей богемы, но богема по-прежнему процветала и в 1950‐е годы, хотя у богемных художников и появилось много новых имен: экзистенциалисты, битники, контркультура, – а традиционная богема передала эстафетную палочку обреченного гения героям и героиням новых молодежных культур. Марианна Фейтфулл подражала Уильяму Берроузу так же, как Патти Смит в своем поведении ориентировалась на Рембо. Беспорядочная и часто нетрадиционная сексуальность была характерной чертой контркультурной среды; в фильме Николаса Роуга «Представление» с Миком Джаггером, Анитой Палленберг и Джеймсом Фоксом в главных ролях изображено взаимное притяжение рок-культуры и криминального Лондона 1960‐х годов – как и в сериях фотографий Дэвида Бейли «Коробка с фотографиями кумиров» (A Box of Pinups) и «Прощай, малыш, и аминь» (Bye Bye Baby and Amen), где он поместил снимки музыкантов, манекенщиц и художников рядом с фотографией близнецов Крэй, самых известных британских гангстеров того времени.
Творчество новой богемы было частью массовой культуры: они работали в сфере популярной музыки, фотографии, моды. Многие богемные художники старого поколения не согласились бы с мыслью, что такой мимолетный и, вероятно, незначительный вклад в культуру можно поставить в один ряд с гениальными произведениями. Однако Гаварни, художник, которому, по мнению Бодлера, удалось лучше прочих передать ритм толпы XIX века, когда-то иллюстрировал модные журналы; Мюрже писал книги для широкой аудитории. На самом деле многие представители богемы пользовались успехом у массовой аудитории, и вне зависимости от того, продолжали ли они, как Огастес Джон, играть роль богемного художника или, подобно Пикассо, предпочитали, по крайней мере в некоторых отношениях, образ жизни состоятельного буржуа, они расшатывали прямую связь гения с трагедией и саморазрушением. Тем не менее эта ассоциация получила дальнейшее развитие в мифе о рок-звезде 1990‐х годов, когда трагедия депрессии, сексуальных отклонений и пристрастия к наркотикам и самоубийства нашла воплощение в судьбах Курта Кобейна и Майкла Хатченса, в этой богеме для масс, поколении, которым завершилась история богемы.
Лучшей иллюстрацией того, как богемный художник превратился из героя, защищающего высокое искусство и страдающего от него, в одного из самых влиятельных участников массовой культуры, служит жизнь Энди Уорхола. Уорхол возвел известность в культ и так преуспел в этом, что сам стал мировой знаменитостью. В последние десять лет своей жизни он входил в свиту Рональда и Нэнси Рейганов и поддерживал дружеские отношения с обитателями Манхэттена и голливудскими звездами, однако в молодости он был таким же представителем богемы, как те, кого мы уже упоминали. Из жившего в Питтсбурге иммигранта неясного происхождения он превратился в преуспевающего художника. Его презирали за это и еще за то, что он был «женоподобным гомиком»: в творческой среде Нью-Йорка 1950‐х годов эталоном художника считался страдающий алкоголизмом и постоянно волочившийся за женщинами Джексон Поллок. В этой среде оказался Уорхол, когда начал иллюстрировать модные журналы и оформлять витрины. Он завязал дружбу с Чарльзом Генри Фордом, у которого когда-то был недолгий роман с Джуной Барнс; Форд на протяжении всей жизни был партнером художника Павла Челищева, которому покровительствовала Эдит Ситуэлл. Эта дружба связывала Уорхола с богемой старого образца:
«Я бы отправился куда угодно, услышав, что там происходит что-то творчески интересное… и мы с Чарльзом Генри начали вместе ходить на некоторые андеграундные кинопоказы. Он привел меня на вечеринку, которую устроили в своей квартире в Бруклин-Хайтс Мари Менкен и ее муж Уиллард Маас, авторы андеграундных фильмов и поэзии… Уиллард и Мари были последними значимыми представителями богемы. Они писали, снимали кино, пили»[162]162
Warhol A., Hackett P. Popism: The Warhol Sixties. London: Pimlico, 1996. P. 40.
[Закрыть].
К 1963 году «Фабрика» Уорхола превратилась в центр притяжения определенного общества. Ассистент Уорхола Джерри Маланга начал знакомить его с колоритными обитателями кафе «Сан-Ремо», и вскоре один из его завсегдатаев, Билли Нейм, работавший осветителем в танцевальных клубах Гринвич-Виллидж, перебрался на «Фабрику». Этот клуб был открыт для всех и каждого, здесь проститутки и звезды дрэга встречались с нью-йоркской творческой средой, люди улиц – с новичками клубной жизни и гарвардскими хипстерами. Декаданс здесь стал стилем жизни, а вуайеризм – формой искусства; искусство и жизнь сливались в одно непрерывное действие, и в мультимедийных выступлениях группы Velvet Underground между ними стирались всякие границы.
Выступая в лондонском Институте современного искусства в 1997 году, Билли Нейм объяснил очарование «Фабрики» ее магической притягательностью. Это был «подпольный мир красивых людей, гениев и позеров, одержимых и пресыщенных, которых соединяла вместе какая-то волшебная сила»[163]163
Koch S. Stargazer. New York: Praeger, 1973. P. 5.
[Закрыть]. Такой образ жизни обнаруживает некоторые параллели с декадансом рубежа веков. Когда Валери Соланас стреляла в Уорхола, этот хеппенинг претворил в жизнь рассуждение Андре Бретона: «самый простой сюрреалистический акт состоит в том, чтобы, взяв в руки револьвер, выйти на улицу и наудачу, насколько это возможно, стрелять по толпе»[164]164
Бретон А. Второй манифест сюрреализма.
[Закрыть], – а также напомнил о бомбах, которые бросали анархисты в 1890‐е годы, когда критик Лоран Тейяр саркастически спросил: «Что значат несколько человеческих жизней, если жест красив?» (шутка вернулась с процентами, когда позже разрыв бомбы сделал его слепым на один глаз)[165]165
Shattuck R. The Banquet Years. P. 17.
[Закрыть].
Энди Уорхол довел эту связь между авангардом и массовой культурой до крайности. Его кино (восьмичасовой фильм о спящем человеке, длинные бессюжетные ленты о звездах дрэга, изображающих ковбоев) было экспериментальным, его поп-арт прославлял поверхностность, эстетизируя американскую повседневность с ее взглядом из окна машины и захламленностью. Его известная фраза о том, что в будущем каждый сможет получить свои пятнадцать минут славы, казалось бы, противоречила культу знаменитостей, который он исповедовал, и указывала на то, что особая магия и очарование теперь доступны каждому. Авангардное по своей природе слияние жизни и искусства лишало любой предмет глубины и все обращало в симулякр. Однажды Уорхол отправил одного из своих подражателей читать вместо него лекцию, для чего тому пришлось проехать пол-Америки, а когда обман был раскрыт и мероприятие отменили, Уорхол выразил удивление. В самом деле, какая разница, да и его двойник в любом случае выглядел лучше оригинала.
В легенде о Рембо слава удивительным образом переплелась с безвестностью; противоречия его жизненного пути соединились так, что одна часть оттеняла значимость другой. Эстетика Уорхола выворачивала это противопоставление наизнанку. Ведь на практике безвестность была нужна богеме не меньше скандальной славы. Неизвестные богемные художники внесли не меньший, если не больший, вклад в создание мифа, чем знаменитые. Безвестность стала источником важнейших для богемы мотивов саморазрушения и неудачи.

Дизайнер: Мария Евстюхина.
Фотограф: Вадим Боратинский.
Модель: София Соломатина.
Глава 5
Безвестные эксцентрики
Неудачник всегда притягателен.
Дерек Рэймонд. Грязь на ее ботинках
Любую звезду богемного мира окружают менее известные, но не менее одиозные и эксцентричные личности, которые помогают поддерживать ее миф. Зачастую они были даже более оригинальными, так что сама их жизнь претворялась в произведение искусства. Без них богемы бы не было; они не только создавали фон, но активно участвовали в создании мифа о богеме; богема – не просто история жизни нескольких выдающихся ее представителей, это своя вселенная, свой стиль жизни, динамичная часть мировой культуры; и звезды, и эпизодические персонажи вносят свой вклад в становление богемы, которую невозможно свести всего лишь к сумме ее частей. Деление на звезд и всех остальных нельзя назвать справедливым, поскольку слава многих представителей богемы не выходила за пределы очень узкого круга.
Иногда трудно было провести границу между богемными художниками, не получившими признания, и теми, кого привлекала и увлекала жизнь без планов, одними мечтами. Некоторые представители богемы почти осознанно искали бедности и неудач. Богемные кафе XIX и начала ХХ века были переполнены
«философами без гроша в кармане, которых совершенно не заботило, на чем основана их философия, теми, кто искал мыслей и слов, талантливыми живописцами и… чеканщиками фраз, странствующими рыца– рями пера и кисти, храбрыми охотниками за бесконечностью, бесстыдными торговцами мечтами, строителями вавилонских башен, людьми идеи и энтузиастами, которые все при этом страдали от одной болезни… отсутствия денег, потраченных ими на прекрасные воздушные замки в Стране богемы или на длительные и дорогостоящие поездки в Страну грез; но все они к тому же были героями незаметной каждодневной борьбы с унылой реальностью. Каждый вечер они возвращались, чтобы подогреть свой энтузиазм или зажечь искру произведения, которое они мечтали создать, но которому не суждено было родиться»[166]166
Maillard F. La Cité des Intellectuels: Scènes Cruelles et Plaisantes de la Vie Littérre des Gens de Lettres au XIX Siècle. Paris: D’Aragon, 1905. P. 401.
[Закрыть].
Братья Гонкур придерживались менее лестного мнения: «Все эти безымянные великие люди, вся богема из числа мелких журналистов, из бессильной и бесчестной породы, где каждый готов обманывать другого ради новой монеты или старой идеи»[167]167
Goncourt E., Goncourt J. Journal des Goncourts: Mémoires de la Vie Littéraire, le Vol., 1851–1861. Paris: Charpentier, 1887. P. 185.
[Закрыть].
И все же оригинальное поведение и образ жизни, подобно созданию шедевра, требовали своего рода гениальности. Многие представители богемы вкладывали все свои творческие способности в самое эфемерное из искусств, искусство жизни, посвящая себя искусству эстетства, разгула, остроумия и беседы.
Страна богемы привлекала переселенцев по разным причинам. Она была убежищем, остановкой в пути, сценой. Для одних – постоянный дом, для других – временное пристанище. Подобно своему переменчивому обитателю, эта призрачная Богемия могла меняться, чтобы отвечать мечтам временных посетителей или тех, кто планировал в ней обосноваться.
Некоторые представители богемы посвящали себя низким формам искусства или эфемерным искусствам и ремеслам; были и те, кто мало что создал, и те, чье творчество прямо ставило под сомнение различие между искусством и жизнью. К тому же богемная среда предлагала разнообразные возможности случайного заработка натурщицам, пописывающим журналистам, сессионным музыкантам и безработным актерам; и, как отмечал Маркс, среди мелких богемных предпринимателей были те, кто стоял на грани преступного мира и предлагал сомнительные услуги: сутенеры, гомосексуалисты-проститутки, торговцы наркотиками, осведомители и заговорщики. Богемная среда также служила прибежищем мужчинам и женщинам, исключенным из более благопристойного общества и встретившим в ее кругах более терпимое к себе отношение. В XIX веке это относилось прежде всего к женщинам, которых общество осудило за внебрачную любовную связь или рождение незаконного ребенка. Здесь находили приют белые вороны и бунтари. Эрих Мюзам вспоминал, как однажды вечером, еще до Первой мировой войны, в старом «Западном кафе» в Берлине он оказался за одним столом с «романистами, художниками, скульпторами, актерами и музыкантами». Кто-то спросил: «„Кто из нас, решившись стать художником, не встретил возражений со стороны семьи?“ Оказалось, что все мы без исключения были отступниками, блудными сыновьями, отрекшимися от своих корней»[168]168
Mühsam E. Unpolitische Erinnerungen. P. 17.
[Закрыть].
В то же время существовало немало бескорыстных представителей богемы, посвящавших себя распространению чужого творчества: редакторов, издателей, торговцев произведениями искусства, хозяек различных заведений. Они открывали богемные кафе, салоны, книжные магазины, галереи и издательства, дававшие работу остальным. Владельцы кафе и ресторанов, хозяйки меблированных комнат и просто друзья опекали безденежных художников.
Такие заведения привлекали зевак и случайных попутчиков: женщин, живших с художниками, юношей, предающихся разгулу, дилетантов и охотников за удовольствиями, наслаждавшихся непринужденной атмосферой богемной жизни. Их присутствие тоже сказывалось на атмосфере кафе и баров. Они составляли аудиторию кабаре, слушателей chanson réaliste (реалистической песни) на Монмартре рубежа веков и фолк-музыки в Гринвич-Виллидже 1950‐х годов. Но вместе с тем, вовлекаясь в общественную жизнь богемы, становились участниками представления; некоторые из тех, кто теснился на периферии, наверняка надеялись когда-нибудь проникнуть в богемный круг. Поэтому различие, которое (например, Джеррольд Сигел) делают между «настоящей» богемой и мимолетными «туристами», представляется чрезмерным упрощением, хотя к нему, кичась своим положением, прибегали многие представители богемы.
Вальтер Беньямин описал, что границы между этими различными группами в Берлине до и после Первой мировой войны были подвижными и проницаемыми. Когда владелец кафе «Запад» прогнал своих посетителей с осоловелыми глазами, они оккупировали «Романское кафе». Сначала они чувствовали себя там хозяевами: «Легендой и символом их власти был горбун Рихард, который тогда работал официантом и разносил газеты; благодаря своей дурной репутации он пользовался уважением в их кругу». Но с улучшением экономической ситуации в Германии начала 1920‐х годов «богема явно потеряла тот грозный ореол, что окружал ее во времена революционных манифестов экспрессионистов. Бюргер… обнаружил, что жизнь вернулась в прежнее русло». Поэтому обстановка «Романского кафе» начала меняться:
«„Художники“ ушли на задний план, становясь все больше и больше предметами мебели, а буржуазия, представленная маклерами, клерками, театральными и киноагентами и интересующимися литературой приказчиками, стала занимать это место – уже как развлекательное заведение. Ибо в большом городе одним из самых примитивных и обязательных развлечений бюргера… является погружение в иную среду – чем экзотичней, тем лучше. Отсюда и заведения с художниками и преступниками. Различие между теми и другими с этой точки зрения небольшое»[169]169
Беньямин В. Берлинская хроника / Шок памяти. Автобиографическая поэтика Вальтера Беньямина и Осипа Мандельштама: Берлинская хроника. М., 2005.
[Закрыть].
Эти клиенты – «клерки, театральные и киноагенты» – свидетельствовали о культурных переменах. К концу 1920‐х годов: хотя «богема явно была другой», она продолжала собираться в «Романском кафе», но то была богема
«скорее прагматичная, чем идеалистическая. Все были увлечены получением выгоды, и даже богема оказалась под влиянием этих умонастроений. Они… уже не декламируют „Илиаду“, не сочиняют гекзаметров и не пишут пасторалей в духе Рафаэля: они фотографы, иллюстраторы, репортеры, конферансье, режиссеры… и на устах этих выдающихся гибридов искусства и бизнеса застыл вопрос: „Сколько я получу за это?“»[170]170
Цитата Пауля Эриха Маркуса, приводится по: Schebera J. Damals im Romanischen Café: Künstler und ihre Lokale im Berlin der zwanzige Jahre. Braunschweig: Westerman, 1988. P. 33.
[Закрыть]
Таким образом богемные ценности просочились в современную массовую культуру. Именно в «Романском кафе», например, проводили время Билли Уайлдер и Роберт Сиодмак, прежде чем податься в Голливуд и стать режиссерами фильмов в жанре нуар[171]171
Marcus P. E. (PEM). Heimweh nach dem Kurfürstendamm: aus Berlin’s glanzvollsten Tagen und Nächten. Berlin: Lothar Blanvalet Verlag, 1952. P. 92.
[Закрыть]. Они никогда не были «туристами», богема была для них остановкой на пути в большой мир. А вот постоянные обитатели этого края, те, кто полностью посвятил себя богемному образу жизни, нашли в нем ответ на свои вопросы, способ справиться с неразрешенными проблемами, даже если казалось, что, напротив, он их усугубляет[172]172
Для Хельмута Кройцера одно из важнейших различий между разными богемными типами – различие между постоянной и временной богемой.
[Закрыть].
Богемная среда и в самом деле служила прибежищем для всех, кому душевные невзгоды мешали устроиться на работу или подчиняться принятым в обществе условностям. Здесь находили приют те, чье эксцентричное поведение, личные трудности или психологические проблемы делали невозможным их существование где-либо за пределами психиатрической лечебницы – или богемного круга. Здесь они находили не только понимание, но и общение; они могли внести свой вклад в это пестрое общество. Так, кафе служили своего рода психиатрическими лечебницами для представителей богемы.
В то же время достаточно было всего лишь неотступного стремления к бунту, чтобы оказаться за чертой общества. Примером может служить история Оскара Паниццы, богемной жертвы немецкого правосудия. Паницца был врачом и писателем. Он учился и работал в Мюнхене, а вдохновение находил в крестьянской католической культуре; в свои скандальные пьесы он попытался перенести карнавальные элементы, потому что карнавал, по его мнению,
«подразумевает слияние и переворачивание понятий и ценностей, обычно несовместимых: священного и мирского, духа и тела, элитарного и народного, правящих и управляемых, иными словами, „высокого“ и „низкого“. В отличие от образованного и „цивилизованного“ представителя среднего класса, разделяющего мир на приемлемое и неприемлемое, крестьянин видит близость радостного и страшного… и с той же невозмутимостью и уверенностью сознает человеческие благородство и низость»[173]173
Panizza O. Die Haberfeldtreiben // Neue Deutsche Rundschau. 1894. 5. Цит. по: Jelavich. Munich and Theatrical Modernism. P. 68.
[Закрыть].
Богемная жизнь сама по себе была карнавалом, именно таким образом нарушающим общепринятые границы, но дальнейшая судьба Паниццы показала, как опасен карнавальный подход к жизни, который в его случае обернулся пляской смерти.
В 1894 году была запрещена его антирелигиозная сатира «Собор любви», кощунственная комедия о сексуальной жизни Святого семейства, а Паницца был приговорен к тюремному заключению за богохульство. После освобождения он отказался от баварского гражданства и на время поселился в Цюрихе, где начал продавать свои антирелигиозные памфлеты «Христос в свете психопатологии» и «Женственность культа Мессии»[174]174
См.: Mehring W. The Lost Library: The Autobiography of a Culture / Transl. R. Winston, C. Winston. London: Secker and Warburg, 1951.
[Закрыть]. В 1898 году его выслали как нежелательное лицо, он переехал в Париж и написал сборник стихов с оскорблениями в адрес кайзера. Не будучи в состоянии напрямую добиться его выдачи, баварская полиция конфисковала вверенное его матери имущество, которое служило ему источником дохода. Так его вынудили вернуться в Германию, где в 1901 году отдали под суд. К этому времени у него развилась мания преследования, его признали негодным к выступлению в суде и в 1904 году до конца жизни поместили в психиатрическую лечебницу. Мюнхенская богема видела в нем сходство с де Садом, считая, что его заточение стало следствием интриг его дяди-иезуита, «вмешавшегося по просьбе семьи, как некогда сделала теща маркиза де Сада. Двадцать лет он прожил в санатории, в изоляции от внешнего мира, и продолжал писать до самой смерти. Как и маркиза де Сада в Шарантоне, никому не разрешалось его посещать», – писал Вальтер Меринг, его собрат по перу, который сам безуспешно пытался навестить Паниццу в лечебнице[175]175
Ibid. P. 65.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































