Читать книгу "Богема: великолепные изгои"
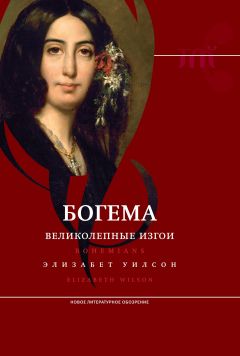
Автор книги: Элизабет Уилсон
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Стереотипные представления о богеме как лишенных таланта художниках, тех, кто, как выразилась Берил Бейнбридж, целыми днями пьянствовал, не отражали куда более широкую проблему роли художника в современную эпоху. Ведь к началу ХХ века эта роль, возможно, состояла прежде всего не в создании произведений искусства. Скорее, художник превратился в «олицетворение общества, неспособного четко обозначить идентичность и сферу деятельности своих членов». Он стал фигурой, функция которой заключалась в «исследовании пограничных состояний бытия и сознания», в том, чтобы «нащупать границы существования индивида и общества»[52]52
Siegel J. Bohemian Paris. P. 389.
[Закрыть].
Это лишь усугубляет проблему, состоящую в том, что невозможно дать реальное определение богемы, определить ее иначе чем через соотнесение с другим понятием, и именно поэтому так трудно ответить на вопрос: «Кем были представители богемы?» Если художник мог одновременно служить свидетельством и быть исследователем изменений в идентичности и субъективности, значит, он все еще стоял выше прочих, был сродни шаману. В то же время художник, который ничего не создавал, а вместо этого играл роль, вызывал подозрение как шарлатан, самозванец (иначе говоря – представитель богемы), претендовавший на гениальность. Итак, характерная для этой эпохи противоречивость представлений о роли и задачах искусства находила выражение в поведении художника: его «художнический» образ жизни состоял в нарушении границ и полемике с общепринятыми представлениями об искусстве.
Дружба и личные отношения играли важную роль в богемной среде, и не в последнюю очередь в первой широко известной богемной группе под названием «Малый кружок»[53]53
Они выбрали такое название, чтобы их не смешивали с известным объединением писателей более старшего поколения во главе с романтиком Шарлем Нодье.
[Закрыть] (Petit Cénacle), известной также как «Молодая Франция» (Les Jeunes France) и «бузинго» (или «бусинго»). Группа возникла в 1829 году (когда само слово «богема» еще не вошло в обиход), когда Петрюс Борель, романтик и один из наиболее пламенных почитателей Виктора Гюго, собрал вокруг него общество друзей. Больше всего они прославились демонстрацией, которую Борель организовал в поддержку Виктора Гюго в день премьеры его пьесы «Эрнани». Неоднозначность этого произведения состояла в том, что автор следовал в нем духу романтизма, а не классицистическим канонам, которые все еще были в почете у французских критиков, и ее успех ознаменовал собой победу романтиков над театральными консерваторами. Толпы студенческой молодежи и зевак пришли за несколько часов до начала представления, ели чесночную колбасу, пили вино и все сильнее неистовствовали, пока длилось их ожидание в темном зале. Когда представление началось, они выразили свою поддержку аплодисментами и одобрительными криками, заглушая свист и насмешки противников Гюго, и вечер закончился среди буйства и гомона.
Очень скоро вызывавшая возмущение деятельность «Молодой Франции» стала одним из излюбленных сюжетов газеты «Фигаро». С августа по октябрь 1831 года ей было посвящено семь статей, а в первом полугодии 1832 года – не меньше двадцати[54]54
Starkie E. Petrus Borel the Lycanthrope. Pp. 92–93.
[Закрыть]. Это один из первых примеров того, как пресса паразитировала и раздувала миф о богеме.
Выпустив сборник стихотворений «Рапсодии», Борель некоторое время оставался значительной фигурой в литературных кругах, но к концу 1830‐х годов о его творчестве мало кто помнил. В 1840‐е годы он жил в нищете, на ничтожные деньги, добываемые случайной работой, а позднее благодаря друзьям получил должность инспектора в колониальной администрации Алжира, где, некогда будучи революционером-республиканцем, он превратился в желчного реакционера и, возможно, покончил с собой. Его жизнь может служить наглядной иллюстрацией богемных мотивов: неудачи, противоречивости и драматического противостояния общему мнению.
Сотни и тысячи неординарных личностей следовали этой жизненной траектории. Они выходили на городскую сцену, чтобы гордо демонстрировать свой гений, свое презрение к условностям и дурную репутацию. Они, известные представители богемы, превращались в знаменитостей, олимпийцев нового времени, земных богов и богинь в ореоле современной легенды.

Дизайнер: Ненси Аветисян.
Фотограф: Ненси Аветисян.
Модель: Гаяне Варданян.
Глава 3
Богемные декорации
Способность видеть тайну, проступающую, подобно водяным знакам, сквозь прозрачную поверхность знакомого мира, дарована лишь тому, кто наделен воображением.
Анри Лефевр. Критика повседневности
Необходимой предпосылкой рождения богемы был рост населения городов. В огромных современных городах возросла социальная мобильность, а возникновение новых профессий и моделей образа жизни привело к появлению новых персонажей и идентичностей – менее устойчивых, более неуловимых и переменчивых. Одним из таких персонажей стал богемный художник, которому огромный город казался своего рода антиутопией. Реформаторы и моралисты XIX столетия могли порицать городские джунгли, называя их порождением дьявола и промышленным адом, но богема превратила город в свою обетованную землю, неведомый, незнакомый мир, полный меланхолии и ностальгии, опасности и азарта.
Жизнь в городе давала богеме практические преимущества. Здесь обязательства перед семьей становились менее обременительными и можно было сводить знакомства и завязывать дружеские отношения, основанные на общих интересах и совместной работе, а не на родстве. Улицы, кафе, потаенные уголки служили совершенно новым источником материала. Еще важнее были ее символические и художественные аспекты. Богема модернизировала эстетику романтизма, наложив ее на городскую жизнь. В то время как романтики наделяли очарованием и особым смыслом минувшие эпохи, дикие или далекие местности, богемные художники видели ту же дикую и экзотическую красоту в необыкновенном запустении и уродливости промышленного города (городской пейзаж становился темой произведений искусства, например картин импрессионистов, таких как Мане, Кайботт и Моне).
Вплоть до середины XIX века Париж оставался единственной столицей, способной создать условия для развития художественной контркультуры. Во Франции, в отличие от Великобритании, политическая, интеллектуальная и культурная жизнь была сосредоточена в столице, и эта особенность французской жизни, стягивавшейся к общему центру, превращала Париж в магнит, который, по словам братьев Гонкур, «поглощал все, притягивал все и был всем». Германия и Италия на тот момент еще даже не стали едиными национальными государствами.
Париж, наоборот, в дореволюционные времена благодаря близости к королевской резиденции в Версале был центром торговли предметами роскоши и художественным центром, а к 1830 году он был вне конкуренции как средоточие культурной жизни и развлечений. Здесь устраивались нескончаемые карнавалы, представления и танцы; французская столица, население которой было вдвое меньше населения Лондона, могла при этом похвастаться намного большим количеством театров. В ней также располагался старинный университет, со времен Средневековья привлекавший студентов со всей Франции и из других стран (Латинский квартал получил такое название потому, что латынь была единственным общим для средневековых студентов языком).
Для первых представителей богемы Париж был городом мечты. Альфонс Дельво, республиканец XIX столетия, утверждал, что «от Парижа умирают, как от яда, принимаемого в малых дозах». Город вызывал привыкание, подобно наркотику. В то же время он напоминал скорее природное образование, нежели создание человеческих рук. Дельво сравнивал его с океаном: за его манящей поверхностью, писал он, таились глубины, где скрывались зловещие чудовища и бурные течения, но там же обнаруживались жемчужины и кораллы. Богемный художник становился глубоководным ныряльщиком, погружавшимся в чуждую стихию и подвергавшим себя риску ради того, чтобы обрести сокровище, подлинность опыта. Он был исследователем экзотической страны, и, как полагал Дельво, если нам хочется узнать что-то о Мексике, Гватемале или Тимбукту, «разве не хотелось бы нам узнать и о том, как парижские карибы и краснокожие ‹sic› рождаются, живут, едят, любят и умирают?»[55]55
Delvau A. Les Dessous de Paris. Paris: Poulet Malarus et de Brosse, 1861. P. 8.
[Закрыть].
Такие авторы, как Бодлер, Маркс, романист Эжен Сю и Прива д’Англемон, сравнивали Париж с дикими американскими просторами из романов Фенимора Купера. Купер, писал Прива, «показывает нам обитателей американских лесов вечно молодыми и беззаботными; они предаются забавам, на которые в цивилизованных странах и десятилетний посмотрит с презрением. То же самое можно наблюдать здесь, среди этих парижских дикарей»[56]56
Privat d’Anglemont A. Paris Inconnu. Paris: Adolphe Delahaye, 1861 (первая публикация – 1847). P. 101.
[Закрыть]. Для Бодлера трущобы и глухие улочки Парижа также были населены «племенами, которые мы называем дикими», но которые на самом деле представляли собой «осколки великих исчезнувших цивилизаций».
В 1840‐е годы Генри Мэйхью, исследователь урбанистической Англии и журналист, назвал лондонский Ист-Энд «неизученной страной». Перекличка, намеренная или нет, с самым известным монологом Гамлета, придавала английским трущобам зловещий облик «страны, откуда ни один не возвращался», то есть потустороннего, загробного мира. В 1880‐е и 1890‐е годы Ист-Энд стали называть «черным Лондоном» (по аналогии с «черной Африкой»). Такие сравнения с оттенком расизма казались вполне оправданными в городах, где пропасть между богатыми и бедными была огромна; но, кроме того, они позволяли изображать богемного персонажа как искателя приключений, который превращал свои странствия между двумя мирами в материал для творчества.
Ранней богеме доставляла удовольствие мрачная безликость Парижа. В 1835 году Теофиль Готье и Жерар де Нерваль снимали комнаты в тупике Дуайен неподалеку от Лувра. В то время это был унылый грязный район, избранный Бальзаком в качестве походящего места для жилища одного из самых неприятных своих персонажей – кузины Бетты: «Улица и тупик Дуайен – вот единственные пути сообщения в этом мрачном и пустынном квартале, населенном, вероятно, призраками, ибо там не увидишь ни одной живой души». Дома там «вечно погружены в тень, которую отбрасывают стены высоких луврских галерей, почерневшие от северных ветров. Мрак, тишина, леденящий холод, пещерная глубина улицы соревнуются между собою, чтобы придать этим домам сходство со склепами, с гробницами живых существ. Это место было не только пустынным – оно было еще и опасным ночью, когда эта улица превращается в воровской притон и все пороки Парижа под покровом тьмы дают себе полную волю». Дома были окружены болотом, «океаном булыжников ухабистой мостовой, чахлыми садиками и зловещими бараками… целыми залежами тесаного камня и щебня». Однако этот заброшенный район в самом сердце Парижа символизировал «сочетание великолепия и нищеты, которое отличает королеву столиц»[57]57
Бальзак О. Кузина Бетта. Пер. Н. Г. Яковлевой.
[Закрыть].
Ведь, помимо темного лабиринта, столица была также блистательной сценой. В 1836 году Фанни Троллоп вспоминала, что в Париже люди толпятся на улицах в любое время дня и ночи, а Альфонс Дельво в конце 1850‐х годов отмечал, что его приятели-парижане «никогда не сидят дома – на улице в любую погоду можно столько всего увидеть и сделать. И вот, их жилища не убраны, зато улицы подметают каждое утро. В их квартирах за сто тысяч сыро, атмосфера там нездоровая и мрачная, а их площади, углы улиц, набережные и бульвары залиты солнечным теплом и светом. Вся роскошь – за порогом»[58]58
Delvau A. Les Dessous de Paris. P. 134.
[Закрыть].
Волшебный город как магнитом притягивал честолюбивых, и переезд из провинции в столицу, с окраины в центр был необходимой составляющей богемной авантюры. Подростком будущий представитель богемы, как правило, отчаянно стремился вырваться из тесных рамок провинциальной жизни, убежав от тоскливых блужданий по городской площади, скорбных прогулок у городской стены вместе с двумя-тремя близкими по духу школьными товарищами, от наводящих ужас семейных сборищ увядших тетушек и любящих кузенов и от обеспокоенной матери. Хуже всего было тягостное и властное присутствие отца семейства, заставлявшего юного гения изучать право или поступать на государственную службу, когда тот не хотел заниматься ничем, кроме сочинения стихов. Лишь столица предлагала сцену подходящих масштабов и достаточно яркие прожекторы для выявления его подлинного таланта. Так, Люсьену де Рюбампре из «Утраченных иллюзий» Бальзака
«показалось, что, сидя в Ангулеме, он напоминает лягушку, притаившуюся под камнем на дне болота. Париж во всем своем великолепии, Париж, который рисуется в воображении провинциала неким Эльдорадо, возник перед ним в золотом одеянии, в алмазном королевском венце, раскрывающий талантам свои объятия. Знаменитые люди братски приветствовали его. Там все улыбалось гению»[59]59
Бальзак О. Утраченные иллюзии. Пер. Н. Г. Яковлевой.
[Закрыть].
Растиньяк, еще один антигерой Бальзака, увидел столицу как территорию, которую ему предстоит завоевать, когда оглядывал Париж с кладбища Пер-Лашез:
«…Растиньяк… увидел Париж, извивавшийся по обоим берегам Сены; уже зажигались огни. Он вперил взор в кварталы между Вандомской колонной и куполом Дворца инвалидов, где обитал высший свет, куда он так хотел проникнуть. Он окинул этот жужжащий улей взглядом, точно желая заранее высосать из него мед, и гордо воскликнул:
– А теперь мы с тобой поборемся!»[60]60
Бальзак О. Отец Горио. Пер. Н. И. Соболевского.
[Закрыть]
Мечта о побеге из провинции не утратила привлекательности и в ХХ столетии. В 1930‐х годах Дилан Томас отчаянно рвался прочь из Суонси. «Невозможно, – писал он Памеле Хенсфорд Джонсон, – даже сказать, как мне хочется сбежать от всего этого… от узости и грязи, от вечной уродливости валлийцев и всего, что к ним относится, от мелочности матери, до которой мне нет дела, и от сборища хихикающей родни»[61]61
Письмо Дилана Томаса Памеле Хенсфорд Джонсон, октябрь 1933 года. Цит. по: David H. The Fitzrovians: A Portrait of Bohemian Society, 1900–1955. London: Michael Joseph, 1988. P. 140.
[Закрыть].
Двадцатью годами позже вышел роман Колина Макиннеса «Абсолютные новички», герой которого, как сообщала аннотация, пускался завоевывать Лондон так же, как в свое время завоевывали бальзаковский Париж. Популярный богемный фотограф смотрел на город с необычного ракурса, он обозревал столицу с высоты универмага «Дерри энд Томз» на Кенсингтон-Хай-стрит, на крыше которого был разбит сад. Слушая главный хит того времени, «He’s got the whole world in his hands» («У него весь мир в руках») в исполнении четырнадцатилетнего вундеркинда Лори Лондон, он смотрел на город внизу:
«…Когда он медленно поворачивался на своем высоком стуле у стойки бара, с востока на юг, как в кинораме, перед ним открывались опрятные новые бетонные высотки, возвышающиеся… над старыми английскими площадями, затем шли пышные парки, с деревьями, похожими на французские салаты. Потом опять жизнь в портах Темзы… сделав полный круг, он вновь оказывался перед своей чашкой ледяного кофе».
В романе богемная беспечность явно ассоциировалась с достатком, появившимся у заново открытой группы – подростков: «Этот праздник подростков был действительно блистателен в те дни… когда мы обнаружили… что у нас были бабки, и мы наконец-то могли их тратить, и наш мир был нашим миром, таким, каким мы хотели…»[62]62
Макиннес К. Абсолютные новички. Пер. И. Миллера.
[Закрыть]
Большой город с его непомерными и резкими контрастами не только давал материал для творчества. Он также создавал условия для появления новых типажей, и богема была среди них одним из самых противоречивых. В этом темном мире художник становился сродни фланеру, репортеру, шпиону, преступнику и революционеру. Провокаторы, заговорщики-контрреволюционеры и агенты под прикрытием, которые смешивались со сбродом, сидящим в барах на глухих окраинах, часто были еще и писателями, авторами статей для множества политических газет и журналов-однодневок. Как заметил Маркс, «жизненное положение людей этой категории уже предопределяет весь их характер. Участие в пролетарском заговорщическом обществе, разумеется, могло предоставить им крайне ограниченные и ненадежные источники существования». Они вели «беспорядочный образ жизни, при котором постоянными пристанищами являются только кабачки – место встреч заговорщиков», и в конечном счете «их неизбежные знакомства со всякого рода подозрительными людьми приводят их в тот круг, который в Париже называют la bohème»[63]63
Маркс К. А. Шеню, экс-капитан гвардии гражданина Коссидьера. «Заговорщики. Тайные общества; префектура полиции при Коссидьере; вольные стрелки». Париж, 1850. Люсьен Делаод. «Рождение Республики в феврале 1848 г.». Париж, 1850 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 7. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957. С. 286.
[Закрыть].
Кроме уже названных, существовали и другие группы, с которыми представители богемы отождествляли себя, видя в них таких же изгоев, как они сами. Это были старьевщики и проститутки, воспетые Бодлером. Это была и ватага уличных актеров, шарманщиков, комедиантов, фокусников и акробатов, музыкантов, певцов и итальянцев-марионеточников. Такие странствующие артисты, подобно богеме, жили на грани между ремесленной и преступной деятельностью, между изящными искусствами и массовыми. Среди этих актеров были «бродяги интеллектуального труда… сочинявшие злободневные песни, которые поэты декламировали на площадях… переписчики пьес… занимавшиеся сокращением популярных мелодрам»[64]64
Privat d’Anglemont A. Paris Inconnu. P. 40.
[Закрыть]. Они часто сталкивались с представителями закона, поскольку полиция считала их ремесло прикрытием для попрошайничества[65]65
Siegel J. Bohemian Paris. Pp. 128–129.
[Закрыть], но Теодор де Банвиль, друг Бодлера, задавался риторическим вопросом: «Кто такой комедиант, как не свободный и независимый художник, проявляющий чудеса находчивости, чтобы прокормиться… без надежды когда-то попасть в какую-либо академию?»[66]66
Там же. Цитата из: De Banville Th. Les Pauvres Saltimbanques (1853).
[Закрыть]
Урбанизация и рождение промышленного рабочего класса приводили к перенаселенности и распространению болезней. Целые классы впадали в нищету и шли в преступный мир[67]67
Chevalier L. Labouring Classes and Dangerous Classes in Paris During the First Half of the Nineteenth Century / Transl. Frank Jellinek. London: Routledge and Kegan Paul, 1973.
[Закрыть]. Это, в частности, привело к тому, что город стал самостоятельным объектом интеллектуальной и социальной деятельности. Журналист нового типа собирал статистику и писал репортажи, в которых, идя на встречу ее интересам, знакомил образованную публику с жизнью низов. Эти странные отношения любви-ненависти между богемой и буржуазией, между средним классом и деклассированными элементами неоднократно находили отражение в популярной литературе. Примером может послужить роман Эжена Сю «Парижские тайны», который выпускался подобно сериалу начиная с 1843 года и пользовался бешеным успехом.
Александр Прива д’Англемон был одним из самых увлеченных богемных летописцев парижских трущоб. Он прославился красочными описаниями ночного города. Писатель рассказывал, как однажды, когда он бродил ночью по улицам, за ним увязалась шайка грабителей (среди которых была женщина в брюках). Когда писатель назвал им свое имя, они расхохотались – ведь было известно, что он живет в постоянной нужде, – и пригласили его к себе ужинать.
Хотя он и призывал к уничтожению самых безобразных трущоб, он прослыл защитником и воспевателем старого Парижа, который изображал столицей причуд и противоположностей. Парижанина, говорил он, ничем не проймешь, ведь за каждым поворотом огромного этого города ему открывался свой особый мирок, со своим особым укладом. Столкнувшись со зрелищем, которое поразило бы кого угодно, парижанин только пожмет плечами: «Я это уже видел!»
По крайней мере в этом отношении Прива не был парижанином: он никогда не терял способности удивляться. «Париж – это крутящийся калейдоскоп и вечный источник неожиданностей», – писал он. Париж был грезой. И еще он был театральными подмостками, на которых разворачивалась драма жизни. Он отличался от Лондона, где «каждый занят своим делом, работая, скажем так, за закрытыми дверьми; а на улице все с той же готовностью забывают о своей профессии, стремясь жить, передвигаться, одеваться так же, как остальные. Здесь никто и не думает важничать». Тогда как «в Париже все позируют, все пускают пыль в глаза, все играют роль – художника, привратника, актера, сапожника, солдата, подлеца или воплощенной добродетели»[68]68
Privat d’Anglemont A. Paris Inconnu. P. 40, 53.
[Закрыть].
Прива в своей прозе воспевал забытые уголки и чудаковатых обитателей излюбленного города. Он восхищался тем, как упорно Париж сопротивляется правилам и порядку, и, в манере, свойственной богеме, выворачивая город наизнанку, превращал его убогие, заброшенные закоулки в священные места. В этой среде, на задворках Парижа, зарождался типаж богемного художника[69]69
Об использовании маргинальными группами пороговых пространств см.: Hetherington K. Identity Formation, Space and Social Centrality // Theory Culture and Society. 1996. xiii/4. P. 39; Hetherington K. The Badlands of Modernity: Heterotopia, and Social Ordering. London: Routledge, 1997.
[Закрыть].
Богема собиралась в означенных районах, в специально отведенных местах: книжных лавках, галереях, ресторанах и частных салонах. Но, конечно, самым главным местом богемных встреч были кафе. Здесь буквально обитала богема. Здесь оканчивались все богемные похождения.
Культура кафе родилась из взаимной любви между богемой и городом. В кафе приходили затем, чтобы ощутить особое очарование богемного образа жизни или, по крайней мере, составить о нем представление. Для многих это было главной причиной, побудившей их примкнуть к богеме. Здесь царил то ад, то рай на земле. Ван Гог писал о своей картине «Ночное кафе»: «…Я пытался показать, что кафе – это место, где можно довести себя до гибели, сумасшествия или преступления»[70]70
Ван Гог В. Письма к брату Тео / Пер. П. Мелковой. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. С. 253.
[Закрыть]. Для Томаса Манна кафе, наоборот, представляло собой «нейтральную зону, которую не затрагивает смена времен года, отрешенную и… возвышенную сферу искусства, где тебя осеняют лишь значительные мысли»[71]71
Манн Т. Тонио Крегер. Пер. Н. Ман.
[Закрыть].
К 1900 году Швабинг, район на задворках Мюнхена, превратился в настоящий богемный квартал. Здесь располагалось одно из самых модных в городе богемных кафе, «Луитпольд», о значимости которого в жизни литератора писал драматург Франк Ведекинд. «Для такого отшельника, как я, очень важна постоянная толчея в комнатах. То и дело завязываешь новое знакомство»[72]72
Wedekind F. Diary of an Erotic Life / Ed. G. Hay, transl. W. E. Yuill. Oxford: Blackwell, 1990. P. 105.
[Закрыть].
Но в кафе приходили не только затем, чтобы избежать одиночества: кафе было социальным институтом, участие в котором позволяло художнику-одиночке войти в богемное общество. В самых известных кафе можно было причаститься богемы. Едва приехав в Мюнхен в 1909 году, Леонгард Франк направился в известное кафе «Стефани»:
«Стоило вам только зайти внутрь, и вы сразу же чувствовали себя как дома. В главном зале вас встречали… яркая угольная печка, теплые кресла с обивкой, от которой несло плесенью, красный плюш и официант Артур. Артур записывал в потрепанной записной книжке на резинке, сколько пфеннигов должны ему посетители. …зал был полон людей и пах по-своему: особым букетом из кофе, затхлости и густого сигаретного дыма»[73]73
Frank L. Heart on the Left / Transl. C. Brooks. London: Arthur Barker, 1954 (первое издание – 1928). P. 11.
[Закрыть].
В XIX веке кафе служило пристанищем продрогших жителей мансард, было «домом для бездомных». В 1840‐е годы Мюрже с друзьями часами просиживали в верхней комнате кафе «Момю», заказав лишь чашку кофе. На рубеже веков берлинская поэтесса Эльза Ласкер-Шюлер и ее муж Герварт Вальден почти поселились в Café des Westens. Как рассказывала другая постоянная посетительница, «эту пару с их на редкость невоспитанным сыном можно… было увидеть с полудня до поздней ночи в кафе со всеми этими дикими мужчинами и женщинами, строящими из себя людей искусства. Чета, насколько я заметила, питалась исключительно кофе, который приносил… старший официант… увы, он прощал им долг или позволял заплатить честному клиенту. А тем временем ребенок, чувствовавший себя как дома, набрасывался на блюда с едой и в мгновение ока (пока никто не видел) брал, что ему заблагорассудится»[74]74
Durieux T. Ein Tür steht offen. Цит. по: Kleeman E. Zwischen symbolischer Rebellion und politischer Revolution. Frankfurt: Peter Lang, 1985. P. 36.
[Закрыть]. (Однако владельцу это в конце концов надоело, он запретил Эльзе Ласкер-Шюлер появляться в кафе, поскольку она заказывала слишком мало, и стал ориентироваться на более состоятельных клиентов.)
Но и этим функции кафе не ограничивались. Оно выполняло одновременно многообразные и противоречивые функции. Одной из важнейших можно назвать то, что кафе служило биржей труда для интеллигенции и представителей творческих профессий. Во времена, когда письма шли медленно и еще не было ни телефона, ни факса, ни электронной почты, кафе были главным местом встречи журналистов и редакторов, художников и моделей, актеров и директоров театров. Художники, начиная с Каналетто в Венеции XVIII столетия и до Модильяни в Париже накануне Первой мировой войны, обсуждали свои работы за столиком в кафе, и по сей день в кафе устраиваются неформальные художественные галереи.
Кафе также служили кабинетами или библиотеками, где можно было работать. Илья Эренбург вспоминал, что в «Ротонде» на Монпарнасе, излюбленном месте встреч богемы в довоенные годы, писателям и художникам бесплатно предоставляли бумагу. По воспоминаниям одного из представителей немецкой богемы, Café des Westens ежедневно наполняли одинокие художники, делавшие наброски, и писатели, сидящие над черновиками; только к вечеру затевался общий разговор.
Тем не менее разговоры составляли важнейшую часть жизни кафе. Для тех завсегдатаев, которые не получили образования, кафе становилось университетом. В середине XIX века Гюстав Курбе и его друзья собирались в знаменитом парижском кафе Brasserie des Martyrs, чтобы обсудить, как продвигается работа. Немецкая богема накануне Первой мировой войны относилась к посещению кафе со всей возможной серьезностью. «Обстановка в Café des Westens была достаточно церемонная, – вспоминал один из посетителей (хотя из воспоминаний современников складывается иное впечатление). – Любое высказанное мнение и рассказ об успехах подвергались дотошному разбору и резкой критике»[75]75
Blass E. The Old Café des Westens // Raabe P. (ed.) The Era of German Expressionism, transl. J. M. Ritchie. London: Calder and Boyars, 1974. P. 30.
[Закрыть]. Там «в любое время дня и ночи можно было найти собеседника, того, с кем можно основать журнал, открыть студию или создать группу»[76]76
Jung C. Memories of Georg Heym and his Friends. Ibid. P. 41.
[Закрыть]. Другой завсегдатай Café des Westens называл его «школой, и школой весьма неплохой. Там мы учились видеть, чувствовать и думать. Там, быть может, даже с большей ясностью, чем в университете, мы поняли, что мы не единственные на белом свете и что любой предмет следует рассматривать не однобоко, а по меньшей мере с четырех точек зрения»[77]77
Goetz W. Im «Großenwahn» bei Pschor und Anderswo… Erinnerungen an Berliner Stammtische. 1936. P. 14. Цит. по: Allen R. F. Literary Life in German Expressionism and the Berlin Circles. Epping, Essex: Bonher Publishing Co., 1983. P. 24.
[Закрыть]. Кафе обладало образовательной функцией еще и потому, что здесь посетителям бесплатно раздавали газеты и журналы. Стефан Цвейг так описывал мир венского кафе во времена своей молодости накануне Первой мировой: «В сущности, это своеобразный демократический клуб, где кто угодно, потратив гроши на чашечку дешевого кофе, может сидеть часами, спорить, писать, играть в карты, получать почту, просматривать любые газеты и журналы». Посетители, обеспеченные всевозможными европейскими журналами, включая редкие и специализированные издания, «из первых рук узнавали обо всем, что происходило в мире»[78]78
Цвейг С. Вчерашний мир. М.: Радуга, 1991. С. 71.
[Закрыть]. А вот суждения Франка Ведекинда – возможно, потому, что мы находим их в дневниковых заметках, а не в ностальгических воспоминаниях о юности, написанных в изгнании, более едкие: «иллюстрированные газеты обычно исчезали в первый же день; пустые папки из-под газет вызывали видимое смущение у посетителей, их разочарование росло по мере того, как они одну за другой открывали пустые папки, которые до того принесли за свой столик»[79]79
Wedekind F. Diary of an Erotic Life. P. 15.
[Закрыть].
Кристофер Ишервуд писал о наслаждении, которое доставляла иностранцу работа в атмосфере берлинского кафе 1920‐х годов: «Навряд ли кто-то из присутствующих мог понять, что он пишет. Это давало ему успокаивающее ощущение уединенности, которому едва ли мог помешать гул их разговоров – звуки были на другой волне. Среди людей сосредоточиться было даже легче, чем в одиночестве. Он был один и все-таки не один. Он мог по своему желанию возвращаться в их мир и покидать его»[80]80
Isherwood Ch. Christopher and His Kind, 1929–1939. London: Methuen, 1977. P. 24.
[Закрыть]. Его современник Луи Арагон рассказывал о том, что атмосфера кафе стимулирует работу воображения. «Фантазия, – писал он, – приходит сама, без усилий. Здесь сюрреализм вновь вступает в свои права. Здесь вам принесут полную чернильницу с пробкой от шампанского в качестве затычки, и вот вы уже далеко. Образы сыплются, будто конфетти!»[81]81
Aragon L. Paris Peasant / Transl. S. Watson Taylor. London: Picador, 1980 (оригинальное издание – 1926). P. 94.
[Закрыть] Среди писателей, использовавших кафе как рабочий кабинет, наиболее известны Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар; в письмах и дневниках де Бовуар то и дело мелькают упоминания о том, что она ежедневно посещала кафе.
Были, однако, и те, кто считал, что кафе отвлекают от серьезной работы. Писатель Ричард Олдингтон, друг Нэнси Кунард, в 1930‐е годы так высказался об этом: «Завсегдатай кафе просиживает без дела за выпивкой и разговорами, сурово критикуя все произведения, кроме созданных в его маленьком кружке, значение которого он до нелепости преувеличивает, и часами разглагольствуя о том, что следует сделать и что он собирается сделать, вместо того чтобы сделать это»[82]82
Aldington R. Life for Life’s Sake. New York: Viking Press, 1941. P. 312.
[Закрыть].
Кафе были не только интеллектуальными, но и политическими центрами. В эпоху Реставрации кофейни в Англии, как и французские кафе XVIII века, представляли собой главные средоточия демократов, противников абсолютной монархии, – эту роль они сохранили за собой и на протяжении XIX столетия, при жестких политических режимах, которые установились затем во Франции и Германии. Парижский журналист Фирмен Мейяр написал романтический реквием по Brasserie des Martyr и его богемным завсегдатаям, подразумевая, что политическая оппозиция была подавлена, а ее представители нашли другую отдушину, предавшись саморазрушению. Его богема
«безвременно скончалась, упала, не дойдя до конца пути, похоронена не так глубоко, чтобы не услышать ваших лицемерных разговоров о лени, абсенте и женщинах… Некоторые встанут, чтобы крикнуть вам: „Когда мы были молоды, у нас уже не было будущего, мы проиграли до того, как начался бой, и, вынужденные задушить пламенную любовь к свободе в наших сердцах, мы нашли убежище в искусственном раю“»[83]83
Maillard F. Les Dernières Bohèmes: Henri Murger et son Temps. Paris: Librairie Sartorius, 1874. P. v.
[Закрыть].
Он писал о жестком режиме Наполеона III в эпоху Второй империи, когда кафе стали приютом для инакомыслящих. В конце 1860‐х годов имперская диктатура стала ослабевать, и они вынашивали планы заговоров – как было до 1789 года, – а Café Robespierre, Cafe Madrid и Cafe Cabanet служили пристанищем противникам бонапартистов[84]84
D’Almeras H. La Littérature au Café Sous le Second Empire // Les Oeuvres Libres. Vol. 135. Paris: Fayard, 1933. P. 343.
[Закрыть].
Однако очарование кафе придавала отнюдь не возможность утилитарного использования, а их символическое наполнение и способность пробуждать воображение. Вальтер Беньямин, говоря об уже знакомом нам кафе «Запад», называл ключевым свойством кафе «страсть ожидания, без которой нельзя полностью изведать всю их прелесть… Вспоминаю, как сидел в ожидании в клубах табачного дыма на диване, опоясывавшем одну из колонн в центре зала»[85]85
Беньямин В. Берлинская хроника.
[Закрыть].
Курение, конечно, шло рука об руку с ожиданием и было важным компонентом атмосферы кафе. Плотная завеса дыма висела над собравшимися и почти застилала большое зеркало, висевшее на дальней стене большого зала «Римского кафе», излюбленного места берлинской богемы во времена Веймарской республики. Курение не просто скрашивало досуг. Оно было типичным примером замещения: тем, кто уже допил свой кофе, тем, кого только что бросил возлюбленный, и тем, кто выпал из круга единомышленников, сигарета дарила чувство занятости и осмысленности. Я курю, следовательно, существую. Курение упорядочивало время, придавало ему ритмичность, структурировало разговоры, театрально подчеркивало мужественность или женственность, без него невозможно было представить интеллектуала, кроме того, оно было эротическим жестом, подчеркивающим таинственность незнакомки, сидящей со стаканом за своим столиком и окутанной голубоватой дымкой.
Курение было еще и игрой на публику, а на такой игре строилась вся жизнь кафе. Кафе служило сценой для того рода публичного зрелища, которое постоянно присутствует в репертуаре, но которое так сложно передать или зафиксировать – для создания собственного образа. Вернее будет сказать, что кафе не служит сценой, а задает мизансцену, атмосферу в целом; это не просто декорации, а среда, в которой есть место проявлениям гениальности и индивидуальности, безумия и духа товарищества. Оно стирает границы между тем, как ведут себя дома и на людях, между публичным и частным. Поэтому в лучших кафе царила необыкновенная атмосфера. Сидя в Café Stephanie, «можно было подумать, что где-то в здании есть электростанция, от которой посетители получают подзарядку. Они корчились, как от электрошока; они жестикулировали, маша руками влево, вправо и перед собой; они срывались со своих мест, откидывались в изнеможении и снова вскакивали на середине фразы с вытаращенными глазами, ведя бесконечный спор об искусстве»[86]86
Frank L. Heart on the Left. P. 11.
[Закрыть].









































