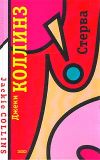Текст книги "Богема: великолепные изгои"
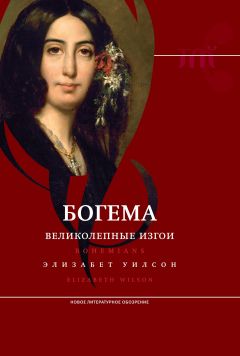
Автор книги: Элизабет Уилсон
Жанр: Дом и Семья: прочее, Дом и Семья
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Самой радикальной реакцией на возможность провала был отказ вообще разделять успех и неудачу. Один из способов достичь этого заключался в том, чтобы стереть различия между собственной жизнью и искусством. Это тоже было своего рода безумие: в рамках такой жизненной стратегии искусство уже не подражало жизни, напротив, жизнь уподоблялась искусству в своей нереальности.
Этой стратегии придерживался Альфред Жарри, живший в Париже на рубеже веков. Он был непризнанным богемным художником – то есть его произведения были настолько современны, что их способны были понять лишь соратники-авангардисты; его необычайное жизнетворчество не укладывалось в рамки популярных представлений о богеме, доводя понимание жизни как искусства до крайнего предела.
Эксцентричность Жарри проявилась еще в школьные годы; один из его одноклассников с тяжелым чувством вспоминал, что Жарри скорее находился во власти своего ума, чем сам властвовал над ним, а когда он открывал рот, то говорил, «словно машина, управляемая демоном». Его оригинальность «слишком походила на умственное расстройство»[176]176
Shattuck R. The Banquet Years. P. 150.
[Закрыть]. В период службы в армии благодаря эксцентричному поведению он добился того, что его быстрее демобилизовали; он всегда подчинялся приказам, но делал это так, словно оспаривал их, обнажая подлинную нелепость армейских порядков. С тех пор его жизнь превратилась в драму абсурда, его существование – в «длящуюся галлюцинацию»[177]177
Ibid. P. 157.
[Закрыть].
В 1896 году, когда Жарри было всего лишь двадцать три года, Орельен Люнье-По поставил в своем экспериментальном театре «Эвр» его пьесу «Король Убю». Первым шоком для публики стало появление самого Жарри, который обратился к зрителям со вступительной речью. Им, по его словам, предстояло увидеть «двери, за которыми открываются заснеженные поля под голубыми небесами, камины, украшенные часами и широкие, как двери, и пальмы, растущие у подножия кровати, так что слоники, стоящие на книжных полках, могут объедать их листья». Первоначальное скандальное впечатление, произведенное появлением Жарри и своеобразными декорациями, усиливалось, когда актер, игравший Убю, выступал вперед и выговаривал единственное слово – «дерьмо». В те дни одного произнесения непристойного слова было достаточно, чтобы вызвать бурю[178]178
Shattuck R. The Banquet Years, в разных местах.
[Закрыть].
Английский поэт Артур Саймонс, присутствовавший на премьере, назвал «Убю» «символистским фарсом». Это была не просто экспериментальная и скандальная пьеса; Жарри пошел дальше и сам перевоплотился в своего персонажа. Если актер, игравший главную роль, имитировал отрывистую речь Жарри, то впоследствии сам Жарри надел на себя маску своего героя. Он белил лицо, как клоун, и носил костюм для езды на велосипеде, однажды он пришел в театр в грязном белом костюме и бумажной рубашке, на которой он чернилами нарисовал галстук. В комнате, где он жил, был лишь соломенный тюфяк и огромный гипсовый пенис. В процессе постоянного самосозидания и саморазрушения он спивался, и алкоголизм стал причиной его смерти (в последние годы он пил денатурат, потому что ничего другого не мог себе позволить)[179]179
Ibid.
[Закрыть].
Несколько раз Жарри видели в театре «Эвр» с Оскаром Уайльдом и лордом Альфредом Дугласом, и гомосексуальная двусмысленность стала еще одной чертой его загадочной жизни. Пусть Уайльд и вложил свой гений в свою жизнь, а не в свое творчество, он все же признавал различие между искусством и жизнью. Отекшему и побагровевшему на старости лет Уайльду, чей образ был отталкивающ и трагичен одновременно, так и не удалось то, что смог сделать Жарри, который за счет игры со смыслами превратился в тучного и нелепого Убю. Гротескный, странный и для многих уродливый образ он превратил в источник силы[180]180
Ibid.
[Закрыть], шагнув в пропасть, в которую Уайльда столкнули.
Так как Жарри был и остается культовой фигурой и его творчество признано значимым, может показаться неправильным говорить о нем как о безвестном. Наверное, точнее было бы говорить о различии между такими писателями, как Байрон, легенда о котором возвела его на пьедестал знаменитости, будучи связанной с признанием его творчества, но при этом существуя отдельно от него, и художниками, чьи творчество и личность, как в случае Жарри, вызывают отклик лишь в узких кругах.
Однако богема существовала именно для того, чтобы оспорить традиционные различия между гениями и неудачниками, между значительными и второстепенными художниками. Например, Филип Хезелтайн, известный как композитор Питер Уорлок, не относился к значительным художникам в том отношении, что его творчество представляло собой, по его собственным словам, «скудный перечень маленьких произведений»[181]181
Smith B. Peter Warlock: The Life of Philip Heseltine. Oxford: Oxford University Press, 1994. P. 166.
[Закрыть]. Приписывать это обстоятельство меньшей талантливости означает, возможно, упускать из виду двойственное отношение к искусству – одну из характерных черт богемы. Более того, те, чьему творчеству мешала развернуться их богемная жизнь, могли на самом деле ставить образ жизни выше искусства или могли находиться во власти неуверенности в себе и уныния, ведь богемный образ жизни для многих играл роль защитной реакции, противостоящей подавленности и страху неудачи.
По-видимому, именно так и обстояло дело в случае с Хезелтайном. Его детство, как и у многих богемных художников (например, Нины Хэмнетт или Генриетты Мораэс), нельзя назвать особенно счастливым, хотя у него были на редкость близкие отношения с матерью, овдовевшей, когда Филипу было два года. В Итоне он чувствовал себя несчастным и бросил Оксфорд, предпочтя лондонскую богемную жизнь во время и после Первой мировой войны. Он был привлекателен, высок и светловолос, но многие считали его слегка женоподобным и даже зловещим. Д. Г. Лоренс, с которым его недолгое время связывала близкая дружба, описывал Халлидея, второстепенного персонажа «Влюбленных женщин», прототипом которого послужил Хезелтайн, как «выродившегося», а леди Оттолайн Моррелл он казался «мягким и таким перезрелым, что в нем чудилось что-то порочное»[182]182
Ibid. P. 81.
[Закрыть].
Его сложные отношения с женщинами наводят на мысль о непроявившейся склонности к гомосексуализму. Он женился на удивительно красивой женщине, натурщице Пуме, хорошо известной в «Кафе Рояль», но брак оказался несчастливым и в конце концов они расстались. (Во время Второй мировой войны Пума покончила с собой.) Его связи с Вивой Кинг – впоследствии хозяйкой богемного салона – и Барбарой Пич также не принесли счастья.
Барбара Пич, как и многие друзья Хезелтайна, чувствовала в нем какой-то внутренний конфликт, нашедший отражение в его псевдониме. Его собственная музыка, как и его реконструкции и аранжировки старой английской музыки, издававшиеся под именем Питера Уорлока, олицетворяли чувствительную сторону его натуры, а в музыкальном критике Филипе Хезелтайне на первый план выходила ее агрессивность. Эта резкость отчасти помогала ему скрыть уныние и ранимость.
Желание освободиться от депрессии могло стать одной из причин его увлечения магией и оккультизмом, которые вошли в моду в Великобритании во время и после Первой мировой войны. Это привело его в круги, близкие к главному идеологу оккультизма в Британии, Алистеру Кроули, эксперименты которого с запретными аспектами жизни включали в себя гомосексуальные отношения. Кроме того, Хезелтайн экспериментировал с наркотиками, время от времени курил гашиш, что привело к плачевным последствиям.
В 1925–1928 годах он жил в собственном доме в Эйнсфорде в Кенте, где часто принимал гостей. Это в значительной мере способствовало развитию легенды о нем: поток посетителей прибывал и убывал, они кутили, устраивали маскарады и наводили страх на местных жителей. По словам его друга Сесила Грея, «поэты и художники, авиаторы и актеры, музыканты и маньяки самого разного рода, включая пирофилов и клаустрофобов, – все, в ком было что-либо необычное или ненормальное, могли рассчитывать на радушный прием в Эйнсфорде»[183]183
Ibid.
[Закрыть]. Нина Хэмнетт, часто бывавшая там, в своих воспоминаниях подтвердила легенду об истерически-маниакальном характере эйнсфордских празднеств.
Хезелтайн никогда не пользовался особенным успехом как композитор и музыкальный критик, а к тридцати годам он почувствовал, что его творческие способности истощаются. В конечном счете он поддался своей депрессии и отравился газом в возрасте тридцати шести лет.
Можно возразить, что сама по себе неудача для художника значила не больше, чем банкротство для предпринимателя или лишение возможности практиковать для доктора, при этом она была сопряжена с меньшим позором и стыдом, потому что художник в меньшей степени зависел от солидности своей репутации, чем человек определенной профессии. Однако такая жизнь, как у Хезелтайна, всегда наводила на мысль, что «неудача», депрессия и жалкая гибель становились неизбежным следствием претензии богемы на превосходство Художника над прочими смертными. Поэтому неудача действительно была позором и стыдом. В сочетании с разгульной богемной жизнью и стремлением нарочито усугубить ее провал превращался в своего рода самоосуществляющееся пророчество. Это было не злым роком, несправедливостью или даже трагедией, а судьбой, той ценой, которую полагалось заплатить за причисление себя к высшим существам, к художникам. Вот еще одна причина, почему к художникам относились двояко: провал, угроза которого всегда висела над ними и усиленно подчеркивалась в богемной среде, воспринимался как предсказуемое и даже справедливое наказание для тех, кто метил слишком высоко.
Энтони Поуэлл в своем цикле романов «Танец под музыку времени» изображает принадлежащую к высшему обществу лондонскую богему в межвоенный период, после чего в трех книгах, посвященных Второй мировой войне, показывает, как неожиданно хорошо некоторые из его особенно эксцентричных персонажей приспособились к условиям военного времени. В ситуации мировой войны многие принятые в обществе условности отошли на второй план, и, пусть даже их сменили новые правила и порядки, у войны были свои богемные стороны – например, бóльшая сексуальная свобода.
Прототипом Икса Трэпнелла, непризнанного писателя, персонажа романа Поуэлла «Книги украшают комнату», где автор повествует о возвращении своих героев к мирной жизни, послужил Джулиан Макларен-Росс. Он, как и его вымышленное альтер эго, принадлежал к второстепенным писателям. Его «Мемуары сороковых годов» представляют собой «фронтовые заметки о богемном Сохо военного времени, написанные его самым опытным воином… в немногих открытых тогда пабах, расположенных в нескольких сотнях ярдов друг от друга к северу от Оксфорд-стрит»[184]184
Ross A. Introduction // Maclaren-Ross J. Memoirs of the Forties. Harmondsworth: Penguin, 1984 (первая публикация – 1965). P. vii.
[Закрыть]. Макларен-Росс обычно располагался в пабе Wheatsheaf, где он сидел у барной стойки, облаченный в кремового цвета костюм, солнцезащитные очки и подбитую мехом куртку; довершали его облик трость с серебряным набалдашником и зажатый между зубами мундштук. Его друг Алан Росс так описывал его повседневное времяпрепровождение:
«С полудня и до закрытия он сидел в пабе, [затем во второй половине дня] шел обедать в ресторан Scala на Шарлотт-стрит, прогуливался по Черинг-Кросс-роуд, разглядывая витрины книжных магазинов… С открытия и до закрытия он снова был в Wheatsheaf. Затем спешил в паб „Шотландец“, закрывавшийся на полчаса позже. Возвращался в Scala, чтобы поужинать и выпить кофе. В полночь с Гудж-стрит на метро возвращался домой». Все это время Макларен говорил буквально без остановки[185]185
Ibid. P. x.
[Закрыть].
Говорил: именно в разговоры многие представители богемы вкладывали свой гений; самая недолговечная разновидность искусства и самый пагубный из богемных наркотиков.
«Невозможно было представить себе тогда, – пишет Росс, – что Джулиан переживал пик своей скромной и жалкой славы». Но, как и многим другим, возвращение к нормальной жизни после войны показалось Макларену трудным или невозможным. Хроническая бедность, незаметные последствия постоянного пристрастия к никотину и алкоголю и уайльдовская склонность отдавать предпочтение беседе перед писательством сломили его. «В пятидесятые для Джулиана почти все было потеряно, – заключает Росс, – и в личном, и в профессиональном плане. Денег у него обычно не водилось, часто не было и крыши над головой; здоровье ухудшалось, отношения были столь непрочными, что их можно было считать несуществующими. Выживать ему, в числе других, помогал Энтони Поуэлл, который давал ему рецензировать романы и писать второстепенные статьи для… литературного приложения к Times»[186]186
Ibid. P. ix.
[Закрыть].
«Мемуары сороковых годов» действительно были типично богемным произведением: они представляли собой серию анекдотов, портретных зарисовок и рассказов об эксцентричных личностях. Написанные остроумно и со своеобразным покорным фатализмом, состоящие из отдельных эпизодов и фрагментов, они прекрасно иллюстрируют подход к жизни, который на первый взгляд может показаться циничным или легкомысленным, но за которым временами можно уловить глубинный мрачный пессимизм. Таким представителям богемы, как Макларен-Росс, жизнь казалась театром абсурда, злой шуткой.
Этот безрадостный, сдержанный стоицизм был присущ, пожалуй, именно британской богеме, а Фицровия была типично британской богемной средой. «Мемуары сороковых годов», напоминающие в этом отношении многие британские фильмы того времени, пронизаны мрачной, тягостной атмосферой несбывшихся надежд, усталой скуки, которая ощущается в убогой послевоенной обстановке, и извращенного человеческого стремления к саморазрушению.
Похожим, но в то же время другим было поселение богемных писателей и художников, образовавшееся в середине 1950‐х годов на западном побережье, в Калифорнии, в районе Венис Бич к северу от Лос-Анджелеса. Излишеств и саморазрушения здесь было не меньше, чем в Фицровии, но чувство абсурдности человеческого существования отсутствовало, поскольку местная богема была вскормлена американским утопическим порывом и ей были совершенно чужды цинизм и невозмутимый юмор Макларена-Росса и его современников.
Своим существованием Венис Бич был обязан Эбботу Кинни, богатому табачному предпринимателю, превратившемуся в ценителя, сторонника евгеники и реформы одежды. Он построил его в начале века, задумывая культурный квартал в итальянском стиле, «прибежище фантазии, первую из многих тематических застроек в Южной Калифорнии, кульминацией которых стал Диснейленд»[187]187
Starr K. Inventing the Dream. Pp. 79–80.
[Закрыть].
К 1950‐м годам район пришел в упадок, но сама его обветшалость привлекла новое поколение богемы. Среди них были ветераны Корейской войны, большинство происходило из рабочих семей, все были совершенными изгоями. Вместе они создали радикально настроенное сообщество, основанное на убеждении, что творить может каждый. «В соответствии с их собственной версией пуританской этики, полностью реализовавшимся человеческим существом был тот, кто жил ради искусства, дружбы, любви и искренности и чья преданность им выражалась в сосредоточенной, неутомимой, невознагражденной работе. Они даже боролись с искушением прославиться в собственном узком кругу»[188]188
Maynard J. A. Venice West: The Beat Generation in Southern California. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1991. P. 14.
[Закрыть]. На них оказали воздействие джазовая философия неторопливости, непринужденности и наркотики. «Смерть, отчужденность и зависимость составляли часть их загадки», и, «когда джазовый исполнитель Чарли Паркер убил себя различными пагубными излишествами, в том числе героином, считалось обязательным написать на эту тему стихи, как в других кругах вскоре стало принято прославлять Дилана Томаса»[189]189
Ibid.
[Закрыть]. Присущий им культ «смерти, отчужденности и зависимости… темной стороны приверженности творчеству»[190]190
Ibid. P. 49.
[Закрыть] вызывал в памяти романтиков и их очарованность смертью.
Стюарт Перкофф был в числе тех, кто примкнул к этой колонии. Он состоял в юношеской коммунистической партии в Сент-Луисе, но вышел из нее, когда ему запретили писать любовную лирику. Он перебрался в Нью-Йорк, где, по его словам, был первым из тех, кто после войны уклонился от службы в армии, но переехал в Калифорнию в 1948 году, когда ему было еще только восемнадцать. Там он встретил Сьюзан Блэнчард, на которой в 1949 году женился; она была ростом шесть футов, он – пять футов и три дюйма; кроме того, она была больна туберкулезом и полиомиелитом. К тому же она страдала приступами умственного расстройства и позднее совсем потеряла рассудок. В противоположность своей матери, женщине, сделавшей успешную карьеру, она стремилась быть только женой и матерью. Таким образом, ее можно назвать богемным воплощением популярных послевоенных представлений о роли женщины, и, пусть богемная среда и отличалась большей терпимостью, чем общество средних американских обывателей, ее диссидентство все же не простиралось до равенства между мужчиной и женщиной[191]191
В 1980‐е годы ее дочь Рэйчел, окончившая Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, руководила компанией, продающей передачи рок-музыки для мирового спутникового вещания.
[Закрыть].
В 1956 году, после публикации первого сборника стихов Перкоффа, «Комната самоубийства» (The Suicide Room), он и Сьюзан поселились в калифорнийской Венеции, где он вскоре открыл первое кафе в этой части западного побережья, Café Expresso. Он исписал белые стены стихами и словами, и постепенно кафе превратилось в «огромную захламленную постройку» с картинами, коллажами и маленькими восьмиугольными столиками вместо тентов, как в обычных американских кофейнях. За кассой виднелись холодильник и кухонная плита, словно бы это была чья-то квартира[192]192
Maynard J. A. Venice West. P. 120.
[Закрыть]. Позже, при другом владельце, Café Expresso пользовалось огромной популярностью, но в первые годы своего существования не приносило дохода, и в конце концов Перкоффу пришлось его продать.
В 1961 году калифорнийская Венеция стала крупным центром наркоторговли, и Перкофф пристрастился к героину. Его посадили за распространение, и, пока он был в тюрьме, его отец вычистил его дом и уничтожил все им написанное. Выйдя из тюрьмы в 1971 году, он открыл книжный магазин в округе Марин, но вскоре вернулся в Венецию. К тому времени он расстался со Сьюзан, но в Венеции встретил новую спутницу, Филомен Лоуи. Он надеялся снимать кино и писать стихи, но в сорок четыре года заболел раком и умер там же в 1974 году[193]193
Ibid. P. 172 и дальше.
[Закрыть].
В 1960‐е годы, когда богема уже не просто флиртовала с массовой культурой, как прежде, а вступила с ней в союз искренней и нерасчетливой любви, появилось множество музыкальных групп, которые вышли за пределы поп– и даже рок-музыки в эксцентричные области сюрреалистического юмора и причудливых фантазий. Одной из них был коллектив Bonzo Dog Doo-Dah Band, во главе которого стоял певец Вив Стэншолл. Оплаканный как «последний английский эксцентрик» после своей смерти в возрасте пятидесяти одного года, он вдохновил создателей «Летающего цирка Монти Пайтона». И хотя, по словам одного из его поклонников, он был «единственным в своем роде комическим талантом во всей британской поп-музыке», его жизнь была типичным образцом эксцентричности, неумеренности и сюрреализма, подавляющих его творчество. От представлений, которые он в юности разыгрывал в поездах в метро, «развлекая» пассажиров «неудавшимся самоубийством», когда он делал попытку повеситься («Никто не пытался меня спасти – никто даже не сказал ни черта ни разу»), он постепенно превратил в осознанное представление всю свою жизнь. «Его можно было увидеть в Масуэлл-Хилл в Лондоне, где он заговаривал с владельцами магазинов голосом, жизнерадостные, в духе Вудхауса, интонации которого часто имели мало общего с его действительным настроением, облаченный при этом не во что иное, как в алый халат и восьмиугольные очки». Он никогда не переставал работать. Он был не только музыкантом, но еще и профессиональным иллюстратором, однако к концу жизни «его перфекционизм стал носить патологический характер, и он не мог считать завершенным ни один из своих многочисленных проектов». (Это может указывать на еще одну причину, по которой столь многие богемные художники так мало сделали.)
В последние годы своей жизни он вел себя все более и более сумасбродно. У него развилась сильная зависимость от алкоголя, «Валиума» и никотина. Он страдал бессонницей, часто курил и пил в постели и в 1995 году умер, задохнувшись от дыма, когда загорелась его спальня. Его жизнь была символом той внутренней склонности к эксцентричности, которая зловещим отблеском ложилась на андеграунд 1960‐х годов. Кроме того, она отчасти помогает понять некоторые причины этих крайностей. В случае Стэншолла, по крайней мере, они, вероятно, объяснялись повышенной чувствительностью к страданию, незащищенностью перед сознанием жестокости жизни. Он «хотел предложить людям взглянуть на вещи иначе», но эта попытка в конце концов привела его к гибели[194]194
Эта часть главы основана на статье: Chalmers R. The World According to Viv // Observer. London. «Life» section. 1995. April 23. Pp. 18–22.
[Закрыть].
На противоположном от эксцентричности и безумия конце располагались некоторые из богемных женщин. Они были опорой, необходимой для поддержания богемы, и в этой роли странным образом походили на женщин за пределами этого узкого круга. Так, до Первой мировой войны одним из самых известных богемных заведений на Монпарнасе считалось кафе «У Розали». Розали Тобиа была любимой моделью Бугро, а Джимми Чартерс, хорошо известный в 1920‐е годы парижский бармен, считал, что у нее ребенок от Уистлера. В зрелые годы она посвятила себя тому, чтобы кормить беднейших местных художников. Именно у Розали Нина Хэмнетт встретила Модильяни, который иногда расплачивался за еду или чисткой картофеля, или эскизами – хозяйке они казались непонятными, и она прятала их в шкаф для посуды.
Русская художница Мария Васильева была еще одной женщиной, оказывавшей практическую поддержку своим товарищам. В 1908 году она открыла собственную школу живописи. Когда во время войны ее пришлось закрыть, она превратила ее в столовую, ставшую местом общения для художников, которые были не на фронте.
Джойс Джонсон, которая была девушкой Джека Керуака, когда его роман «В дороге» стал бестселлером, назвала свои воспоминания о битниках «Второстепенные персонажи» (Minor Characters), и среди второстепенных персонажей богемы было много женщин. Но об их ключевой для богемного общества роли редко говорили, и выпавшие им особые жизненные испытания остались забытой страницей мифа о богеме, его скрытой загадкой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?