Текст книги "Жили-были старик со старухой"
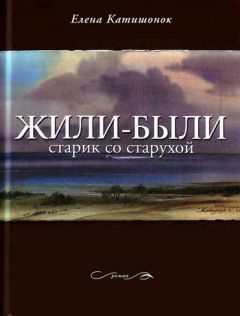
Автор книги: Эмиль Брагинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
19
Старик был недоволен язвой: за что ты меня мордуешь?! Терпел сколько мог и еще потерплю – только отпусти, не тяни нутро! И сам себя одергивал: ишь, до чего дошел! Уязвы, у гадины, жизни прошу, точно милости. Нельзя мне помирать; как же баба одна, ни пришей ни пристегни, у разбитого корыта останется? Ни поругаться с кем, ни почваниться…
В этой больнице время текло медленней, за окном вместо сосен росли знакомые высокие каштаны. Время текло медленней, но его оставалось все меньше, и старик хотел думать только о самом главном, чтобы успеть. Ему было отпущено совсем мало – это Максимыч знал. Ни о чем ни у кого не спрашивал, не заглядывал жалко и пытливо в глаза докторам – сам понял: победила его язва, сожрала заживо. Не может человек остаться живой, если утроба ничего не принимает, а только вон выталкивает. Не может.
Жалко было умирать. Жалко и страшно. Оказывается, что все когда-то уже было – то ли еще до него, то ли во сне, то ли в мирное время. Вот так же страшно ему было идти на войну – как на первую, что миновала его, прошла стороной, так и на вторую, когда он метался с винтовкой в руке, чтоб, сохрани Господь, не убить кого. Чуть сам не помер тогда и ногу покалечил. Теперь – иначе: от язвы, болячки паскудной, суждено смерть принять.
А как же они, все четыре поколения? Мужиков-то всего двое, Федя да Мотя, и то – у Моти своих четверо, да перед женой кругом виноватый, глаз не поднимет. Сколько один Федя может? Баба-то попросит; Ира – никогда. У кротких другая гордость: молчание.
Время от времени старик задремывал. Его лихорадило, сны путались и рвались, оставляя обрывки странных видений. Вот он входит в море и плывет, но вода в море несоленая и горячая, неприятные частые волны толкают в лицо – это пароход горит, потому и вода нагрелась. А то, наоборот, зима, но ему отчего-то жарко. Он стоит, прижимаясь лбом к обледенелому окну, и смотрит вниз на булыжную мостовую, только это не мостовая вовсе, а огромная мороженая рыба, занесенная снегом; как же он раньше не догадался, думает Максимыч и просыпается.
О главном надо, о главном.
Внуки тоже разные. Тайка – из гордых, Левка – кроткий. У Моти только один гордый, не зря его Мамаем прозвали; а Тонькины оба кроткие. Задумался о Симочкиных: кто знает, совсем крохи; а старший в батьку пошел, гордый. Уже видно.
Осторожно поднял голову: из капельницы перетекало в него какое-то розоватое снадобье. На кой добро переводят, Мать Честная? Оно капает, а мое время летит.
Что ж, Андря, скоро встретимся. Сын – в женку твою, таким же раскорякой живет; Людка другая – там нет-нет да и тебя видать.
Лелька, Лельця моя! Не поймал тебе дед золотую рыбку, не свозил к морю за янтариком. Усмехнулся и прошептал в усы: «Впредь тебе, невежа, наука, не садися не в свои сани». Только санки я тебе и смастерил; будешь кататься да меня вспоминать.
Через месяц Лелькины именины, спохватился он, а я без подарка, срам какой. Дождаться бы. Он промокнул краем простыни потный лоб и прикрыл глаза…
В прошлом году правнучке исполнилось четыре года. Таечка принесла куклу с косами из пакли и глазами, которые то открывались, то закрывались. Лелька гордо носила лупоглазую красавицу по всей квартире, пока, наконец, не усадила с другими куклами, где новая утомленно обрушила веки. Тогда Ира протянула имениннице пакет в оберточной бумаге.
Из жесткой, корявой завертки был извлечен… рыжий портфель. Небольшой, с блестящим веселым замочком и упругой ручкой, в Лелькиной руке он почти касался пола. Внутри были аккуратно сложены книги и одна тоненькая тетрадка. Схватив все это богатство в охапку, Лелька со щенячьим визгом бросилась к бабушке.
– Мама, зачем это?… – недовольным голосом протянула Тайка и пожала плечами.
Старуха и Надя, обменявшись красноречивыми взглядами, одновременно направились в кухню. Максимыч же захромал к сараю, где пробыл недолго, а после обеда попросил у Лельки портфель – проверить, в порядке ли замок.
Замок оказался в полной исправности, а когда девочка снова открыла портфель, внутри лежал новенький пенал. Присев на корточки, она стала сосредоточенно начинять обновку карандашами; только маленькие пальцы дрожали. Гулкая глиняная копилка, разрисованная под кошку, осталась в сарае, за поленницей.
Из-под окна за девочкой снисходительно наблюдала кукла, которая, кстати, так и не получила имени, а только длинный титул: «кукла-с-закрывающимися-глазами».
От шалопутный, рассердился на себя Максимыч, так мало времени, и о чем – о кукле! Нет, о Лельке. О четвертом поколении.
Пришла медсестра, поменяла бутылку в капельнице. Кивнув на пустующие кровати, спросила:
– Не скучно? Никто летом болеть не хочет, – и сама засмеялась.
Так ведь и я не хочу, подумал старик. Разве болезнь спрашивает?
В этой палате никто не задерживался. Вначале поселили маленького, сгорбленного старичка. Он двигался короткими шаркающими шажочками, а за ним шла, стараясь не обогнать, румяная сестра в тесном халате и несла узелок с вещами. Старичок едва кивнул, но было видно, что не от спесивости, а просто берег силы. Присев на кровать, он сипло и тяжело дышал, а потом начал развязывать узелок. У него так сильно тряслись руки, что Максимыч хотел было помочь, но постеснялся: мало ли, свое есть свое; прикрыл глаза и незаметно задремал. Когда проснулся, было уже темно и соседа слышно не было – спал, свернувшись в бесшумный комочек, сам похожий на узелок.
С утра Максимыча повезли куда-то в лифте на носилках, причем пожилой санитар ругал второго, помоложе: как ты завозишь, разве так можно?… Головой разверни, головой вперед!.. Вернувшись в палату, Максимыч увидел на кровати старичка серьезного мужчину лет пятидесяти, с полными, как у женщины, руками и прозрачным зачесом на плоской лысине. Казалось, вчерашний старичок каким-то чудом помолодел, так что Максимыч даже машинально поискал взглядом узелок. Новый сосед решительно повернулся к нему:
– Пижама, говорю, полагается или нет?
Тот же вопрос он задал санитарам, раздраженно приглаживая ладонью зачес, и старику показалось, что от приглаживания лысина становится все более плоской.
Потом опять была пытка запахами: развозили обед. Старик отвернулся к окну, а сосед наставительно объяснял раздатчицам, что в Республиканском госпитале ему полагалась пижама и здесь полагается. Ловкая рука поставила Максимычу на тумбочку чашку с бульоном, и он, сдерживая дурноту, с нетерпением ждал, когда тележка отъедет.
Это было для старика самое мучительное: завтрак, обед и ужин. Язва стала капризной и отторгала все, что пахнет. Улегшись в кровать после очередного приступа рвоты, он вспомнил, что и такое уже было раньше: чужие запахи. В Ростове, когда мамынька лежала в тифу, а он каждый день приходил в больницу, его сразу охватывал тревожный, пронзительный запах. Больничный воздух был так насыщен им, что нечем было дышать, и когда милосердные сестры проходили мимо быстрыми шагами, от их платьев тоже шел этот запах.
Или вот: удушливый, горький дым от горящего парохода, когда бомбили. Первый запах войны. Очнулся – точно в Ростов попал: молодой доктор, от которого пахло так же резко и пронзительно, аж в горле щипало. Удушливая пыль и тяжелый дух от потных, раненых, страдающих людей в эшелоне; второй запах войны – запах боли. Потом, в военном госпитале, уже перестал его замечать, принюхался; да и доски привезли, чтоб нары сколачивал. А чище, чем свежее дерево, разве что ребенок пахнет.
В доме у Калерии был, как и во всех домах, свой дух. Тоже поначалу непривычно казалось: то ли не хватает чего-то, то ли что-то лишнее, только не понять, что. Потом перестал замечать, привык. Даже хлеб иначе пахнул, Мать Честная!
Когда мучают чужие запахи – это и есть тоска. Ведь и старичок тот приносил вместе с узелком свой запах, вспомнил Максимыч. И унес.
Новый сосед, в борьбе обретя вожделенную пижаму, удалился в коридор вместе с фабричным уксусным запахом новой ткани. Интересно, что он так и не вернулся, словно лег в больницу из-за пижамы. Зашла санитарка, сдернула белье с его кровати и унесла, свернув вместе с одеялом.
А как пахнут свежие стружки! Деревом, смолой, теплом, солнцем…
Был доктор, послушал трубкой, что-то записал в тетрадку и посоветовал гулять. Славный доктор, спокойный.
Теперь еду приносить перестали, только чашку с питьем ставили, но даже воду глотать стало трудно.
– А бабе худо будет, – вслух сказал Максимыч, открыв глаза. Он лежал в палате один. – И сны не с кем будет гадать. Да что сны – и дрова, и топка, все самой; а зимой как?…
В окне было ярко-голубое небо и густая зеленая крона дерева. После обеда больница затихла. Максимыч долго ловил ногами жесткие дырявые тапки, закапанные почему-то белой краской, встал на ноги и надел халат. Попрошу, пусть мои принесут, что ж я чужую рвань таскаю.
Тапки оказались непослушными, поминутно соскальзывали. Старик медленно шел по коридору, стараясь не оступиться. За полураскрытой дверью громко разговаривали две женщины: одна неуверенно, другая авторитетно и жестко. «А тут чего писать?» – «Где?» – «Вот: причина смерти…» – «Пиши: отек легких. Остальное патологи впишут». Что-то упало со звоном, и тут же запело радио:
Мишка, Мишка, где твоя улыбка,
Полная задора и огня?
Помер кто-то, Царствие Небесное рабу или рабе Божией. Старик перекрестился.
На лестнице тоже висел репродуктор, и лукавый голос втемяшивал Максимычу:
Самая нелепая ошибка —
То, что ты уходишь от меня…
Хирург, которого Федя нашел не без помощи всесильного пана Ранцевича, был похож на пожилого Буратино. Колпачок из старого носка давно износился, и его сменила белая крахмальная шапочка. Из-под шапочки торчали соломенного цвета стружки. На остром носу сидели старомодные очки, явно перешедшие по наследству от кроткого шарманщика. Наблюдая угловатые, шарнирные движения Буратино, Феденька изумлялся, как он завоевал славу блестящего хирурга. Буратино дернул его руку своей жесткой деревянной ладонью и кивнул носом:
– Очень приятно.
Его звали Теодор Карлович Бубрис.
– Очень рад, – улыбнулся Федя. При других обстоятельствах такое хорошо подогнанное имя его бы развеселило, но сейчас смешно не было.
Круглые усталые глаза Буратино смотрели деловито и серьезно. Говорил хирург так же, как двигался: короткими рывками, словно экономя фразы и слова. Кивок носом обозначал точку.
– Видел снимки. Обширная карцинома. Пальпировал. Желудок. Плюс двенадцатиперстная.
Федя ждал продолжения, хотя куда уж. То ли от бессильной злости, то ли заразившись римской лаконичностью собеседника, он спросил:
– Операция?
– Застарелая. Поздно. Неоперабельна.
– Метастазы? – не унимался Феденька.
– Пищевод. Кишечник не обследовали. Но. – Хирург пожал острыми плечами.
– Сколько?… – голос у Феди сел, но врач понял.
– Зависит как организм. Метастазы множественные. Месяц. От силы.
– Я вам очень признателен, доктор, – Федя перешел на нормальный язык и вынул из кармана приготовленный конверт.
Буратино резко мотнул головой.
– Коллега. Адаму кланяйтесь. Однокашник. Звоните, если. – И встал, упрямо не глядя на конверт.
Что – «если», ломал голову раздосадованный Федор Федорович; «если» – что? Но ничего придумать не мог, тем более что мешало радио, из которого назойливо пел развязный мужской голос:
Самая нелепая ошибка —
То, что ты уходишь от меня…
* * *
Хлопот прибавилось: начался учебный год. Тоня часто и гордо произносила непривычные строгие слова: «факультет», «конспект», «семинар». Крестник возвращался поздним вечером, охотно вступал в беседу, энергично кивая рассыпающимся пробором, но по счастливым голубым глазам становилось понятно: ничего не слышит и вообще не здесь он. Все так же улыбаясь, тыкал разлохмаченной щеткой в зубной порошок, проводил по щеке первым попавшимся полотенцем и валился с закрытыми глазами на раскладушку; с утра исчезал. Признался матери, что Милочка приедет к нему в Севастополь, как только окончит институт, и спохватывался, что не зашел к деду; завтра. Ирина тихо радовалась, да и как не радоваться, если сынок счастливый, а Милочка не только на редкость мила – вот магия и власть имени! – но и умница. Дай им Бог…
Труднее всех приходилось Лельке. Утром она завистливо наблюдала, как Людка с Генькой уходят в школу. Утешало одно: портфель.
Они с бабушкой ходили проведать Максимыча, и Лелька нашла в траве каштаны в игольчатой кожуре. От Максимыча пахло больницей, но если обнять за шею крепко-крепко, закрыть глаза и принюхаться, то все-таки Максимычем тоже.
– Ты скоро домой придешь? Мы с бабушкой Ирой твои чибы принесли и носки тоже, но ты лучше в них дома ходи. Вчера мне бабушка Матрена бусину подарила, насовсем: смотри! Она такая драгоценная, я ее в пенале держу.
Девочка вытащила из кармашка продолговатую темно-красную бусину.
– А Генька и Людка в школу ходят, – грустно добавила она, – и там за партой учатся. Я в книжке такую картинку видела. В школу все дети носят синюю форму и портфель. Бабушка Ира мне такую форму сошьет. Потом. Хочешь, я тебе бусину оставлю?…
Он машинально взял тяжелую кругляшку, нагретую детскими пальцами, и сидел, держа Лельку на коленях. В своих тапках, которые в семье все называли уютным словом «чибы», Максимыч приободрился.
– Бог даст, выйду отсюда, наберусь силенок, смастерю тебе парту. – К именинам не управиться; може, хоть к Рожеству. «Помоги, Царица Небесная», просил старик и ясно видел эту парту, и знал в то же время, что – нет, не успеть.
– Поедем с нами домой, Максимыч, сядем на диван и будем книжки читать. Меня во дворе цыганкой зовут, – продолжала она без перехода. – А ты мне расскажешь про бывало, и как ты цыганом был?
– Чего ж – «был». Я и есть цыган. – Старик тщательно разгладил усы. – Моя мамаша цыганкой была.
– Бабушка Матрена?! – Лелька в изумлении вытаращила глаза.
– Да не! Моя мамка. Она уж покойница, Царствие ей Небесное, – Максимыч перекрестился.
– А баба Матрена тебе не мама? Старик засмеялся:
– Нет. Она ж твоей бабы Иры мамка, вон сама спроси у ней.
– А почему ты ее мамынькой зовешь?
– Да привык. У нас пятеро ребят было, и все: «мамынь-ка» да «мамынька», ну так уж и пошло.
– Ты посиди сама или каштанчики поищи, – встревожилась Ира, – дед устал тебя держать. Ему полежать надо, да и лекарство пить пора.
Она поставила Лельку перед скамейкой и поправила платьице. Только сейчас Максимыч заметил обручальное кольцо на левой руке дочери. И старуха будет на левой носить, догадался он. Называться будет не жена, а – вдова. А снимет как, ведь больно? Он представил полные, красивые руки Матрены. Разве с мылом, и то… О чем я думаю, Мать Честная?! О главном надо, о главном!
В своих чибах идти было намного легче, хоть ноги все равно дрожали. Совсем никудышный стал, подумал с досадой. Толкнул дверь в палату и чуть не зашиб долговязого прыщавого парня. Новый. Молодой совсем, как Левочка. Болезнь-то не спрашивает.
Старик ждал внука и очень надеялся, что тот придет один. Попрощаться тихонько, и к месту; до Черного моря далеко, когда еще приедет. В том, что Левочка придет в больницу с ножиком, дед не сомневался. Сначала спросить, а потом… а то сам нипочем не догадается.
Что ж такой молодой в больницу попал, думал Максимыч, вытянувшись поверх одеяла. Лицо парня было скрыто книжкой.
– Это к вам, наверно, приходили, – новенький отодвинул книжку. – Вы Иванов будете?
– Кто? – старик привстал на кровати, словно парень мог знать.
– Не знаю, летчик какой-то. И с ним еще одна, такая… с косами. Медсестра сказала, что вы в парке.
Ах ты, Мать Честная! Знать бы, так подождал бы, суетился Максимыч, запахивая халат. Бог даст, встречу; посидим на воздухе.
Больничный парк пустел – люди спешили к ужину. Со стороны улицы послышался звон трамвая. Поблизости никого не было видно. Гасло небо. Над входом зажегся фонарь, устроив сумерки. Кусты сразу стали темнее и гуще. От скамейки донеслись негромкие слова. Фонарь, легко покачиваемый ветерком, нарисовал на песке два увеличенных силуэта и отчеркнул широкой полосой скамейки. Старик узнал голос внука, но подходить не спешил; остановился. Девушка откинула голову и сказала: «Я тебя здесь подожду. Ты скоро?» Тот слегка наклонился к спутнице и тихо-тихо, как очень счастливые люди, засмеялся: «Сейчас», но не шевельнулся.
Осторожно ступая по песчаной дорожке, Максимыч двинулся обратно. Хорошо, что в своих, хоть с ног не сваливаются. Шел и улыбался, зачем-то выравнивая усы, и опять улыбался. «Вот оно как, – произнес негромко. – Вот как!» – повторил с торжеством кому-то – не иначе как Царице Небесной. Он и парню в палате хотел сказать, по-видимому, то же самое, но парня, как и следовало ожидать, там не оказалось, только лежала примятая подушка и книга, перевернутая домиком на постели.
Когда старик снял халат, что-то твердое упало и медленно покатилось по полу. Он нагнулся, держась за спинку кровати, и поднял Лелькину бусину. Осталось лечь и согреть ее в ладони.
Трамвай долго не приходил. Зажглись фонари и, покачиваясь, тускло отражались в рельсах.
– Бабушка, – обернулась Лелька, – а во-о-он моленная наша, смотри! Ты плачешь, бабушка Ира? У тебя голова болит?
Плохие вести расходятся быстрее добрых, растекаются злыми едкими ручейками. Федор Федорович здесь ни при чем, ибо никому, кроме пана Ранцевича и Тони, о беседе с хирургом не рассказывал.
Мамыньке решили не говорить. Ире – тоже:
– Не слепая, – раздраженно бросила жена, – видит отца каждый день; сама должна понимать, к чему идет.
Братьям? Ну, о младшем и говорить не приходилось: его трезвым и застать-то трудно. Хотя отец есть отец, нерешительно вступился Феденька, который своих родителей не помнил, а когда хоронил тетку, извещать было некого.
– Я говорю, нет! – высоким, напряженным голосом воскликнула Тоня, и муж замолчал.
– А вот Мотяшке обязательно…
Но печальный этот разговор был прерван длинным звонком. Это пришел Мотя, прямо с работы: узнать, что врачи говорят. И посмотрел на Феденьку с боязливым ожиданием.
Конечно, его приход был вполне объясним логически: отец болен, сын переживает, а муж сестры – человек знающий, сам доктор, хоть и зубной. Но ведь Мотя позвонил в дверь, как раз когда говорили именно о нем! Да и не принято было являться к Тоне без предупреждения, всегда заранее сговаривались через мать, которая единственная была абсолютным исключением из этого правила и служила надежным и безотказным диспетчером. Опять-таки, ситуация экстремальная: это не Симочка в поисках спасительной рюмки, так что даже и гостем не считался, тем более что жил в двух шагах. Однако рассказчик качает головой: нет, это передалась мысль. Старший брат услышал непостижимым образом, что речь идет о жизни и смерти – вернее, теперь о смерти, – и постиг это не в тот момент, когда было названо его имя, а раньше, когда супруги только начали тяжелый разговор; потому и сел в трамвай, идущий не к дому, а в противоположную сторону, к сестре.
Детям, конечно, знать ни к чему; с этим согласились все. А вот мамынька… Тихий, всегда уступчивый Мотя упрямо покачал седеющей головой:
– Мамаша должна знать. Проститься надо, а то не полюдски получается.
– К чему ей целый месяц душу мотать?… – возмущалась сестра.
– Месяц от силы, – поправил муж, – а если раньше? Он же на глазах тает. – От какого момента следовало начать отсчет гипотетического месяца, и сколько от него осталось, Федор Федорович и сам не очень понимал.
– Пускай Ира скажет, – настаивал брат, все и всегда безоговорочно доверявший старшей сестре.
– Она ничего сама не знает, – обронила Тоня не то чтобы высокомерно, а – недовольно.
– Сестра – знает, – Мотя сделал паузу, – ей говорить не надо.
Условились, что мать Тоня возьмет на себя и осторожно, не сразу, но скажет… Проститься надо.
Тонина миссия, как ни странно, смягчила ее собственную реакцию: нужно было самообладание и хладнокровие для двоих. Она объяснила матери, что Федор Федорович беседовал с докторами и что доктора весьма обеспокоены папашиной болезнью. Федор Федорович вызывал… разговаривал… проконсультировался… Дочь умышленно наградила обоих консультантов профессорским званием, потому что с лица мамыньки не сходила скептическая недоверчивость.
– Что ты мямлишь, – рассердилась старуха, хотя Тоня говорила четко и уверенно, тщательно подготовившись к нелегкому разговору. – Что ты плетешь?! Да и что они знают, твои доктора, – продолжала Матрена, одним махом разжаловав мнимых профессоров в их истинную должность, – что они знают?! Ну ты сама посуди: то к чахоточным свезли, то теперь здесь держат! На кой человека в больнице гноить, если вылечить не могут? Пустили бы домой, я бы его враз подняла!.. Ты скажи Феде, – наставительно продолжала мать после возмущенной паузы, – пусть спросит там: може, его не так лечат? Тогда к свиньям собачьим таких докторов! А если язву резать надо, так пускай режут: надо, так надо.
Даже если судить только по «свиньям собачьим», старуха разъярилась не на шутку. Слово «черт» в семье было под строжайшим запретом, и даже такой допустимый эквивалент употребляли нечасто.
Дочь напомнила, что резать надо было раньше, может быть, несколько лет назад, а теперь время для операции упущено. Что язва вовсе не язва, говорить не стала, – к чему?
– Он ведь крепкий был всегда, – горячилась мать. – Помню, я в Ростове тифом болела, – ты не можешь помнить, ты трехлетняя была, – так он ко мне каждый Божий день ходил – и хоть бы хны! Ирка один раз прибежала – и свалилась, а он… По сколько лет, говорят, люди с язвой живут!
Какие «люди», кто ей такое сказал, изумлялась дочь, но хорошо уже, что дело начато. Постепенно, постепенно; сразу нельзя.
С протяжным звоном хлопнула дверь парадного, и Матрена вышла на улицу. Ласковое сентябрьское тепло не смягчило ее гнева. Брови напряглись и сблизились, румянец молодил лицо, походка превратилась в поступь. Не сбавляя решительного шага, она свернула на Столбовую, но не направо, к Симочке, а в противоположную сторону. Через полчаса удивленно чмокнула больничная дверь: хлопка не вышло.
Дверь же в палату была и вовсе без пружины, да и хлопать как-то расхотелось: старик спал. Он лежал, запрокинув голову и чуть приоткрыв рот, как очень усталый человек. Матрена с недоумением смотрела на торчащую бородку, синие губы, точно чернику ел, и странно побледневшие рыжеватые усы, пока вдруг поняла: поседели. Под горлом, между торчащими ключицами, тихонько пульсировала маленькая ямка – будто слабый родничок. Старуха задела ногой табуретку, и муж открыл глаза:
– Мамынька?…
– Что ж тут понаставлено хламу под ногами, – она пыталась недовольным голосом замаскировать растерянность. Деловито придвинула охаянную табуретку к кровати; села. – Ну? – требовательно обратилась к мужу, – сколько ты тут будешь казенные тюфяки пролеживать? Точно дома уже и делов нету. Ручка от буфета, знаешь, левый ящик, где Надька вилки держит? – ручка расколовши, так она веревку привязавши и так, за веревку, ящик тягает, слыханное дело! Потом, стуло дальнее, что у окна стоит, шатается; я могу Мотю попросить, да у него своих делов…
Помолчали. Матрена расправила сбившееся одеяло, и Максимыч, взглянув мельком на правую руку с венчальным кольцом, еще раз подумал, как трудно будет его снимать, и о том, что надевал-то кольцо он, а снимать – ей.
– Матреша, – начал он, и старуха испугалась: это когда ж он ее так называл? Давно… когда? Когда папаша мой померши был, вот когда. И после Лизочки, на кладбище уже. – Ты прости меня, Матреша, – просто и серьезно сказал муж. – Столько прожили, никого у меня роднее нету.
– Бог простит, – строго ответила мамынька.
Это старик знал сам. Он ждал прощения от нее, слова или знака, но лицо жены, как всегда при упоминании Бога, сделалось вдохновенно-неприступным. Максимыч дернул с досадой кончик уса, но старуха молчала. Это тоже было, подсказала память, когда на коленях стоял, и палка рядом валялась. Тогда, после войны. А для нее – после Кемерова.
Максимыч ухватил тощую складку одеяла, словно держался за нее обеими руками.
– Матреша, – снова произнес он, – ты свози Лельку на море… после меня. Помнишь, как мы с ребятами там жили, в мирное время?
…Дачу снимали сразу за дюнами, чтобы не тащиться караваном к пляжу, а выйти за калитку – и море. Снимали сразу целый дом, чтобы хватало места для взрослых детей и внуков. Старуха мечтательно улыбнулась, не вспомнив даже, а – увидев все сразу: нежные струйки клубничного сока на взбитых сливках, хрупкие плечики внуков, на глазах покрывающиеся загаром, «бабушка-можно-мы-пой-дем-купаться» и счастливый визг. Вспомнила – увидела, как они со стариком входят в серо-зеленую воду и терпеливо идут до третьей мели, где, наконец, и начинается купанье. Для них с Ириной это означало дальний и долгий заплыв туда, где вода была намного холодней и угрожающе отблескивала тусклым угольным цветом. Потом, бодрые и освеженные, они плыли назад, спокойно переговариваясь и вспоминая глубокие воды Дона. На песке кутались в толстые махровые халаты и лежали, наслаждаясь отдыхом и любовно наблюдая за детьми. Тайка в свои… сколько ж ей было тогда?., десять? нет, одиннадцать, – была таким же прирожденным пловцом, что и доказала как-то раз, паршивка эдакая. Ира целый день пролежала пластом в темной комнате.
– Ты помнишь? – домогалась Матрена. – Ни говорить, ни исть не могла. Я ее святой водой кропила; помнишь?
– Да… – Старик подумал: а сам вспомнил бы? Навряд. Вот если б море приснилось, тогда бы вспомнил.
– Пора мне, – заторопилась старуха, – что ж рассиживаться. Надо еще в хлебную лавку по дороге зайти.
И мне пора, Матреша, чуть не сказал старик в дверной проем.
* * *
Дома никого не было. Положив на буфет коричневую буханку, Матрена направилась прямо к шкафу и, встав на коленки, вытащила из-под него жестяную коробку. Пыли на крышке не было, ибо на днях старуха что-то уже искала. Нашла, нет ли – неизвестно, однако ж бусина Лельке от щедрот досталась.
Сначала она пробовала приподнимать верхние слои с угла в надежде найти искомое; куда там. Промокнув концом головного платка верхнюю губу, отдышалась и стала методично перекладывать свои реликвии в крышку. На флердоранжевой диадеме несколько лепестков скрутились, как фитильки, и старуха бережно их расправила. Морщинистая папиросная бумага облекала елочного ангела – увы, даже ангел не ведал еще о полиэтилене, – а под ним лежала матовая коричневая фотографическая карточка. Матрена вынула ее и стала долго и пристально рассматривать.
Небольшой, как уменьшенная открытка, снимок был сделан с необыкновенной четкостью, хоть предмет изображения не поражал оригинальностью. На больничной кровати очень прямо лежал пышноусый старик, в изголовье и в ногах стояли медицинские сестры. Удлиненные платья, строгие, прямые передники и небезучастные лица возвращали к эпохе сестер милосердия. Все трое смотрели в объектив, смотрели внимательно и спокойно. Их взгляды, а также безукоризненная геометрическая правильность постели, возможная только, когда человек не озабочен уже потребностью двигаться, делали кровать одром смерти, чем она и была. Отец смотрел прямо на Матрешу, смотрел обреченно и тоскливо, будто стараясь насмотреться и запомнить навечно.
Помяни, Господи, душу усопшего раба твоего Ионы. Старуха перекрестилась на иконы и поцеловала твердую картонку.
Воспоминания, как это часто случается, потекли от смерти в живое прошлое, словно нитка клубка разматывалась. Там, в клубке, таилось плотное ядро жизни, а снаружи только запыленный, разлохмаченный конец нити. Могучая фигура Ионы Спиридонова уже возникла однажды в этом повествовании, и за ней даже показался на миг силуэт его тихой, кроткой жены с хлопотливым именем Сиклитикея. Да как не хлопотать: четверых сыновей и столько же дочерей родили и всех, слава Богу, вырастили, что по тем временам бывало ох как нечасто. Жену Иона называл Тишей, да она и была такой: тише всех. Старшим сыном был Феодор, старшей дочерью – Ксения, очень рано выданная замуж и до времени овдовевшая. Больше всех помогала матери в доме Матрена, потому и привыкла она командовать как братьями, так и сестрами, а перебравшись с мужем сюда, к самому синему морю, позаботилась о том, чтобы переехала ее семья. Отец, долго проработавший бакенщиком на Дону, сменил без лишних слов одну реку на другую, а бакены – они и есть бакены. Тиша дождалась внучки и даже понянчила ее немножко, а других Матрешиных деток не увидела: занемогла и слегла, да больше и не встала. Сохранилась фотография, где она сидит, приобняв рукой трехлетнюю Ирочку, а слева стоит младшая дочка Акулина, коей на вид никак не больше одиннадцати.
Когда гроб с женой опустили в ярко-желтый сыпучий песок, – послушно разматывался Матренин клубочек, – Иона остался жить с незамужними дочерьми. «Девки, – хмурился он, – хорошенько стирайте мне рубахи, как мамаша покойная!» Да только незамужние дочери были обеспокоены своим затягивающимся девичеством и все усилия затрачивали не на стирку отцовских рубах, а на поиски женихов, что в перспективе сулило им все ту же стирку рубах. У Матрены уже было двое детей, так что стирки и кипячения куда как хватало. Нет-нет да и забегала замужняя дочка Ксения – не столько помочь, сколько ужаснуться и попенять сестрам. «Смотрите, – сердился отец, – не будете как следует ухаживать за мной, возьму да женюсь!»
Как уже упоминалось раньше (тоже клубочек нитку раскручивал, только в мирное время, обернувшись нарядным и праздничным серпантином), Иона всегда был немногословен, да и те немногие слова не привык бросать на ветер. Не успели дотрепетать на ветру запоздало выстиранные льняные рубахи, как отец женился.
Несмотря на то что все слышали его угрозы, изумлению детей не было предела. Сколько ему тогда было лет? Родился он в год смерти Пушкина, не подозревая, впрочем, о смерти поэта, как и тот, во гроб сходя, не узнал о рождении Ионы Спиридонова; стало быть, второй раз шел под венец в шестьдесят девять лет, а это вам не фунт изюму, как говаривала Матрена, играя соболиными бровями. Более того, женитьба отца явилась предметом особой семейной гордости, ибо взял он за себя девушку. Старую девушку, поправляли те, кто не понял пока, как относиться к этой женитьбе, хотя двух мнений быть не могло: вот они, венчальные свечи, а девушка хоть и «старая», так ведь далеко не старуха – Марфуше еще тридцати не было.
Соскучившись от долгого девичества, Марфуша любовно стирала, гладила и просто, но сытно кормила мужа, а через год счастливые родители стояли над купелью; дочь была крещена Руфиной. Других детей от этого брака у Ионы не было, но скептики и так пожимали плечами: принято было считать, что старик женился ради стирки, а тут… Несмотря на уговоры дочери, отец в эвакуацию не поехал и пережил смутное антихристово время, деля свою жизнь между домом и рекой, где бакены никто не отменял, а значит, их следовало зажигать и гасить вовремя. С Марфушей и подросшей дочкой встретил вернувшихся из Ростова и молча выслушал их скорбный рассказ.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































