Текст книги "Жили-были старик со старухой"
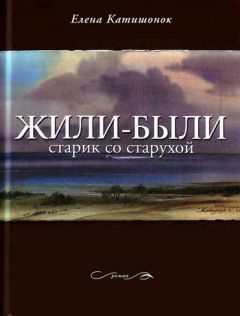
Автор книги: Эмиль Брагинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Самое ошеломительное заключалось в том, что никто из прославленных полковых донжуанов тут замешан не был. Земфиру привел к есаулу за руку образцовый казак Максим Иванов. Привел – и повалился в ноги, прося снисхождения и дозволения жениться. Понятно, что столь сложный вопрос есаул самолично разрешить не отважился, а потому, отложив ненужный теперь бинокль, отправился с докладом опять-таки к войсковому старшине.
Земфира не могла – или не хотела – ответить, куда направился табор, а если бы и ответила? Что, сниматься всем полком, мчаться искать ветра в поле, чтобы выменять капризную беглянку на пропавших лошадей, которые могли уже быть то ли перекрашены, то ли проданы, а скорее, и то и другое вместе? Э-э-э… Капризной, впрочем, барышня не была и выражала полную готовность кочевать с полком так же, как прежде с родным табором, но только в качестве мадам Ивановой.
Получив, наконец, дозволение начальства, счастливая пара отправилась прямиком к полковому батюшке – венчаться, но тут выяснилось, что невеста-то некрещеная! Валиться в ножки, однако же, не пришлось: опытный отец Порфирий принял решение цыганку крестить, а потом переходить к венчанию. Земфиру звали Ланой. «Елена, стало быть, – творчески вдохновился батюшка, – именины будешь праздновать одиннадцатого июля».
Alaguerre, как известно, сотте alaguerre. Сразу после крестильной купели невеста встала под венец, после чего была отправлена в обоз, а через год с небольшим отец Порфирий окунал в ту же купель младенца мужеска пола, нарекши его Григорием.
С тех пор население обоза – а значит, и полка, да и всея России – увеличивалось каждый год на одного Иванова, отчего круг обязанностей батюшки расширился. Это, впрочем, нимало не тяготило отца Порфирия и даже нравилось, что каждый младенец крепко вцеплялся смуглой ручонкой в рукав его рясы. Гордая и счастливая мать неизменно обвязывала запястье новорожденного красной шелковой лентой – от сглазу. Трудно представить, как эта миниатюрная, ловкая, очень молчаливая женщина, будучи постоянно беременной, умудрилась не только устроиться в обозе без помех, но и за десять с чем-то лет мужниной службы произвести на свет восьмерых детей! Не этой ли генетической закваской объясняется молчаливое умение ее потомков ужиться в советских коммунальных квартирах?… Но это – в далеком «потом», а детскую свою жизнь среди казаков, благословение отца Порфирия и возвращение в Ростов первенец Максима Иванова помнил: в свои восемь лет он был матери по плечо.
…В палате было темно, и только из-под двери лениво тек этот неживой свет. На теплом августовском небе густо толпились звезды, и казалось, сосновая ветка вот-вот сметет их одним взмахом.
Максимыч пытался вспомнить, когда он в последний раз видел сразу так много сосен. Надо Лельку взять на взморье и гулять, просто гулять… Как в той книжке, у самого синего моря. Пустить босиком по воде, а там, небось, и янтарик найдет, с такими-то глазищами.
Вспомнился янтарный мундштук у доктора. Сам он и не изменился почти, только полысел.
Свою мебель старик всегда помнил; заказчиков быстро забывал. Эту пару запомнил. Начать с того, что очень не хотелось браться: он терпеть не мог ремонтировать чужую работу. Однако просил старый заказчик, уверяя, что в накладе мастер не останется, словно только в этом было дело. Сам и отправился на Малоцерковную: если небольшой ремонт, так чтоб сразу сделать, и к месту.
Оказалось, что при переезде повредили цветочный столик. Хозяйка сняла вазу и так стояла с вазой в руках, но Максимыч не торопился вынимать инструмент. Ведя твердым квадратным ногтем вдоль трещины, объяснил, что починка бессмысленна. Новый сделать – могу. Колыхнулась дверная портьера, и вышел хозяин. Он курил папиросу и сказал что-то жене по-польски прямо сквозь дым. Знакомые шелестящие звуки уютно плыли в сиреневой струе, и Максимычу вдруг тоже стало тепло и уютно. Хозяин перевел на него выпуклые голубые глаза: «Нельзя ли склеить?…» Старик тронул усы и спросил, наливает ли пан вино в бокал с трещиной? Склеить – можно, но куда пани поставит цветы?
Ответил – и сам удивился, как легко выговорились слова, спасибо матушке, Царствие ей Небесное.
Необъяснима власть родного языка! Самое простое слово становится паролем. Его произносят губы, а слышит – и отзывается – сердце. Что будет потом, окрепнет ли душевная связь между говорящими или все исчезнет, как только в воздухе растает последнее слово, неважно; пароль назван.
…Столик получился на славу или, как выразились хозяева, файный. Пан Ранцевич заказал письменный стол и даже старательно нарисовал его, жестикулируя папиросой. Для жены он попросил смастерить туалетный столик, но рисовать уже не стал, развел беспомощно руками. Она сама взяла карандаш, покрутила в руках эскизик и объяснила, что хотела бы столик «таки сам», только поменьше и с зеркалом. Они говорили вместе, и старик изумился, насколько муж и жена были похожи, не имея внешне ничего общего, кроме худобы. Сходство было в манере улыбаться, чуть наклонив голову к плечу, и в самой улыбке, а также в привычке жестикулировать, разговаривая, причем жесты были так похожи, будто принадлежали не двоим, а одному человеку. Но больше всего Максимыча поразило, что они произносили одновременно одни и те же слова, и когда это случалось, улыбались тоже одинаково, чуть прикусив нижнюю губу.
Оба заказа он делал сам, и хоть вначале хмыкал скептически, вспоминая «таки сам», но вещи непостижимым образом получились похожими. На крышке туалетного столика, в уголке, старик попросил Фридриха сделать маленькую инкрустацию, инициалы польки: FR. Как же ее звали?… Забыл.
Да, а младшего Ранцевича увидел, когда привозили готовые заказы; увидел и сразу понял – сын: такие же выпуклые глаза и улыбается, наклонив голову к плечу. Молодой Ранцевич первым сел за новый стол и, одобрительно кивая, стал выдвигать ящики. Справный вышел стол, старик был доволен. Стойка для мундштуков, которых у хозяина было немало, и вертикальные гнезда для писем и бумаг привели его в восторг; естественно, что на рисунке ничего этого не было. Когда же Максимыч нажал под крышкой плоскую стальную педаль и сбоку плавно выскользнула дополнительная панель, поляк восхищенно присвистнул. Точно такой же педалькой выдвигались ящички для драгоценностей в туалетном столике. Поляк поспешно начал расставлять мундштуки; и янтарный там был, совсем как у сына. А может, тот и был? Янтарь долго живет…
Вот на море поехать – и идти по песку, а то прямо по воде: ракушки светятся розовые, промытые, волна сразу след зализывает, будто и не прошел; а янтарик нет-нет да и встретится.
Он отрывал глаза от сосен и опять ложился – если лежать, тошнило меньше.
Днем старик иногда выходил в коридор, надев на исподнее линялый байковый халат. Ходить было неудобно: тросточка осталась дома, а полы были гладкие и блестящие, ноги скользили. Халат попался на редкость тяжелый и давил на плечи, точно вязанка дров. Да и не с руки было отлучаться: несколько раз его принимались искать, чтобы опять везти куда-то на носилках. Уж хоть бы спокой дали.
«Дали спокой» через два дня. Накануне Феденька, сняв очки и спрятав за пальцами усталые глаза, уговаривал, что все делается на диво быстро. Впрочем, никакого дива здесь не было, кроме расторопной обязательности Серой Шейки, той самой обязательности, которая сама по себе уже становится дивом.
На привычных носилках Максимыча привезли в тесную комнатушку без окон со смешным названием «бокс», где позволили переодеться. Это было особенно приятно: свое – оно и есть свое, хотя уже пахло больницей. Надо будет Иру попросить пуговицы на рубашке перешить, чтоб воротник не болтался, а то куда это… Санитар позвал его дальше, где были окна и двери с матовыми стеклами, а за столом сидела не то сестра, не то докторша, у которой помады было больше, чем рта. Удивляться было некогда. Докторша назвала его по фамилии, потом сложила картонные створки, завязала ленточки – точно младенца спеленала – и сказала вроде по-русски, но старик ничего не понял:
– Тэбэцэ мы исключили. Вы не наш больной. Вас переводят. – Она вильнула вбок, будто Максимыч ей кого-то заслонял: «Сопровождающий!»
Сзади вынырнул санитар, который и принял в руки завязанную папку. Ну да, Федя же говорил – в нашу повезут, догадался Максимыч и поблагодарил, но докторша уже сомкнула помаду и не ответила.
Глядя в наполовину замазанные белой краской окна медицинской машины, Максимыч не успевал увидеть, где ехали: машину трясло, и он почувствовал дурноту. Закрыл глаза и увидел крышку туалетного столика с буквами. Фелиция, вот как ее зовут!
18
Старуха была недовольна зятем: если доктора ничего у Максимыча не находят, чего ж держать? Ни дай ни вынеси. Если б еще тут, рядом, а то загнали, куда ворон костей не заносил. И ведь знала, что Федя что ни день ездит туда, но брови держала наготове.
Обе дочери и Мотя тоже хотели проведать отца, но Феденька запретил категорически: туберкулез, страшный риск. Интересно, что никому не приходила в голову мысль о его собственном риске; точнее, не думать об этом, конечно, не могли, но как-то само собой разумелось, что медицинская профессия обеспечивает ему надежный иммунитет. Дети и племянники тоже донимали Федю, пытаясь увязаться в компанию, чтобы навестить деда. Изменив своей обычной мягкости, он раздраженно посоветовал сыну думать об экзаменах, а всем остальным прочитал лекцию о туберкулезе, который в его описании сильно смахивал на средневековую чуму.
Единственный человек, не выказавший охоты отправляться по следам ворона с костями, была мамынька. Лекция ей не понадобилась: старуха и впрямь боялась чахотки, и само желание добровольно тащиться туда, где люди мрут от этой заразы как мухи, вселяло в нее могучий страх здорового человека перед болезнью.
– К тому же, – говорила она Тоне, – еще не известно, кому труднее, больному или здоровому. Он там лежит, прохлаждается, а я что, двужильная?! Сейчас у Симочки была. Дети в соплях; Валька совсем замучивши, под глазом синяк, все ко мне другим боком поворачивалась. Я и говорю: «Ты что, с кондуктором говоришь, что ли? Или я тебе чужая, что морду воротишь? Лохмы-то убери; а то я не вижу, что глаз подбит».
Мамынька помолчала, давая Тоне осмыслить нарисованную сцену; продолжала:
– Плакала, плакала, я уж думала, родимчик с ней сделается. Что, спрашиваю, опять поспорили? А она чуть не заходится: «Не до знесеня, не до знесеня…» Это Симочка такой пьяный пришел, что через губу не плюнет; как спать завалился, она в карман полезла, достала с бумажника деньги, хотела, говорит, взять всего ничего – дети не евши. А он увидел, что в карман лезет, ну и отметелил: вся в синяках. Може, он и когда читый колотит: первых-то двух кормила, а на Сабинку молоко пропало. Я смотрю, в кухне пусто, дети макароны твердые грызут. Что ж ты, говорю, не сваришь эти макароны? А она все: «Не до знесеня, не до знесеня». Хорошо, у меня пышки были спечены, я как знала: дай, думаю, пышек напеку, снесу туда. Они хватают пышки исть, а сопли так и текут. Я говорю, дай платок, надо вытереть, на кой с соплями исть, а она…
Мамынька достала из рукава собственный вышитый платочек, словно для иллюстрации; потом с негодованием подвела итог:
– Ты подумай, у ней платка чистого – итоне было!.. Если бы не Юрашины экзамены, из-за которых весь дом трясло как в лихорадке, Тоня негодовала бы вместе с матерью. Теперь же старухин рассказ вызвал у нее не сочувствие, а раздражение. Сколько же можно, в самом деле. Тебе домой пышки приносят, а ты и сама в истерике рассопливилась, и детям нос вытереть нечем! Она знала, что мать наверняка сунула невестке какие-то рублишки да велела в чулок спрятать, не иначе. Знала, что брат придет опохмеляться – тут уж не надо к гадалке ходить – и что она Бог знает в какой раз начнет его вразумлять, а следующий раз совпадет со следующим похмельем. Знала, что сегодня начнет перебирать старые вещи – слава Богу, на антресолях все сложено, чистое и целое, и завтра же заглянет с тючком к Вальке. Не забыть что-нибудь из еды, что хранить можно, печенья там, вафель… О Господи, да разве вафли – еда для детей?! Тоня раздражалась все больше. Как можно допускать, чтоб он столько пил? Вот мать рассказывала, что папаша в молодости тоже любил выпить; так не сравнить с Симочкой! Кто, наконец, в доме главный – женщина или мужчина?!
Тонино раздражение разгоралось в праведный гнев – не против невестки, нет, а против ее бестолковости. Как же можно настолько не уметь жить, Господи! В гневе Тоня олицетворяла собой всех праведных жен, уже нагнувшихся за камнем, чтобы бросить в жен неправедных, и никого не было рядом, кто простер бы руку: помедли. Пока еще не поздно, пока не брошен праведный камень, попытайся увидеть не ее, а – себя, запудривающую синяк на лице и, чтобы успокоить плачущего малыша, дающую ему пудреницу поиграть; себя, вынимающую непослушными пальцами пятерку из бумажника и тут же отброшенную в угол мощной рукой твоего… не мужа, нет: твоего освободителя, отца твоих детей. Помедли…
Она остановилась и прислушалась: из кабинета доносились шаги сына. Потом шаркнул стул; упала книга. Завтра физика. Когда Левочка рядом, Юраша нервничает меньше, да тот и с физикой поможет. Не то чтобы знал лучше, спохватилась она ревниво, но требовали с них в училище как следует – иногда объясняет лучше, чем Федя.
– Раз ты меня не слушаешь, так я домой пойду, – недовольным голосом сказала мамынька, но с места не двинулась, только расправила юбку на стуле. – «Эта» в деревню поехала. Отпуск у ней.
«Этой» старуха называла Надю, и указательное местоимение вместо обычного «Надька» всегда обозначало спад в температуре отношений.
Матрена, легко забыв оригинальный сценарий, была свято убеждена, что «пустила эту в дом» только по своей ангельской доброте, а значит, «эта» должна быть по гроб благодарна и постоянно свою благодарность выказывать. То, что невестка не валилась в ножки и не благодарила поминутно за оказанную милость, старуху гневило постоянно.
– Мало что спасибо не скажет, так ведь нахратная какая: то дверью хлопнет, то надерзит. Ну а дети – известно: как матка, так и они. Я тебе говорила, что Генька в мой шкаф лазил? Ничего вроде не пропало; а только я думаю на замок запирать, на кой мне такое надо – в моем доме, за мое добро?! Раз я ее пустила, она должна жить «нагнись да поклонись»; а она фыркает и морду воротит. Геньку ты видала, он вон какой бугай стал! В наше время отец с матерью таких женили.
Обернувшись к трюмо, поправила платок. Вдруг вспомнила:
– А про Левочку слыхала? – Мамынька оживилась и, глянув на дверь, продолжала вполголоса: – С барышней гуляет. Кто такая, не скажу – не знаю; они все друг дружке письма писали. Еще со школы знакомые. Она училась в женской школе напротив, а сейчас где-то в институте, в России. Теперь на каникулы приехала. Ирка ходит именинницей, а я думаю, что не вовремя: молодой совсем.
Тоня с досадой передернула плечами. Она тоже была уверена, что племянник влюбился совсем не вовремя, потому что завтра у Юраши экзамен, и пусть бы Левочка лучше занялся с ним физикой, чем с барышнями гулять. Конечно, рано. Задело ее и то, что принесла такую новость мамынька, а сам племянник ни гу-гу, хотя живет-то у нее, крестной… Странно даже. Что ж я ему, чужой человек?…
– Вот я и говорю, – неожиданно резюмировала мать, – еще не известно, кому труднее: больному или здоровому?…
Вопрос был чисто риторический, ибо по законам Матрениной логики труднее было, как ни крути, здоровым, что она и доказала с блеском.
* * *
Новости были такие хорошие, что Феденька летел домой со всех ног. Во-первых, сын сдал физику на четыре балла; на днях будет известно, примут или нет, но похоже, что примут. Во-вторых, тестя перевели в Еврейскую больницу, о чем ему сообщил очень довольный пан Ранцевич, которому сразу же и позвонила Серая Шейка.
Еврейской больнице было не привыкать к тому, что пациентов навещали часто, заботливо и многолюдно, однако больного Иванова Г. М. только-только перевезли из приемного отделения в палату, а посетители уже нагрянули в таком количестве, что казалось, он вселился сюда со всеми родственниками. Они текли густым потоком, так что врач махнул рукой и скрылся в ординаторской.
Не пришли только Надя с детьми, уехавшая в деревню, и Тайка, которая не уезжала никуда, но едва ли знала, что дед в больнице, ибо давно не появлялась дома. Младший сын пришел вместе с Тоней и явно не без ее помощи как в деле похмелья, так и в посещении больницы. Глаза у него сильно опухли и покраснели, но выглядел он вполне прилично и даже пахнул не водкой, а французским одеколоном. Этот запах Феденька с удивлением узнал, не признав, впрочем, на Симочке ни своей рубашки, ни галстука. Об одеколоне, который тот глотнул для куражу, почему-то побаиваясь встречи с отцом, Тоня решила не говорить.
У Феденьки тоже были красные глаза – от недосыпа, то есть от физики.
Молодежь толпилась у окошка, Лелька громоздилась на кровать и уже расшибла коленку; Матрена громко требовала, чтобы старик поел яблочного пирога, у которого она даже корку срезала.
Федор Федорович, потоптавшись несколько минут в палате, пошел знакомиться с врачом.
Остальные, как это обыкновенно бывает в больнице, то набрасывались на старика с разными по форме, но одинаковыми по содержанию вопросами, то вдруг одновременно замолкали. Наконец, Тоня с Павой устроились поговорить на свободной кровати. На другой, тяжело привалившись к спинке, маялся Симочка, а рядом переминался с ноги на ногу Мотя, решительно не зная, что сказать брату.
– Хватит галдеть, – строго одернула детей Тоня, подымаясь, – вас тут целых семеро, пойдите лучше в парк.
– Там каштанов пропасть, – проговорил старик, чуть приподняв голову и с тоской глядя вслед Левочке. Не успел про ножик… В другой раз, когда один придет.
Матрена твердо сидела на табуретке, чуть раздвинув колени для устойчивости, и обмахивалась платочком. В ноябре ей стукнет семьдесят, но если бы не огрузневшее тело, то ни по гладкому, почти без морщин, лицу, ни по прямой осанке ей невозможно было дать больше шестидесяти. Ровно и строго повязанный платок скрывал седину, а Феденькины зубы делали улыбку молодой и уверенной. Она старела красиво и с достоинством. Зорко и строго вглядывалась в мужа: нет, чахоточным он не выглядел; разве что мелким каким-то и серым. Лицо, руки и грудь, видневшаяся в вырезе рубашки, – все было нездорового серо-желтого цвета. Она испугалась, заметив крупные, выпирающие ключицы, и вспомнила, какими большими и чужими выглядели ногти на руке, когда он спал. Перевела взгляд на руки – ногти показались ей еще крупней. Что ж его там, не кормили, что ли?
В ординаторской Федя задержался. Уже была послана в архив и вернулась медсестра, и они сидели с доктором, склонившись над пыльной, жесткой от плохого клея историей болезни, поминутно заглядывая в новую, привезенную из туберкулезной больницы.
Врач Феденьке понравился. Средних лет, спокойный, без гонору; из тех тягловых лошадок, которые работают многие часы за малые деньги. Он быстро и привычно отыскивал нужные листочки, сверял; пробегал глазами абсолютно нечитаемые, на Федин взгляд, записи; вынимал упругие, пружинящие в руках рентгеновские снимки и внимательно рассматривал их на свет.
– Молодцы фтизиатры, – сказал он наконец. – У нас такая работа заняла бы месяца два, и то не наверняка. Он часто жалуется на боли?
– Он вообще не жалуется, – ответил Федя.
– Я почему спрашиваю: я не уверен, что у вашего тестя язва.
– А что тогда? Ему давно уже язву диагностировали!
– Федор Федорович, если язва подтвердится, это в нашу пользу. Боюсь, однако, вас обнадеживать, но это очень похоже на бессимптомный рак, и весьма запущенный. Да, симптомы есть, только… Не хочу каркать, но это уже другая симптоматика. Будем проверять на метастазы.
– Но его смотрел профессор… – Федя хрустнул орешком фамилии; доктор кивнул.
– Да, вот его запись: хроническая язва желудка, вопрос; CANCER, вопрос. Профессор рекомендовал консультацию хирурга и операцию в обоих случаях. Больной отказался; потом у нас перерыв… значительный. Он в поликлинике наблюдался? Ну да, я так и думал; а жаловаться, вы говорите, не любит.
Доктор быстро набросал план диагностики. На среднем пальце у него было чернильное пятно, как у сына, и это почему-то немного успокоило Федора Федоровича.
– Хирургов у нас не хватает, – закончил врач. – Если есть возможность, постарайтесь выйти на кого-то – одна голова хорошо, а две лучше.
Сразу возвращаться в палату Федя не стал: по лицу догадаются. Он посидел в парке, выкурил папиросу. Чтобы оттянуть время, вошел в здание через другую дверь. Пусть поговорят, давно не виделись, малодушно уговаривал он себя.
В чужом отделении запах антисептики был особенно пронзительным и резким. Хирургия, что ли? Он подошел к стенгазете. Один нижний угол был прикреплен не кнопкой, как другие, а пластырем. Бросался в глаза написанный то ли тушью, то ли зеленкой крупный заголовок: «ВНЕДРИМ ОПЕРАЦИЮ НЕФРОПЕКСИЮ ПО РЕВОИРУ ПРИ НЕФРО-ПТОЗЕ В МОДИФИКАЦИИ ПИТЕЛЯ-ЛОПАТКИНА». Ниже шел обильный текст. Прочитав гордый заголовок, Феденька не мог сдержать смеха. Так, смеясь, он двинулся к выходу, останавливаясь, чтобы вытереть очки и глаза.
Из палаты выходила Ира, держа за руку внучку.
– Дядя Федя, – сказала девочка, сияя, – а мне дедушка Максимыч обещал рака поймать!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































