Текст книги "Жили-были старик со старухой"
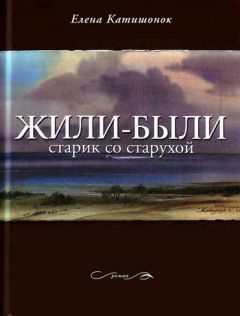
Автор книги: Эмиль Брагинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 26 страниц)
Матрена смотрит на старую карточку и удивляется, что на смертном одре отец почти не изменился лицом, но куда девалась исполинская фигура, размах плеч? Ну, да карточка маленькая, приходит успокоительная мысль. Разматываясь, нитка клубка несколько раз запутывалась, но потом выравнивалась, а самого клубочка-то осталось всего ничего – так, смятый комочек, искривленный наподобие почки. Папаша ничем никогда не болел, и Матрена силилась припомнить, от какой же болезни он помер? Что-то доктор говорил о почках, но это всплыло сейчас, а тогда… Тогда она дохаживала с Лизочкой, Царствие ей Небесное, и была уверена, что помер он от старости. Шутка сказать – восемьдесят три года. Да и никак это не было похоже на болезнь, убеждала она кого-то. Пришел вечером с работы, рассказывала Марфуша, умылся и начал делать свою излюбленную тюрю: лук порезал, хлеб покрошил, да только оставил почему-то, крошки на столе сдвинул холмиком и – лег. Наутро подняться не смог, а в больнице… Сколько он в больнице лежал? Клубок размотался до конца, оставив куцую нитку… Вот тебе и вся жизнь, додумывала она уже без клубочка, снова опустилась на колени и задвинула коробку под шкаф.
И вовремя: хлопнула входная дверь, брошенная Генькой и радостно подхваченная сквозняком, и сразу же затараторила Надька. В собственном доме спокою нету, с досадой подумала старуха. Так хотелось закрыться, запереться и никого не видеть, остаться наедине с укатившимся клубком… Она зачем-то открыла дверцу шкафа и бесцельно передвинула несколько вешалок. Нету спокою, нету… Внизу лежали сложенные «на всякий случай» вещи, или, вернее было бы сказать, черновики вещей: нечто раскроенное, но по какой-то причине не сшитое, перевязанное ленточкой из той же ткани; или, наоборот, распоротое и заботливо сложенное; дежурная стопка одежды на починку, нитки… Все клубки давно пора собрать в мешок, вдохновилась старуха, а то катаются по углам, что ежики. Нашелся и мешок. Она собирала клубки и клубочки, как картошку, и уже мысленно прикидывала, из чего можно связать жилетку на зиму, как тусклое семечко упало на пол, но не осталось лежать, а неуверенно запрыгало и опять плоско закрутилось в воздухе. Моль. От-т паскуда! Весной все упихала нафталином; это теперь нафталин такой делают. Она решительно сдвинула брови. Хочешь не хочешь, весь шкаф перебирать надо. Снова мелькнул в воздухе прерывистый золотистый штрих, резко пресеченный властным хлопком. Завтра же все проверить, не то сточит… как язва какая.
20
Хоть Симочка отродясь не знал, кто такой Симеон-летопроводец, это не мешало ему гордиться, что начало бабьего лета приходится на его именины. Мать обязательно зайдет поздравить, а ближе к вечеру и Тоня… со своим индюком. Сестра щечкой дернет, будто графиня у пивного ларька, а индюк руку пожмет и торт на стол поставит. Чем на такой торт деньги выбрасывать, лучше бы хоть раз бутылку «беленькой» принес… Это ж почти две выходит! Да где там, держи карман шире. Тонька еще в кухню пройдет, так это, бочком, чтобы крепдешины свои не загваздать, и начнет из сетки харчи доставать. Чай, консервы всякие, детям лакомства. Подачки. Конечно, у нас паркетных полов нету, детей на пианино не учим, зато угостить – угостим. И портвейн есть, и водка припасена (он взглянул на початую бутылку), и закусить найдется. Мы живем по-простому, а только ни у кого милостыню не просим. Именинник гордо расправил плечи.
Ирка не придет; оно и лучше. «Грех, Сеня, грех: женись, чтоб перед Богом и людьми…» Дочка у ней – та совсем другая: забежит, папироску-другуто с ним за компанию выкурит, а то и рюмку выпьет.
В кухне что-то булькало. Валька уронила крышку от кастрюли, и было слышно, как она со звоном покатилась по полу. Безрукая, пся крев.
– Папа, там копейка, – Сашка, гундосый, как всегда, протягивал руку под стол.
Отец посмотрел вниз.
– Во-первых, не копейка, а двадцать копеек, это разница. А во-вторых, – продолжал он, разогнувшись и держа в руках раздавленную алюминиевую крышечку от «маленькой», – уйди из-под ног, не мешай.
Налил рюмку. Семен-день! Беззвучно выпил. Посмотрел на возившихся детей в линялых, застиранных одежках, на тусклые стены, захватанные и лоснящиеся на высоте детского роста. Встал и потянулся за пиджаком. Чем сидеть, лучше мамыньке навстречу пойти. Мол, так и так, пригласить хотел. Минуя кухню, глянул исподлобья: Валька резала лук, вытирая плечом слезы. Швырнул дверь: поплачь, поплачь.
Она плакала сегодня два раза: сначала получила письмо от матери, а затем «получила» от Симочки, который не успел перехватить конверт и, разорвав, спустить в уборную. По-польски Симочка не читал, и письма были ему не нужны, а только и ей без надобности, что он Вальке и демонстрировал, швыряя в унитаз голубые клочки. Вот так-то. Сегодня она встретила почтальона на лестнице, когда шла за молоком, поэтому на протяжении короткого пути в магазин, а потом в очереди она была счастливой Вандой и на обратном пути тоже чувствовала себя Вандой. Улыбаясь, Ванда спрятала голубой конверт, потом спрятала улыбку, но мысль спрятать не успела: жалко было расставаться с нею так быстро. Между тем мысль-то передается, даже если люди думают на разных языках. Впрочем, нужен ли вообще язык для передачи мысли, если эта мысль ярко эмоциональна, если живущий ею счастлив или, наоборот, скорбит?… Однако же эти рассуждения принадлежат целиком рассказчику, а Ванда, переступив порог квартиры и все еще светясь от полученного письма, была встречена Симочкой. Она поставила бутылку с молоком и сняла жакетку, а когда обернулась, увидела твердую вытянутую ладонь: давай. Ну!.. Ванда растерянно выгребла сдачу из кармана жакетки и протянула ему, а через несколько минут опять стала Валькой: кофта была растерзана, щека горела. Победитель смял письмо, и шум спускаемой воды был почти заглушён детским плачем.
Старухин маршрут именинник знал наизусть. На подходе к родительскому дому выкурил папиросу и приготовился к мамынькиному угощению.
Дверь открыла Людка и сказала: «Здрасссьть», а поздравить не поздравила; племянница, называется. Когда Симочка в последний раз приходил сюда с гостинцем, он запамятовал; так ведь не о нем речь – о воспитании.
Он мазнул костяшками пальцев по Ириной двери – вроде постучал – и сразу же дернул за ручку:
– Мамынька?…
Ответила сидящая на горшке Лелька:
– Бабушки Матрены дома нету.
Симочка знал, что мать держала в шкафу настойку из черной смородины; хорошая настойка, крепкая. Он шагнул к шкафу, но был неприятно удивлен: дверца оказалась заперта, однако ключ, против обыкновения, в скважине не торчал. Озадаченно и с досадой подергав дверцу, он раздраженно спросил у девочки:
– Что ж у вас все заперто, воров боитесь?
– Это чтобы каждый лайдак не шнырял, – пояснила Лелька, не прерывая главного занятия.
На лестнице Симочка опять закурил. К Тоньке зашла, не иначе; не к Мотяшке же. Этот, небось, тоже вечером придет, со своей колодой вместе. Или не придет. Правду никто не любит; он сам в этом убедился, когда назвал Мотю дезертиром. На мамынькиных, что ли, именинах… Да нет! У Мотьки в гостях и было, в прошлом году. Так в глаза и сказал, ему стыдиться нечего. Выпил, конечно; так ведь правду сказал, и не за спиной, а в глаза. А правду-то и не любят.
Кепки чередовались с платками; ближе к центру замелькали дамские шляпки. Чаще и настойчивей звонили переполненные трамваи: люди ехали с работы. Лошадиные копыта извлекали из брусчатки ксилофонный звук, стучали колеса телег. Рванула пулеметная очередь: с грохотом промчался на самокате мальчишка с застывшей в воздухе ногой.
– Пора на стол накрывать, – нерешительно сказала Валька.
Она принарядилась и завила волосы. Дети, умытые и одетые во что-то немыслимо красивое и яркое, присланное польской бабкой, жевали печенье. Симочка медленно выцедил полную рюмку и, расстегнув ворот рубашки, еще раз окропил шею одеколоном. Семен-день!
А вот и первый звонок: идут.
– Сам открою.
Он шумно отодвинул стул, распахнул широко дверь и увидел зятя. Одного, без Тони и без торта.
– Что ж вы по одному, – именинник выставил нижнюю челюсть, вроде улыбнулся. – Ну милости просим!
Федя ошарашенно вдохнул водочные пары, глянул на нарядных детишек и праздничный стол.
– Отец умер. Похороны послезавтра.
Твердо отцепил Симочкины пальцы от своего рукава и вышел.
День похорон приходился на среду. Все печальные и необходимые хлопоты: панихиду, похороны, поминки – под знаком буквы «П», отчего, должно быть, она и зовется «покоем», взяли на себя Тоня и Мотя. Старшая дочь неотлучно была с мамынькой: слава Богу, от отпуска оставалось еще два дня.
Матрена не плакала, не убивалась, а пребывала все время в стойком недоумении, даже брови не выдавали смятения, а как приподнялись 14-го сентября, так и остались приподнятыми, словно в ожидании чего-то. Она молча и упрямо крутила венчальное кольцо, плотно и преданно льнувшее к привычному пальцу; намыливала и трудилась опять. Надя посоветовала смазать постным маслом, и теперь казалось, что у старухи два кольца: на левой выпуклое золотое, а его глубокий оттиск – как тень – на правой. Все это старуха проделала в полном спокойствии.
– Шок, – непонятно объяснил Феденька, – блокада. Может быть, вначале и лучше.
Ира видела, как мать медленно достала из шкафа черное платье, черный платок и так же хладнокровно переоделась. Повернулась было к завешанному зеркалу, потом к дочери:
– Поправь мне платок сзади.
По дороге в моленную она подробно рассказала, как изничтожила моль, а то ведь какую шкоду могла сделать! Пришли, наконец. Всю панихиду старуха отстояла с такими же выжидающими бровями и очень спокойно; свеча в руке не дрожала.
Лельке тоже дали свечечку. Максимыча ей видно не было: он лежал очень высоко в гробу с серебряными кружавчиками, а на полу были набросаны еловые ветки. Пахло Рождеством. Бабушка Ира поставила ее рядом с лесенкой, которую сделал Максимыч. Лелька с удовольствием забралась бы на лесенку, чтобы увидеть деда, но боялась, что заругают: сегодня все очень строгие, да и лесенка выше ее самой, а в моленной падать – это грех. За Максимыча Лелька была спокойна, потому что он воскреснет, как Исус Христос. Она нарочно поставила его чибы прямо к дивану. Может, они вернутся, а Максимыч уже дома!..
Мама взяла ее за руку:
– Пойдем, Ляля.
Гроб закрыли, и он стал похож на дом под крышей, только без окошек. Жалко, что не стеклянный, а то качался бы на цепях.
Дорога шла в гору, и гроб несли очень бережно, чтобы не оскорбить торопливым толчком или резким наклоном. Пересекли серую брусчатку Большой Московской, про которую никто, кроме Максимыча, не знал, что она похожа на рыбу, только сейчас она была не замороженная, а выброшенная на мель и занесенная песком, но все равно – рыба. Все, кто отстоял панихиду, двигались следом. Первые ряды были совсем ровные, черные и безмолвные, дальше от гроба группки становились пестрее и озвучивались, люди перетекали из одной в другую, негромко переговариваясь.
Семейное кладбище располагалось на пригорке. Старуху держали под руки сыновья, и было видно, что держат крепко. Ира и Тоня с мужем стояли рядом. Гроб, казалось, отдыхал после извилистого пути по улицам и кладбищенской тропе. С противоположной стороны встали невестки; пространство между ними заполнили внуки. Только двое самых младших не пришли проводить деда: Ванда оставила их на соседку. Остальные одиннадцать, похожие и разные, взрослые и подрастающие, смотрели то на гроб, то на высокую горку ярко-желтого тяжелого песка. Здесь же стояла маленькая правнучка. Песок уже набился в обе туфли, но снять их и вытряхнуть она не решалась. Другие родственники деликатно рассредоточились позади плотными неровными рядами.
Кадило в руке батюшки было похоже на тяжелый послушный маятник. Звучащие слова отличались от привычных так же, как запах ладана от коптящей лучинки, но что-то нет-нет да и проникало в уши.
Приидете на гроб, братие…
Был только полдень, третий день бабьего лета, очень светлый и теплый.
Воистину суета всяческая житие се, сень и сон…
Густая сень деревьев почти не шевелилась, словно для того, чтобы не мешать словам, медленно плывущим в ароматном дыму:
Господня есть земля, и исполнение ея, вселенная, и ecu, живущие на ней…
Неожиданно для себя самой заплакала Надя. Слезы лились по румяным щекам, и батюшка читал дальше, а она долго еще слышала это: «Господня есть земля…»
Левочка слушал не столько звучные слова, сколько смиренный голос. Казалось, это дед говорит ему: «Вот так отпусти пружину, видишь – крючок. Это когда лошадь захромает, ты первым долгом слезь и проверь копыта: бывает, камешек попадет, ей ступать больно. Ты этим крючком камень подденешь, и к месту! Я так и знал, что ты сам не догадаешься». И потом, задумчиво: «Самолеты самолетами, а там как знать. Може, и на коне оказия будет когда».
В недрах Авраама, и Исаака, и Иакова…
Не один Лева, вслушиваясь в отпевание, слышал другое. В ушах Федора Федоровича звучал изумленный голос патологоанатома: «Подумайте, какое сердце, какое сердце богатырское! Да он с таким сердцем прожил бы еще двадцать пять лет!» Почему двадцать пять, а не двадцать или не тридцать, откуда он это взял?! И сам патологоанатом, и юбилейная цифра двадцать пять Феденьку безмерно раздражали; примиряло только скорбное изумление в голосе врача. А сейчас он стоял над открытой могилой и думал теми же словами: какое сердце, Господи, какое сердце…
Куда-то пропало легкое облачко, и желтизна холма сразу утратила свою яркость. Солнце ринулось на рыхлый песок широкой, щедрой струей, чтобы согреть его влажную тяжесть. Точно так же когда-то солнце, которое так любил Максимыч, падало на ворох стружек, и он от безграничного счастья мог только вымолвить: «Мать Честная!..» То же самое солнце ровно залило кладбище, превращая черный цвет в серый, обесцвечивая дымок ладана и заставляя щуриться не только от слез.
Рабу Божию преставлешемуся, Григорию, ему же погребение творим. Вечная память…
Матрена вздрогнула, словно ее окликнули громко, и внимательно посмотрела на батюшку.
…прости его и помилуй. И вечныя муки избави. Небесному Царствию причастника учини. И душам нашим полезное сотвори.
Маятник кадила послушно качнулся еще раз, батюшка перекрестился и легонько кивнул. Из-за кустов вышли четверо в кепках, деловито продвинулись к могиле и каждый ухватил конец бесконечно длинного полотнища. Не переговариваясь, а только обмениваясь взглядами, начали ровно опускать гроб в яму.
И Матрена закричала, запрокинув к небу гладкое лицо в черной оправе платка, закричала сильным, высоким и совсем беспомощным голосом. Не в открытое море, а в разверстую землю, в желтый плотный песок уходила старухина золотая рыбка. Уходила, ничего не сказав и не простив ее… Оба сына, большие и сильные, крепко держали мать под руки, но старуха не билась, не рвалась: она тянула ввысь свой долгий отчаянный крик, надеясь, что сам Царь Небесный услышит и – сжалится, отпустит раба Божия Григория.
Тоня рыдала, чуть заметными движениями поправляя черную кружевную мантилью. Ира стояла, не отводя глаз от песка, сложив руки замком и словно оцепенев. Левочка полез в карман за платком, нащупал нож и вдруг заплакал, пряча лицо в новенькую фуражку.
Были брошены первые горсти земли, давно усыновившей старика, и казенные люди в кепках ловко швыряли лопатами песок вслед ему, а Лелька так и не сумела заглянуть в яму, откуда Максимыч будет воскресать, поэтому ей тоже стало грустно.
Третьим днем бабьего лета началась суровая старухина зима. Они прожили вместе пятьдесят лет и три года.
21
Теперь следует продолжение – рассказ о старухе.
Жила-была старуха.
Она осталась жить, держа на коленях – или в жестяной коробке, что хранится под шкафом, или в памяти, неважно, – все еще не размотанный клубок. Он лежит, съежившись, и нужно просто потянуть за конец нити… Но нитка легко обрывается, отслаивается от клубка, как обрывается и остается в пальцах следующая, и опять… Он источен молью, этот небольшой уже клубок, и рассказчику – да и старухе – предстоит связывать надсеченные концы.
История не окончена. Старик умер, но осталась старуха, и не в радость ей ни новое корыто, ни соболья душегрейка… Они жили долго, но не умерли в один день. Не всегда жили они ладно, это правда; но только став вдовой, Матрена поняла, что была счастлива. Да-да: пятьдесят три года под одной крышей, семеро рожденных детей, боль и страх друг за друга только таким словом и можно назвать. Другие властные три «К»: кровля – кровать – кровь связаны не этимологией, но общей судьбой, и надежно связаны; а треугольник – самая жесткая фигура…
Старуха осталась жить, плохо представляя, как это делать, но смутно зная, что так нужно.
А на следующий день Лева уехал в Севастополь. Долгая дорога в поезде не оставила ему времени, чтобы познакомиться с попутчиками за картами, домино или пивом: лежа на верхней полке, он потрясенно думал о мгновенности – и бесконечности – своего отпуска и впервые уезжал с сосущей тревогой в сердце.
Ира проводила сына на вокзал, вернулась домой и легла на кровать, не откинув даже покрывала. Когда мать пришла из моленной, она все еще спала. Зная аккуратность дочери, старуха изумилась, что на одной ноге был надет тапок, а вслед за этим удивилась самой себе, как она обратила внимание на такой пустяк. Подошла к кровати и похолодела: Ира тихо говорила что-то по-немецки, а в полуоткрытых глазах светлели одни белки.
Матрена забыла перекреститься. Она велела Лельке быстро обуться и через бесконечные полчаса, бормоча: «Господи, помилуй, Господи, спаси и сохрани» уже звонила к Тоне в дверь.
– Так надо было «скорую» сразу, – растерянно заметалась дочь.
– Чтоб опять к чахоточным свезли, – старуха устало опустилась на стул. – Дай спокой…
Здесь нитка опять невесомо повисла в воздухе, но это не беда: дальнейший ход событий мало чем отличался от недавно описанных: шляпка, зеркало, сумочка, щелчок замка.
Вечером, приехав из Республиканского госпиталя, Федор Федорович сказал, что пока ясно только одно: необходимо срочно оперировать. Будут делать трепанацию черепа.
– Это что ж, голову трепать будут?! – не поняла мамынь-ка.
Зять принялся было осторожно объяснять, но Тоня решительно перебила:
– Лелинька останется у нас; может, и ты, мама?… Но старуха опустила ладонь на стол:
– Нет, поеду. – Безымянный палец был ровно перерезан глубокой канавкой. – Нет, – повторила она, – мне домой надо.
По пути она вышла у моленной, где поставила две свечи: одну за упокой раба Господнего Григория, другую – за здравие рабы Господней Ирины; домой шла пешком.
В Андрюшиной комнате было тихо: ушли. Она села за стол, сложив руки на скатерти и глядя то на огоньки лампадок, то на их отражения, растянутые боками самовара. Это уже было, вспомнила Матрена. Сидела вот так же одна, и лампадки теплились; ждала старика с войны. Сейчас она одна не была: вот-вот появятся невестка и внуки, но нечем было верить, что повернется его ключ в замке; а все остальное – так, как было тогда…
Теперь нужно было ждать дочь.
Завтра первым долгом – в больницу… Нет, сначала к Тоньке: и ребенок там, и ехать в такую даль лучше вместе.
Интересно, что, думая и говоря о правнучке, старуха, как правило, употребляла нейтральное слово «ребенок». Иногда, впрочем, появлялись другие слова, окраски отнюдь не нейтральной и рассчитанные на взрослого собеседника, – да и то, разве ребенок в таком возрасте может знать, к примеру, слово «ублюдок»? Нет, конечно; откуда. Нет, Матрена нечасто роняла такие поганые слова: ребенок-то не виноват; и гневно крестилась. Называть, однако, правнучку по имени отчего-то избегала – во всяком случае, делала это редко. Может быть, она так и не простила любимой внучке произвольный выбор имени, а скорее, не до конца простила обиду, которую та причинила старухе самим фактом появления на свет такого ребенка.
В корзине с чистым бельем лежали только вещи мужа, выстиранные и выглаженные. Надо проверить шкаф, отобрать что осталось и снести в моленную, пусть отдадут в богадельню. Собрать все в узел – не являться же в храм с корзинкой. Старуха вдруг увидела себя в коридоре моленной – растерянную, с узлом в руках: «Вот… вещи моего мужа… покойного. Може, кому Христа ради…» и явственно услышала чужой шепот сзади: «Вдова мастера Иванова…»
Как чудно, думала старуха, он – муж, а я – вдова. Никогда раньше она об этом не задумывалась. Когда сестра Ксения схоронила мужа и тоже стала называться вдовой, Матрена нисколько не удивилась, однако думать о себе: «вдова», более полувека проживши женой, было диковинно. Вдова – это как сирота, вдруг поняла она.
В комнате на полу валялся платок дочери – соскользнул с головы, когда увозили. Швейная машина замерла, подавившись клетчатым ломтем. Ирка уже двенадцать лет вдовствует, да и эта… Надька вон тоже. Молодые бабы; что ж мне Бога гневить. Чуть дрогнул маленький твердый рот, но слез не было. Нагнувшись за платком, она увидела под креслом газетный сверток и догадалась: из больницы.
Тоня сложила вещи второпях, и старуха зачем-то стала разглаживать их руками, но вначале поставила у порога сапоги, на которых осела пыль Большой Московской и двух больниц, а за рант набились песчинки с последней рыбалки. Из-за того, что Максимыч приволакивал ногу, набойка на правом износилась сильнее; короткие голенища были чуть темнее по бокам, где старик хватался за них сильными пальцами, когда натягивал на ноги. Они стояли, почти соприкасаясь побелевшими бугорками на месте больных косточек, а глубокие складки кожи выглядели морщинами на усталом лице. С усилием отведя глаза, старуха вернулась к свертку. Когда она легонько встряхнула жилетку, из кармашка выпал желудь. Откуда, подумала с недоумением, там ведь каштаны, но уже видела, что никакой это не желудь, а продолговатая бусина, точь-в-точь, как та, что она подарила правнучке. Господи, ведь только на днях!..
Да это она и была, но почему у него в кармане?… Може, ребенок играл и оставил, а он держал на тумбочке; Тонька и прибрала, не иначе.
…Только одна эта бусина и осталась от ожерелья сестры Кати, да, в сущности, и от нее самой. Матрена была старше сестры на восемь лет, но глядя на них, никто бы не признал их сестрами. Катя была узкоплечей и сероглазой барышней, со светлыми волосами цвета латуни и такими же блестящими, что среди блондинок редкость. Достигши восемнадцати лет, она заболела скарлатиной и хворала так тяжело и долго, что вернее было бы сказать: помирала. Сколько недель так пролежала, уже забылось; однако встала и осталась жить в полном безмолвии, ибо слух потеряла начисто. Как все почти люди в такой ситуации, отчаянно конфузилась, научилась читать по губам, но инстинктивно стала громче говорить, отчего все испытывали неловкость и раздражались на нее, уже здоровую. Кроме того, стало очевидно, что невзирая на свою редкую миловидность, останется она вековухой: кто ж глухую-то возьмет? Ксения была замужем, Матрена уже с Андрюшей дохаживала. Женились сыновья, оставшиеся в Ростове, но тоже подумывали о переезде. Даже Павлина, которая была только на год младше Кати, поглядывала на сестру немного снисходительно, потому что напротив их дома начал прогуливаться студент и, встречая сестер, снимал фуражку и кланялся. Павля, барышня строгого воспитания, но смышленая, смиренно опускала глаза, но словно бы забывала о не стертой с лица улыбке, которая сопровождалась у нее очаровательными ямочками на щеках. Студент даже зачастил в моленную, хоть был православным. Как Павлина, с глазами долу, разглядела троеперстное знамение, неведомо; а вот ведь…
Что же касается Кати, то никаких иллюзий на свой счет не имея, она даже подумывала о монастыре, и серьезно подумывала. Однако стала прихварывать мать. Акулине, младшей, едва минуло двенадцать, так что все хозяйство легло на плечи Павли и Кати. Студент все так же прогуливался и так же почтительно кланялся, теперь уже не только барышням, но и неразговорчивому их отцу. Что ж, поклон – не разговор; Иона спокойно кивал в ответ. Замужние сестры начали поддразнивать Павлину: хорош, дескать, жених, так и до второго пришествия кланяться будет. Павля огрызалась, хотя втайне гордилась: студент – это вам не фунт изюму.
Схоронили мать. Не заметили, как осень обернулась зимой. Отец выговаривал, что щи простыли. В окне маячила студенческая фуражка. Катя подкинула дров в печку. Павля села под окном со штопкой: темнеет рано. Два раза стукнули в дверь, и отец отпер.
Из рукава шинели студент вытащил посиневшие то ли от холода, то ли от сумерек подснежники и с поклоном протянул… Кате. Она смешалась, залилась румянцем и все показывала рукой на Павлю, застывшую с постылой штопкой в руках, на Павлю, которая сразу все поняла, и даже улыбку не пришлось убирать – откуда ей было взяться, улыбке-то?!
В тот же день студент попросил Катиной руки. Ее глухота не была для него ни секретом, ни препятствием к женитьбе, чем он крепко озадачил Иону, но отныне был принят в официальном статусе жениха. Отцу понравилось и достойное имя Иннокентий, позволявшее надеяться, что православный он только наполовину (что и подтвердилось), и серьезная специальность мостостроителя, с которой через год жених должен был кончить курс в институте; тогда же намеревались и свадьбу устроить.
Через реку как раз достраивали мост, поэтому Ионе часто доводилось встречать мостостроителей. Все они были люди основательные и так же основательно делали свою работу. Иначе и нельзя было: на строительстве моста пьяниц и шалопутов не держали. Понял Иона и то, что коли будущий зять сейчас заканчивает институт, то на работе он не тачку покатит в фартуке, а будет одним из тех, кто с карандашом за ухом командует фартуками. Да только все это вторично, а тронул Иннокентий отцовское сердце преданностью его увечной дочери, вот что главное.
В отличие от Кати жених говорил очень тихо; но, не слыша собственного голоса, девушка так и не научилась модулировать им. В апреле они вместе ходили на открытие нового железнодорожного моста, где Иннокентий пылко объяснял невесте особенности конструкции, словно она видела этот мост. Какое там: доверчиво и чуть напряженно Катя смотрела только на его губы, выговаривающие непонятные слова. Жаль, конечно, что мост был построен без Иннокентия. С другой стороны, мало ли рек в мире, да и здесь еще возникнет нужда в мостах; разве не так?
Оказалось – нет, совсем не так. 14-го июля, все еще в своей студенческой фуражке, Иннокентий оказался на призывном пункте, а спустя несколько дней – на войне. Прощаясь, он подарил невесте бусы, некогда принадлежавшие его матери. Катя срезала тонкую блестящую прядку своих волос, похожую то ли на струйку меда, то ли на текущую по сосне смолу, и, зашив крепко-накрепко в ладанку, повесила ему на шею.
Иннокентий с войны не вернулся. Может быть, тоже оглох от рвущихся снарядов, или был отравлен газами, или потерял память – кто знает? Катя по-прежнему жила в безмолвии, но теперь это было другое, враждебное безмолвие. Ожерелье она не снимала никогда и часто перебирала продолговатые тяжелые бусины, похожие на желуди. Они были выточены из каких-то уральских самоцветов; Иннокентий называл их гранатами, но Катя этого слова боялась: гранаты – это на войне, они-то и убивали людей.
Шло время, менялась власть, язык, деньги, но для Кати не менялось ничего в мировом безмолвии. Сестра Павлина, снова заиграв ямочками, давно вышла замуж и растила детей; Матрена нянчила первых внуков.
В глубине соседнего двора притулилась крохотная постройка – уже не сарай, но еще не домишко; там и поселилась Катя. Звали ее на форштадте Катя-гусятница. Она действительно разводила гусей, но привязывалась к ним так сильно, что трудно было расставаться; однако жить-то надо.
В то смутное время перед второй войной, когда исчез хозяин дома, но старик еще работал в своей мастерской, пришли – и смех и грех – национализировать Катиных гусей. Птицы растревоженно кричали, хозяйка ничего не могла понять по чужим губам, но когда представитель власти загреб переполошенного гуся, Катя замахнулась на него хворостиной. Красный от злости, он схватил и дернул ее за руку так резко, что от рывка порвалась нитка и тяжелые темно-бордовые градины запрыгали по булыжнику. Проходивший мимо Коля услышал необычно громкий гусиный клекот и Катин вой. Как ему удалось урезонить солдат, Бог весть; скорей всего, тем просто надоело выдергивать свои галифе из цепких клювов. Они ушли с несколькими гусями, национализацию которых дружно отмечала вся казарма. С яблоками.
Катя долго ползала по горячим летним камням; да где там! Должно быть, укатились в канаву или спрятались в лопухах, закутавшись в пыль и песок; а может, кто-то из детей нашел: славная игрушка! Сохранилась одна-единственная бусина, которую она, надев на суровую нитку, упрямо носила на груди.
Между тем дивные, латунного блеска волосы превратились в седые космы, а глаза, точно такого же цвета, как море – скорее серые, чем синие – стали обыкновенными старушечьими, бесцветными. Катя заходила к сестре, да и та ее проведывала, а в последнее время и правнучку посылала «снести бабе Кате пирогов», хоть и подозревала, что большую часть сестра скармливала гусям. Лелька медленно шла с теплым узелком по бугристому булыжнику прямо к «избушке на курьих ножках» («не на курьих, а на гусиных», поправлял Максимыч) и боязливо приостанавливалась у Катиной конурки. Первыми выходили гуси, потом Катя. Лелька ее побаивалась: баба Катя говорила очень громко, громче бабушки Матрены, и слушая, смотрела не в глаза, а в рот.
Теперь уж полгода, как некому стало посылать пироги: померла Катя, о чем известили, понятно, гуси.
Можно сказать: война – безвременная гибель – изуродованная судьба. Но может быть, это могучая сила и власть имен? Не утратив своей девичьей чистоты, старухой ушла в могилу Екатерина. Иннокентий, намного опередив ее, лег в чужую землю – невинным.
А мост, на открытие которого они ходили смотреть, пережил обе войны, да и посейчас стоит. Мосты прочнее людей, даже и мостостроителей.
…Когда Катю обряжали, Матрена подержала ненужную бусину в руке – вот как сейчас, – но выбросить отчего-то не смогла, убрала в коробку; а потом отдала правнучке. Кто же мог знать, что она вернется к ней, храня прикосновение ладони мужа?
Если бы старуха узнала, какая вставная новелла родилась в ее теплой руке, согревшей тяжелую одинокую бусину, она ответила бы одной бровью: бздуры. Бусина, монетка ли с маленьким злым орлом или же флакон от духов, лет тридцать назад забывший их аромат – все это было нитями клубка, а если из-под белой вдруг выглядывала блестящая нитка цвета густого меда, то ни одна Матренина бровь не шевелилась: так надо, и к месту.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































