Текст книги "Жили-были старик со старухой"
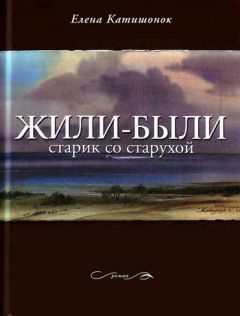
Автор книги: Эмиль Брагинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
14
В Крещенский сочельник мамыньке привиделся скверный сон. Перед этим отстояли вечернюю службу в моленной и домой пришли сильно замерзшие, даже чашку с чаем трудно было держать – красные, распухшие пальцы слушались плохо. Слава Богу, дома было тепло. Окна покрылись махровым инеем, но двойные рамы, заботливо проложенные длинной ватной колбасой, мороз не пускали. И лампадки горели, и перина была взбита хоть куда, а привиделось такое, что лучше бы и не ложилась вовсе.
В этом сне у нее были деревянные зубы. Будто бы тоже Федя сделал – на каждый день, чтобы золотые не снашивать. Однако то ли сделал плохо, то ли материал для зубов неподходящий, но старуха маялась: зубы неровные, занозистые, и жевать надо было осторожно. Только как ни осторожничай, а щепки то и дело откалываются. И главное, Федя тут же, совсем поблизости, да мамынька стыдится сказать, как ей трудно. Тоня и зять знай подкладывают ей на тарелку то одно, то другое, и все жевать надо: копченая рыба, язык… Старухе уже невмоготу, и она решает снять негодный протез, к свиньям собачьим: у нее ведь настоящий есть, фарфор да золото, совсем другое дело; да и к чему беречь, на ее век хватит. Она протягивает руку за салфеткой, в которую завернуты ее нарядные зубы. Но все на нее смотрят; не будешь ведь зубы вынимать на людях! Тарелка у Матрены полнехонька, а Феденька кладет миногу – знает старухину слабость. Она подносит салфетку ко рту и хочет вынуть гадкую деревяшку, однако деревянные зубы сидят крепко, как приросли. Матрена тянет, дергает – ни в какую. Ей страшно, тянет уже обеими руками; и пусть смотрят, лишь бы избавиться… Нет, никак не вынуть; а Феденька утешает: «На ваш век хватит, мамаша». Потом склоняется к самому уху и добавляет очень тихо: «Теперь все будут такие носить». Мамынька показывает салфетку со щепками и пятнами крови, а зять ее успокаивает: «У всех так, мамаша: и кровь, и щепки летят; привыкнете». И повторяет: «На ваш век хватит».
Старуха пробудилась с мечущимся где-то у горла сердцем. Уже наяву вспомнила с сожалением: надо было напомнить Феде, что у нее хороший протез есть, настоящий, не то что эта пакость.
Старик возился у плиты, ловко накалывая лучинки. Не выбежала, как обычно, а пришла из комнаты правнучка, сказала «с добрым утром» и что пить хочет, – иными словами, паскудный сон, слава Богу, кончился, надо было подыматься и жить, хотя бы и с этим пресным деревянным вкусом во рту. Старуха знала, что такой сон отпустит ее нескоро. Чтобы освободиться, надо его разгадать, к чему она и собиралась приступить после молитвы и чаю.
Самые обычные утренние звуки: потрескивание дров в плите, плеск воды в раковине, шарканье подошв – все было заглушено громким детским воплем. Лелька отскочила от стола, опрокинув кружку, из которой теперь лилась вода прямо на пол и на выпавший старухин протез. Пока Максимыч держал перепуганную девочку на руках, старуха крестила ее, кропила святой водой и опять крестила. Зареванная, икающая, она так и сидела у старика на коленках, привалившись к плечу, а он приговаривал что-то про Крещение: дескать, сегодня и праздник такой, вишь, баба тебя опять крестила.
Мамынька, и так находившаяся крепко не в духе от скверного сна, нахмурилась: «Пустое мелешь», но по-настоящему рассердиться не успела, а решительно отставив чашку, положила руку девочке на лоб:
– Да она же горит!
В старых романах каждый уважающий себя герой то и дело теряет сознание, падая без чувств на руки преданного дворецкого, и бывает подвержен таинственному заболеванию под названием «нервная горячка», которая случается по самым пустяковым поводам. Обеспокоенные домашние вызывают доктора, тоже сугубо домашнего, который появляется в белоснежных усах, черном сюртуке и – уж будьте благонадежны – с потертым саквояжем. Доктор тревожно хмурится, а мать – естественно, со следами былой красоты и уже заранее почему-то в черном, сжимает в руке кружевной платок.
Здесь не приходилось рассчитывать ни на преданного дворецкого, ни на мать с платочком или даже без, ни на усы, сюртук и потертый саквояж доктора, – разве что отрядить Максимыча в детскую поликлинику, ближний свет в крещенский мороз. Несмотря на то, что все симптомы правнучки указывали на нервную горячку, Матрена, которая никогда в жизни не злоупотребляла чтением романов, зато вырастила пятерых детей и вынянчила уйму внуков, заламывать руки не стала, а приготовила клюквенной воды и быстро переодела Лельку в ночную рубашку.
Девочка жадно выпила воду и зябко съежилась под одеялом.
– Спуталась, золотко?
– У-гу. А… они где?
– Зубы-то? Да у меня в роту, не бойся. Холодно тебе? А вот я платок сверху наброшу. Може, чайку тепленького попьешь?
– Не-е. Глазки болят.
– Закрой глазки, я лампу потушу и принесу еще водички. Старуха знала, что корь боится света, а в том, что это была именно корь, не сомневалась. Телефона в квартире не было, да и мало у кого он был в то время; так что участковая докторша – платок в клетку, тесноватое пальто и дряхлый клеенчатый портфель вместо потертого саквояжа – появилась только вечером и подтвердила Матренин диагноз. Про зубы ей ничего не говорили, да и на кой? – Чужой человек. Рассказали Ире, но лучше б не рассказывали: помертвела вся и чуть было мамыньке не наговорила лишнего, да внучка позвала – обхватила за шею и не отпускала, пока не уснула.
Ужинали втроем и как-то свободно – Надя работала в вечернюю смену. Старухе не терпелось рассказать свой сон, который так скоро и бесхитростно воплотился в Лелькиной болезни и перестал мучить. Ира слушала молча и только помрачнела, когда мать рассказала про угощение.
– Мама, в сочельник такая еда не к добру.
– Так я жевать-то не могла, – усмехнулась мамынька, – потому и не оскоромилась.
Старик подбросил полешко в огонь: он стал мерзнуть и с удовольствием сунул бы в плиту еще пару чурок, но дрова таяли быстрее льда, и нужно было их растянуть на всю зиму.
– Мне тоже скоромное снилось, – сказал он, возвращаясь к столу, – уж мы и поели так поели…
Вспоминая знаменитые романы: кому там снились одинаковые сны? Да-да, грешной Анне и этому, с лошадиными зубами, Вронскому. Хотя странно, что ему вообще какие-то сны могли сниться; правда, он был окрылен любовью, а тогда чего только не случается.
Нет, сон старика куда как отличался от старухиного. Вот он.
Будто бы сидят они с мамынькой за столиком в трактире, и человек записывает в блокнотик, что им подать, и мало-помалу старик осознает, что это – мирное время, ведь вот заказали паровую белугу да утку с яблоками. А сам трактир и то, что пришли! Но самое главное – войны еще не было; значит, и Андрюша с Колей живы. Они заказали раков, и пока утка готовится, раков уже подали – точнее, одного огромного рака. Надо есть, а то остынет. Старик разламывает панцирь и вылущивает тугую белую мякоть, осторожно пробует и дает жене. Матрена удовлетворенно кивает, улыбается; он кормит ее прямо из рук, и это оказывается особенно вкусно. Рак покрывает целое блюдо, и какую бы часть Максимыч ни взял, под ярко-морковным панцирем обнаруживается вкусная белая плоть, которую они оба отщипывают руками и едят. Обломив клешню и повернув на блюде полупустой панцирь, старик видит, что рак внимательно следит за его действиями выпученным глазом; глаз совсем живой и насмешливый. Ему делается не по себе; он боится, что жена перепугается насмерть, поэтому пытается заслонить глаз обломанной клешней. Есть он уже не хочет, а только осторожно наблюдает, не смотрит ли полусъеденный рак. Так и есть: смотрит, блестящий глаз двигается, а вот уже и ус шевельнулся. Ах, как нехорошо, как скверно, думает старик, ведь живую плоть едим! Уже проснувшись, вспомнил, что для них жарится утка, и горько пожалел, что не дождался, целиком увлекшись раком, что вначале было так упоительно, а потом жутко.
Всю жизнь мамынька была Иосифом Прекрасным – как сама себе, так и всем остальным, а потому сны трактовала, можно сказать, вдохновенно. Другой вопрос, что она не всегда справлялась с этой задачей, где самое важное – найти главный образ, который при утреннем свете трансформируется в ключевое слово. Ведь как случилось с тем сном про детскую рубашонку? Всю свою гадательную энергию Матрена направила на выяснение, который из братьев снился, живой или умерший, – ничего, ничего нельзя брать во сне от покойного, даже если очень настойчиво предлагает! А пойди она тогда другим, более предметным путем, быстрее бы разгадала и успокоилась, поскольку кто предупрежден, тот вооружен.
Сон выслушала с пристальным интересом.
– Ты подумай, диво какое: оба сна – к болезни, мне еще моя мама-покойница, Царствие ей Небесное, сказывала: живых раков видеть – занедужить. И про зубы то же самое: как зубы снятся, так хочешь не хочешь, а в доме будет больной. То-то я смотрю с утра, девчонка чимурит, а у ней жар; горячая, что печка. – И тут же повернулась к дочери: – Надо окна завесить, с корью не шутят: не дай Бог, ослепнет. Я нашла старые шторы, еще с мирного времени. Ничего, что рваные; повесь, и к месту.
С корью не шутили: окна завесили. Но и корь не шутила: крепко трепала девочку и отпустила неохотно, разжав, наконец, корявые пальцы.
Старик был рад без памяти, но уходил на базар один, без правнучки: Матрена не позволяла ей выходить на улицу: «Вот потеплеет, тогда».
– Что тебе купить? – спрашивал он, натягивая сапоги. Лелька сидела на диване, приготовив самые нужные для ожидания Максимыча вещи: пластмассовую ванночку с крохотным сидящим пупсиком, бутылку от одеколона в форме виноградной кисти и большую книжку в твердой красной обложке, на которой мудро и хитро переглядывались оба вождя.
– Папу.
– А? – переспросил бестолково, и она внятно повторила. Матрена, сотрясаясь от добродушного, без горчинки, смеха, посоветовала:
– У матки своей проси, она купит, – и ушла досмеиваться на кухню.
Озадаченный такой просьбой, в первый раз он принес многодетную матрешку с веселым лицом, оправдываясь, что пап не было. Был другой день, и опять базар, и третий… Заказ не менялся. Максимыч приносил то свистульку, то петушка на палочке или кулек орехов и, еще стоя в дверях, разводил руками: не было. Если бы речь шла, к примеру, о кукле Барби и старику было известно слово «дефицит», было бы куда проще, однако слово «дефицит» войдет в язык лет через десять, существенно опередив во времени и пространстве Барби. А сейчас была совсем свежа в памяти война и никому не приходила в голову больная мысль лишать ребенка детства посредством игрушки-манекена.
Закономерен вопрос: а к чему был этот чуть ли не ежедневный базар, при том, что лишние деньги карман отнюдь не тянули? Чтобы удовлетворить такое любопытство, нужно только обратиться к толкованию слова; это и вообще надежный способ: слова, как правило, могут постоять за себя, выставляя свой смысл то прикрывающим щитом, то разящим мечом, в зависимости от цели высказывания. Как раз сейчас, когда старик смотрит вслед виляющему трамваю и прикидывает, ждать ли следующего или идти пешком, и так, не придя ни к какому решению, уже минует Еврейскую улицу, то есть идет по плотному, утоптанному снегу, можно заняться персидским словом «базар», которое давно примерило на себя русский сарафан – тоже, кстати, персидское слово – да так в нем и осталось.
Гениальный русский лексикограф, как это принято, иностранного (в данном случае, датского) происхождения определяет слово «базар» как «торговлю на открытом месте», «торжище, торг, рынок», вторым значением присовокупляя «крик, гам, шум, содом». Из меню поговорок, сопровождающих слово, наиболее уместна, пожалуй, вот какая: «На базар ехать, с собой цены не возить». Вот почему и старик, и старуха появлялись на базаре, который теперь скучно назывался «центральным колхозным рынком», вскоре после полудня, когда сам базар был уже, что называется, на излете. Как местные, так и приезжие почти распродались и торопились домой, собирая нехитрую тару: мешки, корзины, бидоны. Фигуры за прилавками редели, голоса в павильонах звучали более гулко. Вот тут-то и наступало время пройти с рассеянным видом мимо спешащих торговцев и как бы невзначай, без интереса бросить взгляд на пустеющий прилавок: что там, сливки?… Совершенно очевидно, что хозяин не повезет домой остатки, особенно, если день был удачный; определить же это – по углу наклона бидона, ящика или по вялости мешка – было проще пареной репы. А раз сливок осталось только на дне, то можно и не пробовать – это сделали ранние простофили, они же и раскупили; поэтому довольная торговка, то есть представительница трудового крестьянства, и нальет в подставленную банку щедро, «с походом».
Вместо тусклых цинковых бидонов в павильоне, которые уже моют тугой струей из шланга, снаружи, под деревянными столами-прилавками, стоят на земле разлохмаченные мешки цвета выгоревшей хвои, утратившие утреннюю полнотелость, а с нею и спесивость. На дне еще бугрится картошка или тускло лиловеет свекла, но хозяин бесцеремонно высыпает… точнее, собрался высыпать остатки в лоток, но как раз в это время и появляется – совершенно случайно, разумеется, – такой вот ворошиловский стрелок в лице Максимыча. Идет мимо праздной походкой и приостанавливается, чтобы, сняв рукавицу, одобрительно пощупать картофелины (морковь, свеклу, нужное вписать).
– Хороша; рассыпчатая, небось.
– А то, – с достоинством соглашается хозяин, косясь на вокзальные часы: скоро поезд.
– Взять, что ли, – задумчиво тянет старик. – Завчера принес, баба взялась чистить, а она с пятнами; полсетки выбросили вон.
Здесь главное – не перегнуть палку, поэтому Максимыч добавляет:
– Твоя, похоже, хорошая, не мороженая, – и держит паузу, но и руку тоже держит на картошке, не убирает.
Торговец, типичный остзейский тугодум, хватает нож с поистине осетинской пылкостью и так ловко швыряет картофелину на лезвие, что – воля ваша – никак не вяжется с местным созерцательным темпераментом.
– Смотри, – он распахивает плотный и чистый золотистый срез, – смотри!.. Это не картошка, это яблоко (груша, дыня, нужное вписать, но можно и не вписывать, ибо этой заключительной ремарки не последовало: все-таки хозяин не осетин, нет).
– Хороша, – с восторгом соглашается старик, – хороша! Почем она у тебя?
После столь убедительной демонстрации достоинств корнеплода продавец называет утреннюю цену, но, хорошо зная, что утро давно позади, делает маленькую – совсем крохотную – заминку, поэтому Максимыч отряхивает руки и медленно натягивает рукавицу.
– Я же с тобой не шутки шучу, – замечает укоризненно, – я же тебя про настоящую цену спрашиваю.
И знает, ох знает старик, что вокзальные часы за его спиной, и как раз туда, поверх его головы, кидает взгляд торговец, потом переводит взгляд на исхудавший мешок и… произносит другую цифру. Старик кивает:
– Свесь три килочки.
Торопливо, но ловко хозяин высыпает из мешка последние картофелины, они глухо стучат в мерную чашку, и гири весов недоуменно подскакивают. Он добавляет гирю, потом еще одну, но картошка перевешивает. Взгляд продавца становится чуть ли не просительным:
– Шесть с половиной. Бери все, дяденька, картошка хорошая!
На местном языке слово «дяденька» не имеет того жалобно-попрошайнического оттенка, как в современном русском, так что это прозвучало очень естественно, с весьма уместной почтительностью как к возрасту Максимыча, так и к его статусу покупателя. Чтобы эта сцена не казалась искусственно затянутой, следует только свериться с реальным временем, где она длится не более десяти минут, включая сомнение, надежду, обмен репликами, снимание и надевание рукавицы, разрезание и взвешивание; эти десять минут отсчитаны беспристрастными вокзальными часами. Истекло ли это реальное время или вот-вот истечет, чего и боится хозяин картошки, неизвестно, однако он уже держит на весу мятую алюминиевую емкость, наполненную доверху, в то время как покупатель неторопливо достает из-за пазухи… не кошелек, нет, и не бумажник, а именно портмоне, и раскрыв очень бережно, чтобы не потревожить резким движением его пожилой возраст, вынимает одну синеватую ассигнацию.
– Я бы взял, – говорит старик, адресуясь более к портмоне, чем к торговцу, и только потом поднимая глаза, – я бы взял, да у меня всего пятерка осталась. Жалко, такое добро… ты уж отсыпь.
– Да я уже свесивши! Куда ж мне назад сыпать?… Бог с тобой, дяденька; забирай всю.
Продавец решительно и быстро пересыпает отборную картошку в полотняную торбу, которую Максимыч извлекает на свет куда проворней, чем портмоне. Одиноко скучавшая в потемках портмоне ассигнация вначале попадает в неряшливую разноцветную компанию сородичей и сразу после этого с сердцем, пронзенным английской булавкой, тонет в душном сапоге торговца.
Ошибкой было бы полагать, будто стоящие по ту сторону прилавка не были осведомлены о хитростях находящихся по эту сторону; знали, будьте покойны, и не только не возмущались, но спокойно принимали это знание, ибо таков закон торжища: на базар ехать, с собой цены не возить.
Был и другой резон в пользу базара, привлекающий даже таких неимущих покупателей, как старуха и старик. Возвращаясь с полной торбой, запыхавшаяся и румяная от возбуждения, старуха ликовала: совсем как в мирное время! Такая параллель всегда означала высшую степень похвалы; применительно же к базару определяла сущность той формы торговли, которая была единственно понятной старикам, торговли не только от слова «торговать», но и от «торговаться». Как «в мирное время» она могла предпочесть один неповторимый букетик редиски восемнадцати другим, и он стыдливо краснел у нее в корзинке за свою избранность, так она могла сделать это и сейчас, но не в любой зеленной лавке, а только на базаре. Более того, выбери она два букетика, скидка была обеспечена, хоть и пустяковая, и скидка такого рода распространялась на любые покупки.
– Берешь пяток яичек – плати за пяток; а два десятка уже получаешь за… это сколько же будет? Вот я и говорю: как за пятнадцать, да я выбрать могу, чтоб давленое не всучили! А в этих… лавках, – мамынька не могла себя заставить произнести слово «магазин», – разве дождешься?!
И Тоня понимающе кивала: она тоже хорошо помнила «мирное время», хоть слово «магазин» выговаривала привычно и без эмоционального акцента. Если бы ученый зять случился при таком разговоре, он улыбнулся бы и не преминул вставить: «Что ж вы хотите, мамаша, чтоб закон оптовой торговли соблюдался при самой прогрессивной экономике?» Непременно что-нибудь эдакое ввернул бы, и Тоня пригвоздила бы его укоризненным взглядом, а теща, повернув свое полное, разгоряченное лицо, сначала уставилась бы недоуменно, а потом махнула величественно рукой: бздуры, мол; и еще много чего добавила бы про мирное время, как будто он сам не знал. Однако Федор Федорович, который обыкновенно любил побеседовать со старухой, вернее, послушать ее и восхититься про себя свежестью восприятия, сейчас был молчалив и неулыбчив, а то и не слушал вовсе.
И еще один довод в пользу базара, с которого, может быть, следовало начать эту апологию. Отправная точка – второе значение слова: «крик, гам, шум, содом». Впрочем, в этом контексте крик мог быть – и скорее всего был – шепотом, а шум совсем негромким. Из людского крика и гама выпадало в осадок – или, наоборот, многократным повторением всплывало на поверхность – слово, другое, потом фраза… Иначе говоря, базар всегда был живой газетой, доставляя новости намного надежней, чем газета мертвая. Да; а как иначе прикажете называть газетину, которую распяли на доске, как преступницу, и фасадом, и тылом, и мало того что заперли под стекло, чтобы никто не посягнул на труп, так еще и казенного человека приставили – милиционера, дохнущего от скуки и серьезности, но не теряющего бдительности?! Может, кто-то из приезжих и останавливался перед препарированной и застекленной газетой, но убедившись, что «Городская правда» ничем не отличается от их «Пригородной правды», спешил дальше, боясь подумать, что случилось бы, будь в каждом городе своя правда, и не воспаряя до размышлений о правде, запертой на замок.
Люди гораздо больше доверяли «живой газете», и старик тоже внимательно прислушивался к ее голосу. Что касается средств массовой информации, то, хотя понятия такого еще не знали, сами средства были представлены в двух ипостасях: газета (не живая) и радио – всегда хриплое, но громкое. Правда, назвать его живым только на основании издаваемых звуков было бы опрометчиво: шарманка ведь тоже звучит, однако живая не она, а тот, кто крутит ручку, и это не всегда папа Карло…
* * *
Вот неделя, другая проходит, начиная отсчет куцему месяцу февралю. Солнце больше не кутается в серое небо, а светит вовсю и даже пригревает. Февральские метели не успели еще затянуть свою вдовью – или волчью? – песнь и не намели свежего снега на осевшие сугробы.
Уже несколько дней подряд Лелька выходила с Максимычем гулять. Старуха, загодя готовившаяся к масленой неделе, озабоченно загибала пальцы, перечисляя все необходимое для блинов, и велела мужу походить и прицениться. Девочка больше не просила купить папу, и он успокоился.
Все испортила Матрена: завязывая Лельке платок под капор, напутствовала:
– Зараз купишь себе на базаре батьку, если у деда денег хватит, – и сама же первая засмеялась, вернее, первая и единственная.
Девочка помотала головой и уверенно ответила:
– Не хочу батьку.
– Как «не хочу»? – удивилась мамынька. – То каждый день донимала: купи да купи, а то: «не хочу».
– Не хочу батьку, я папу хочу.
– Иди, – махнула прабабка рукой. – Я ж тебе сказала: проси у матки, она тебе враз мазурика какого приведет.
– Максимыч, я не хочу мазурика, – тихонько жаловалась девочка.
– Ты на ветру не говори, а то опять болеть будешь, – беспокоился старик, но не о ветре, а о жене: на кой, Мать Честная, было растараканивать девку?!
Если бы знал он, что Матрена перестала улыбаться еще прежде, чем за ними закрылась дверь, а вернувшись в комнату, страстно помолилась за сироту, младенца Ольгу, может, и не досадовал бы так. Да ведь слово не воробей…
А и ладно, подумал внезапно, вот увидит сама, что папу-то не укупишь.
Стекла в трамвае немного подтаяли. Девочка сидела на коленках у старика и думала о том же – ведь мысль передается, хоть может принимать разные направления. Она пыталась представить себе длинные деревянные прилавки с игрушками, кофтами, варежками, только вместо продавцов стояли незнакомые папы, среди которых должен был находиться тот, из ее сна.
Во сне он стоял на кухне у буфета – высокий, в сером костюме, и выглядел куда нарядней, чем продавец из магазина на первом этаже, который огромными ножницами ровно-ровно отрезает куски от толстых рулетов с материалами. Он стоял у буфета, немного наклонив голову, и смотрел прямо на нее, а на Лелькин вопрос: «Ты кто?» ответил: «Твой папа».
Он стоял спиной к окну, солнце было яркое, и серый костюм казался почти черным. Человек вытащил из кармана конфету и протянул Лельке. Она взяла. На картинке белый медведь стоял посреди льдины, прямо над буквами: «Мишка на севере». Тот улыбнулся: «Ешь!», однако сразу развернуть и съесть было жалко. Лелька очень хотела о чем-то спросить, но не могла вспомнить, о чем, а он молчал, только улыбался. Она несколько раз зажмуривалась и вновь открывала глаза, и каждый раз он протягивал ей конфету, улыбаясь, как в первый раз, и конфета была одна, хоть она то закрывала, то открывала глаза, но ничего не менялось: серый костюм, папа, улыбка, конфета.
То ли сон был необычайно четким, озаренный солнцем и озвученный непривычным словом, то ли властно заявила о себе семейная традиция, но ребенок был не на шутку растревожен видением. Тогда-то и начались муки Максимыча перед уходом на базар, и даже сейчас он был так рассеян, что проехал нужную остановку. Пришлось выйти на следующей и пройти сквозь рыбный павильон. Старик не собирался там задерживаться, но Лелька восхищенно замерла: «Смотри, картина!»
Картина, потрясшая воображение девочки, появилась на стене совсем недавно. На огромном полотне были изображены рыбаки, которые, борясь со штормом, в то же время вытаскивали из бурных волн сети, беременные таким уловом, что скромный баркас неминуемо должен был бы пойти ко дну. У рыбаков были мужественные, бесстрашные лица и элегантные серые шляпы. Художник изобразил момент, когда они высыпали на дно баркаса лавину серой, жестяного вида рыбы; ну, да если живописец готовился в айвазовские, то понятно, что в натюрморте силен не был. Иначе говоря, шедевром это назвать было трудно. Тем более удивительно было слышать, как странно переговаривались старик и девочка. Она спрашивала:
– Это что, «на море черная буря, так и вздулись сердитые волны»?
И старик кивал, подтверждая:
– Так и ходят, так воем и воют.
Их обходили, или, скорее, обтекали с обеих сторон, кто-то смеясь, другие раздраженно. Чтобы не толкали, старик обнял ее за плечи и отвел в сторонку.
– Максимыч, а зачем у них сетка?
– А это и есть невод, помнишь, как у старика?
– Ты тоже так ловишь?
– Не-е, на кой мне столько. Да я и без лодки, я на бережку с удочкой. Вот снег стает…
Но девочка была поглощена картиной. Терпкий и въедливый рыбный запах ей не мешал, и время от времени она переводила взгляд на прадеда, который, по правде говоря, устал восхищаться.
– Пойдем, надо еще всего чего поискать, а то баба заругает.
Лелька вздохнула, и они двинулись дальше. Вдруг девочка резко дернула его за руку и потянула вправо, к большой витрине:
– Смотри, смотри! – отчаянно закричала она, тыча в стекло. – Максимыч! Золотую рыбку поймали!..
В витрине лежали шпроты. Тусклые шайбы консервов были уложены плотными рядами, и каждую банку украшала черная полоска с вытесненной золотом рыбиной. Ма-а-ать Честная! Сейчас заплачет.
– Посмотри хорошенько, – быстро заговорил Максимыч, – да разве это наша рыбка? Разве такая рыбка в твоей книжке? – Хотя навряд ли она сейчас что-то увидит, подумал он; Лелькины глаза налились огромными горестными слезами, и он вытащил из кармана платок, продолжая увещевать: – Ну ты сама подумай: вон банок-то пропасть какая, где ж столько золотых рыбок напасешься?… А книжка? Книжка твоя как называется?
– «Сказка о рыбаке и рыбке», – прошептала девочка и почему-то оглянулась на картину; как раз платок и понадобился.
– Вот видишь! А тут разве так написано? Ты читай, у тебя-то глаза хорошие!
– И губа не дура, – вставил какой-то проходивший балагур.
– «Штоты»? «Широты»?… Максимыч!..
– «Шпроты», – снисходительно поправил старик. – Ну? Он стер с ожившего лица следы переживаний, крепко взял правнучку за руку и повел к выходу.
– Дедушка Максимыч, мне очень золотая рыбка нужна, я у нее папу просить буду. Поймаешь?…
– Какая погода на Сретение, такая и весна простоит, – объявила старуха, вешая пальто. – Полная моленная, как на Пасху! Жалко, что к Тоне не пошли.
Праздничную заутреню старик отстоял. Как обычно, у выхода встретили Тоню с Федей; оба стали звать к себе, но вид у зятя был такой, словно тоже язва разыгралась, какие уж тут гости. Вернувшись, Максимыч сразу прилег, накинув на зябнущие ноги старый вязаный платок. Он понимал, что Матрена соскучилась без младшей дочери, но сегодня с утра ныл живот и даже сода не помогла. Болеть дома надо.
– Не тискай деда, – строго предупредила правнучку старуха, – видишь, худо ему. Сядь, поиграй.
– Я ему «Сказку о царе Салтане» почитаю.
– Читай про султана, только не лезь на него, спокой дай. Старика немного мутило – от соды, должно быть. Из кухни шел запах, всегда такой желанный и вкусный, но сейчас хотелось закрыть дверь.
Ладно ль за морем иль худо?…
– увлеченно читала девочка.
Худо, думал Максимыч. Може, надо было послушать доктора и резать? Так ведь кто ж виноват, что так получилось…
За морем царевна есть,
Что неможно глаз отвесть:
Днем свет Божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит…
Но тут Матрена, которая приостановилась в дверях послушать, вдруг перебила:
– Что-о-о?! Месяц под косой? Неправильно в твоей книжке написано. – Подумав, добавила: – Гребень, наверно. Как есть гребень. – Она повернулась к мужу: – А ты помнишь тот, с хризантемами?…
От-т баба, старик машинально подкрутил усы. Как не помнить: сам выбирал.
Десятилетнюю годовщину свадьбы праздновать не стали. Но праздник – это одно дело, а подарок, чтоб на всю жизнь память была, совсем другое; иначе он не умел. И очень хотел, чтобы подарок был неожиданным, не как всегда. Купить еще одну брошку или цепку новую большого ума не надо было… хотя и броши перебирал он, и цепи с медальонами и без оных рассматривал, заставляя их послушно стекать между пальцами по твердой ладони. Откладывал, шел дальше. Сколько этих пещер Алладина он прошел, сколько раз приказчики распахивали перед ним бархатные футляры, где в атласных потемках дремали ожерелья, браслеты, серьги! Сокровища эти были прекрасны, но тридцатитрехлетний старик отодвигал футляр за футляром, благодарил и шел дальше.
Драгоценности подобны цветам, а ювелиры – цветочницам: как только солнце начинает садиться, и те и другие сворачивают торговлю и прячут свой нежный товар от темноты. Оставалось два магазинчика. Нажав кнопку, он вошел в первый. Через несколько минут снова хлопнула дверь, впустив молодую даму с орхидеями; следом вошел офицер. Перед Максимычем на черном бархате лежали камеи, словно фотографическая карточка выпускников гимназии, снятых в профиль.
От бездумного созерцания его отвлекло громкое «ах». Офицер быстро нагнулся и пружинисто поднялся, протянув спутнице оброненную заколку; и вот она, сняв шляпу, вновь прилаживает ее в высокую прическу, а приказчик услужливо поворачивает зеркало и замечает вполголоса: «Парижская работа, замочек деликатный очень, с густыми волосами намучаетесь…» Дама, узнав, что у нее густые волосы, благосклонно улыбнулась и спросила яшмовые серьги. «Сожалею, сударыня, – приказчик огорчился лицом, – зато имеются с малахитом, изволите взглянуть?…» Но дама уже натягивала перчатку, повернувшись к спутнику. Приказчик выровнял зеркало, отчего лицо яшмовой дамы пропало и криво вылез бок, на который легла рука в мундирном рукаве, промелькнул удаляющийся локоть и кивающие орхидеи. Бесстыжие цветы, что в них находят, раздраженно подумал старик и только со второго раза услышал вопрос приказчика.
– Для густых волос, и чтоб надежно, – ответил сердито.
– Заколки? Гребни? Имеются черепаховые японские, ручной работы, – приказчик ловко, как официант, убрал с глаз постылые камеи, отпер витрину и извлек на прилавок совсем другое.
К этому подошло бы название «убор». Поверхность, отполированная до гладкости кожи и даже теплая на ощупь, зубья цвета крепкого чая… Впрочем, слово «зубья» казалось неуместным; они скорее походили на тонкие, льющиеся пряди волос.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































