Текст книги "Жили-были старик со старухой"
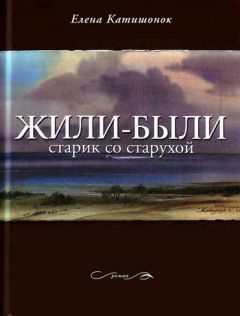
Автор книги: Эмиль Брагинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
23
По старому стилю старухины именины приходились на Филиппов день – канун Рождественского поста, да только где тот уютный старый стиль? В моленной да в церковном календаре, а каждодневное бытие давно уже текло по новому стилю, бестолковому и несуразному, когда январь, к примеру, уже к концу идет, а Крещение только завтра. Не раз Матрена путала, сколько надо прибавить, двенадцать или тринадцать, чтобы, упаси Бог, не ошибиться. Новый численник, что висел на кухне, только усугублял путаницу. Документы совсем уж откровенно лгали, поскольку честно указывали старые даты, а выданы были в новое время новыми казенными людьми, которые понятия не имели о юлианском календаре, да и о григорианском тоже, руководствовались все тем же численником и увековечивали ложь черной тушью.
В этом году, полном больниц, тревоги и скорби, Матрене исполнялось семьдесят. Траурную одежду после похорон она не снимала. Строго говоря, это не был траур в полном смысле слова, когда все, от головного платка до туфель, должно быть черным, нет; однако обе пары туфель, по скудости обувного ассортимента, так или иначе были черными, а в небогатом гардеробе наличествовали одно черное платье и черная же юбка – и то, и другое такой консервативной длины, что о цвете чулок можно было не беспокоиться.
Что касается платка, то здесь возникло затруднение, которое Матрена, недолго подумав, разрешила не хуже Гордия. В итоге бесхитростного пасьянса получились две ровные прямоугольные стопки: одна, из пестрых и светлых ситцев, была отправлена в узел для моленной, другая, с платками темных тонов, вернулась в шкаф. И к месту.
Простыни, закрывавшие зеркала, были сняты, и комната освобожденно вздохнула, снова сделавшись просторной и яркой. Осторожно, чтобы не пылить, старуха скрутила простыни и мельком увидела в зеркале угол дивана, под которым ровно стояли чибы Максимыча. Она машинально обернулась, словно проверяя, не насмехается ли лукавое стекло, соскучившись в потемках. Нет, стоят; словно кто-то нарочно приготовил. Тихонько сотворила молитву и медленно повернула голову: стоят. Я же их в богадельню… – Гриша? – сказала одними губами и опустилась на диван. Что ж сердце так закудахтало? И сплю плохо. Надо у Феди капель каких попросить.
Подняла тапки и подивилась, как спрессованы задники, кои выправить не могла бы уже никакая сила. Стало трудно дышать. Подержав и ничего не придумав, бережно опустила на пол, чуть задвинув под диван. Не забыть про капли. Там, в шкафу, лежал еще один небольшой тючок; и чибы туда же, на кой тут… пылиться. Подумала ли этим словом или назвала его вслух, но взгляд послушно устремился к дверной вешалке. Пыльник.
В зависимости от настроения хозяина этот плащ именовался либо макинтошем, либо пыльником; при неопределенном настроении обозначался по родовидовому признаку: «плащ, тот, серый», хотя никакого другого у Максимыча не было.
Пыльник тоже надо завернуть. Матрена решительно протянула руку. Вешалка, словно давно этого ждала, стремительно перекосилась и выдернула костлявое плечо; макинтош немощно осел, как человек, которому внезапно стало дурно. Поднять его и сложить – дело одной минуты, да напрасно она поспешила: из кармана выскользнул пятак и, почувствовав свободу, покатился, описывая неторопливую дугу, под шкаф, в бесконечность.
В карманах обнаружилось немного мелочи, пара красных ботиночных шнурков, ключ с затейливой бородкой… Матрена замерла. Таких ключей было всего два; второй у Фридриха, где уж он сам-то… Ключ от мастерской. Держал, поди ж ты… Ключ блестел, словно был хорошо начищен, и старухе почудилось на миг, что он хранит тепло мужниной руки. Еще нашлось свинцовое грузило, какие-то бумажные комочки и сложенный носовой платок в табачных крошках. Она хватилась было портсигара – где он, надо Феде отдать, он курящий, – но взгляд упал на внутренний карман. Там и лежит, наверно; для того и застегнул, чтоб не выскользнул; достала, однако же, портмоне.
Сколько ж ему лет, подумать только, ведь с мирного времени таскает, забыв на секунду, что – нет, уже не «таскает», да и шестнадцатилетний возраст для хорошей кожи – не век.
…Поехали с Тоней в Старый Город, чтобы выбрать отцу подарок: шестьдесят исполнялось. Почему тот день запомнился? Она любовалась дочерью, одетой, как всегда, модно и строго, в новой шляпке, сидящей на голове так косо, что непременно должна была бы свалиться, однако же и не помышляла падать, и под неласковым ноябрьским ветром ни Тоня, ни другие дамы в кривых шляпках за голову не хватались, а только кидали друг на друга такие же косые, как их шляпки, взгляды. Она как сейчас помнила, что вышла из дому без перчаток, и дочь хотела купить ей перчатки в том же магазине, где выбирали портмоне. Еще вспомнилось недоумение приказчика оттого, что Тоня требовала бумажник, а она сама настаивала именно на портмоне и даже погорячилась, доказывая дочери, что отцу не бумажки класть, а – деньги…
Сейчас ей казалось, что не шестнадцать лет прошло, а много больше… Дамских перчаток, слава Богу, там не оказалось, зато Тоня купила себе новый заграничный ридикюль и что-то еще, так что вышли из магазина с несколькими свертками, и каждый пахнул кожей. Ветер угомонился, и нерешительного ноябрьского солнца хватило, чтобы осветить бульвар, бывший Александровский. Погуляли немного по Эспланаде. Руки застыли и покраснели; тем не менее, пакет с подарком несла сама и почти успела пожалеть, что не купили перчатки. С Площади… как ее? Площадь… Площадь Согласия, что ли; она еще спросила у дочери, как это место называлось раньше, но Тоня ничего вразумительного не ответила; прошли к Православному Собору, из которого выходили такие же, как она, в платках, и редко – в шляпках.
Купили именно бумажник, с множеством кармашков разного размера, прекрасной кожи бумажник, который, вопреки оригинальной своей породе, все же окрещен был портмоне и никак иначе не назывался, хотя отделения для мелочи в нем отродясь не было. Все равно портмоне, и к месту.
Старая кожа была теплой на ощупь. Пока новое, оно изнутри было светлее, но от долгой носки оба слоя так основательно потерлись, что приобрели одинаковый цвет – цвет ноябрьской травы. Затейливо скроенные недра, включая два потайных отделения, урожай дали более чем скромный. Трехрублевка, махровая от ветхости. Две одинаковые фотографии для паспорта, старика и старухи. Квитанция за электричество с неряшливыми, расплывшимися фиолетовыми буквами. Шесть аккуратно разглаженных трамвайных билетов, непонятно зачем хранимых. В одном потайном отделении лежали два рубля, каждый сложенный фантиком, в другом – обернутая слюдой фотокарточка Андрюши и – совсем уж непонятно – трефовая шестерка.
Старуха озадаченно повертела карту. На плотной атласной поверхности выстроились двумя сиротливыми рядами черные приземистые кресты, какие ставят на католическом кладбище.
Человек прожил на свете семьдесят пять лет, а после него осталась горстка нелепых мелочей: бусина, ключ от двери в бывшую жизнь, куда никому уже не войти, старые трамвайные билеты да игральная карта – явно чужая, ведь сам не играл никогда. Еще остается холм земли, который родные спешат ревниво отсечь рамкой надгробия, чтоб не смешивался с чужим прахом. Стол, шкаф, диван, трюмо, рожденные волей рук Максимыча, старуха не то что не видела, а просто это было сработано очень давно, во времена «бывало», и потому казалось, что существовало всегда… Выходит, что сейчас он там и нарядней, и богаче: свой дом. Она усмехнулась, а сердце прыгало где-то у горла, так что пришлось даже приложить руку к груди.
– Что, от тебя больше останется? – она повернулась к трюмо. Зеркало послушно отразило плюшевый валик дивана, осунувшуюся старуху в черном, сидящую очень прямо, и дверцу шкафа, а уж про жестяную коробку под шкафом оно никак знать не могло. – Вот и найдут; разве поймут что? Карточки Тоня в альбом приберет, а остальное в сор, куда ж еще. Може, отдадут ребенку играть…
Сегодня снова был нарушен покойный сон коробки от печенья «Бон-Бон», на буксире у которой, кстати, прибыл и укатившийся пятак.
К четырнадцатому ноября численник на стенке совсем отощал; его жестяной козырек, напротив, распух от оборванных листков. Ни о каком дне рождения старуха и слышать не желала. Веселиться в трауре?! Ребенку вон пять стукнуло – и то не праздновали; что ж мне-то в семьдесят? Да и по-настоящему, по старому, у меня именины только через две недели, на кой колготиться-то?
Совет не колготиться относился к Тоне, мать как раз зашла попросить у зятя капель. Вскоре появился и он сам, правда, не с каплями, а с тортом. На возмущенные протесты тещи возразил, что пост начинается только через две недели:
– Как вы, мамаша, и говорили. А сегодня просто попьем чаю с тортом, вот только Иру дождемся. Рановато она вышла на работу, рановато.
Ира пришла не одна, а с Лелькой. Пока развязывали шарф, снимали пальтишко и капор, девочка возбужденно объясняла, что одна воспитательница и двое детей в садике понимают по-русски, но говорить все равно не хотят, а ее ругали за то, что она неправильным полотенцем вытерлась и ночью плачет. Читать не разрешали и даже отобрали книжку. А еще, продолжала она уже в столовой, мама обещала, что заберет ее на следующий день, но не забрала, зато сегодня приехала бабушка Ира, и больше мы в садик не поедем!.. После чего с торжеством отправилась мыть руки.
Матрена целовалась с сыновьями и невестками, тоже, видно, любившими чай с тортом. Да что там торт! Она не успела оглянуться, как Тоня расставила закуски. Все усаживались, когда появилась Таечка с коробкой пирожных, жалуясь:
– Замерзла как цуцик!
– Так у тебя ж пальто на рыбьем меху! – воскликнула крестная, и Лельке пришлось оторваться от куриной ноги, чтобы проверить.
Мамино пальто пахло холодом, духами и табаком, но меха видно не было. Девочка ничего не знала про рыбий мех, но подозревала, что он мокрый. Наверное, потому и холодно.
В столовой стало громко. Дядя Федя называл маму «детка, деточка». Бабушка Ира говорила, что не даст калечить ребенка. Бабушка Матрена звонко и сердито повторяла: «Я, слава Богу, еще жива», а мама сидела самая красивая, как всегда, и внимательно смотрела на аквариум с рыбками.
Рыбки были совсем маленькие и мехом еще не обросли.
Вот неделя, другая… Неделя начинается у девочки буйной ветрянкой. Лелька блаженствует в бабушкиной кровати, уютно устроившись среди белоснежных подушек, которые тоже покрылись пятнами зеленки – видимо, из солидарности. Наблюдая, как Ира смачивает ватку, а потом бережно метит бугорки ярким изумрудом, Матрена рассмеялась, впервые после похорон. «Ты смотри, лечись, а то тебя на Пасху с яйцом перепутают!» – строгим голосом, но все еще улыбаясь, наказывала она правнучке.
Чесалось все, но как раз чесаться было нельзя, и девочка терпела, не чесалась. Когда болячки начали подсыхать, в гости пришла Тайка и опять заговорила о детском садике.
– Заразу в дом таскать? – возмутилась старуха. – Это ж какую еще чуму принесете? Ребенок в тепле, накормлен, напоен, на кой же его к чужим людям на всю неделю пускать?
Таечка обиженно вытянула губы: казалось, она сосет леденец. Щелкнула замочком сумочки, отчего в комнате запахло крепкими духами, достала портсигар и, вынув папироску, постучала концом по крышке.
– Пойду покурю, – и повернулась ловко, на одних каблуках, но уйти не успела.
Бабка положила ей на плечо пухлую властную руку.
– Ты где портсигар взяла?
– В тумбочке, дедушкиной, – Таечка возмущенно дернула плечом, но старуха держала крепко.
– Ты как смеешь без спросу брать?! – прозвенел яростный Матренин голос. – Тебя кто такому учил?
– Я не для себя! – внучка с трудом высвободила плечо. – Меня дядя Сеня просил поискать, на память о дедушке. Я ему отнесу. У меня теперь синяк будет как пить дать! – она оскорбленно поглаживала плечо, все еще держа зажатую между пальцами папиросу.
– Дай сюда, – Матрена протянула руку.
– У меня дядя Сеня…
– Дай сюда, говорю. Я сама знаю, кому отдать, – бабка говорила слишком спокойно, и на брови ее лучше было не смотреть.
– А куда я свои папиросы?… – капризным голосом начала Тайка.
– Мне что за дело. Клади туда, где раньше держала, и к месту.
– Я квартиру получаю, – внучка вытряхнула папиросы в сумочку и с вызовом посмотрела на старуху.
– В добрый час.
– И перевезу дедушкин диван, – вела Таечка на той же ноте. – Он говорил, что диван мне оставляет. – Выпрямившись, добавила: – Это мое наследство, я имею на него право.
Старуха махнула рукой:
– Мели, Емеля, твоя неделя, – и, отстранив внучку, двинулась на кухню.
Лельке было жалко маму, жалко диван, который куда-то увезут, и жалко портсигар Максимыча. Она изо всех сил старалась не расчесывать болячки, придумывая себе новые занятия. Например, можно было бы найти отличное применение портсигару: держать в нем трамвайные билетики. Еще добавить серебряную бумагу и самые красивые фантики, а так хорошая вещь пропадет: дядя Сеня напихает туда папиросок.
…Дрова отсырели, и старуха намучилась, пока растопила плиту. Крыша в сарае течет, что ли? Надо Моте сказать, пусть проверит. Мысли перескочили на младшего сына. Стало обидно: аферист, у матери не попросил, а Тайку послал в тумбочке шарить?! Нарочно Феде отдам. Она сердито ткнула кочергой в ленивое пламя, уже зная, что портсигар отдаст не Феде, а Симочке, да неизвестно еще, откуда он взялся, портсигар этот…
Стоя у буфета, невестка торопливо дохлебывала чай – ей сегодня во вторую смену. Она слышала весь разговор с Тайкой и теперь с сожалением поглядывала на одноногий будильник, подпертый спичечным коробком, не позволяющий ей выразить свое негодование по поводу дерзкой девчонки. Той, на бегу застегивающей пальтецо, она тоже не успела толком посочувствовать, только кивнула понимающе, бросив в спину свекрови красноречивый взгляд. Теперь Надя стояла к Матрене лицом и ждала, когда старуха начнет возмущаться. Чай она пила из толстой фаянсовой кружки, не вынимая ложечку, и черенок закрывал то один, то другой глаз.
– Вот я и говорю, – коротко взглянув на часы, быстро затараторила, хотя ни слова перед тем не было произнесено, – уж если начала гулять с солдатами, то для девки это последнее дело. – Ложка, звякнув, отклонилась влево. – То-то иду и думаю: она или не она? Солдат высокий такой; идут под ручку, потом сели на скамейку, закурили оба. Смотрю: так это же Тайка! Веселая такая, все хохочет. Мне-то что, мне дела никакого нету, а все же, думаю: вы, мамаша, скажите ей. – Ложка завалилась направо. – Куда это годится – с солдатом гулять. – Ложечка со звяканьем поехала обратно.
Матрена закрыла дверцу плиты и, кряхтя, поднялась с колен. Встретила Надин взгляд и кротко произнесла:
– Ты с Андрюшей когда познакомилась? Он как раз в солдатах был, вот когда. Забыла? Нуда, ты ведь в Женском батальоне служила. Теперь вспомнила? Вот сама и скажи.
Спокойно, не глядя на невесткино лицо, залившееся горячим борщовым румянцем, отвернулась к кастрюле. Ребенку исть надо.
Матрена тоже лечилась – пила капли, от которых в комнате долго держался запах аптеки. Зять обещал принести другие. Правнучка выздоравливала; болячки поотваливались, зеленка то ли выцвела, то ли смылась, но зуд не проходил. Особенно мучили шея и голова. Девочка сидела, поеживаясь под строгой Матрениной расческой. Та вдруг приостановилась, чуть сощурила все еще зоркие глаза и громко сказала:
– В баню! Да тут целое стадо, Господи, помилуй, спасибо детскому садику!
После бани зашли сначала в аптеку, а потом в галантерейный магазин на первом этаже. Правда, ничего стоящего не купили: ни круглую белую коробочку «Кармен» с красавицей, упоенно нюхающей цветок, ни мыло с такой же картинкой, ни толстую короткую кисточку неизвестно для чего, ни крохотные блестящие щипчики. Зато Лелька могла вдоволь полюбоваться на продавца, человека совершенно необыкновенного. Один глаз у него был как глаз, а другой – очень выпуклый, ярко-голубой и неподвижный, и когда он отмерял ткани, скрученные в толстые батоны, то нормальным глазом смотрел на линейку, сколько резать, а другим наблюдал, много ли останется; очень удобно. Отмерив, продавец брал острый карандаш, лежащий у него за ухом так же неподвижно, как у дяди Феди на чернильном приборе, и склонялся над прилавком, выписывая чек. Волосы у него были зачесаны на одну сторону и чем-то намазаны, поэтому никогда не разлохмачивались. И это еще не все: продавец хромал, но не так, как Максимыч, нет: при ходьбе он равномерно качался из стороны в сторону, и за прилавком что-то тюкало, будто гвозди забивали. Бабушку Матрену продавец назвал «мадам Иванова», покачался, тюкая, а когда уходили, сказал: «Желаю здравствовать». Дома выяснилось, что купили какую-то кукольную расческу, такая была тоненькая.
Лелька поинтересовалась, нельзя ли ей вот так же голову мазать, как у продавца, и бабушка Матрена неожиданно согласилась: «Пома-а-а-ажем», так что стало можно спросить и про тюканье. Оказалось, что у продавца деревянная нога. Пока девочка раздумывала, что ценнее – золотые зубы или деревянная нога, бабушка Матрена ее вычесала, пересыпав волосы удушливым порошком из аптеки, а потом завязала платком голову так плотно, что ушам стало нечем дышать. Это было особенно неудобно: Лелька как раз собиралась примерить за ухо карандаш, чтобы как у продавца.
В тот же день обе бабушки устроили огромную стирку. Плиту раскалили докрасна; белье кипятили, выполаскивали и снова ставили кипятить. Лельку из кухни прогнали и даже не разрешили покататься на велосипеде, хотя там стало больше места: пока она теряла время в круглосуточном садике, кровать бабы Матрены переехала в комнату. Девочка, конечно, не знала, что старуху пришлось долго уговаривать, и только когда Федор Федорович сказал: «Мамаша, Ире ведь может стать хуже, и рядом никого», только тогда она перестала упрямиться.
Все проходит; прошла и эта напасть с многократным вычесыванием и дустом. Заглянувшая Таечка несколько раз громко воскликнула:
– Кошмар, кошмар!
Старуха с усмешкой поправила ее:
– Это не кошмар, это вши. – И не отказала себе в удовольствии добавить: – Нечего было ребенка по садикам таскать.
Ира много шила – вернее будет сказать, перешивала: внучка подросла. Как и обещал, Федор Федорович принес другие капли, которые не пахли ничем и уже одним этим старухе понравились. Принимать их нужно было перед сном, и если она забывала, то спала хуже обычного – или ей так казалось. Все спали, когда она вспоминала о лекарстве, и свет она не включала, а, вытащив пробку, капала в толстостенную рюмку на ощупь. И невдомек было старухе, что эти капли вошли в ее жизнь, как некогда корка вошла в жизнь Максимыча; вошли прочно, образовав треугольник со сторонами на букву «К»: корка – капли – Киже.
И Рождество, и Новый год справляли у Тони, на этот раз вместе с Надей. Тата и Людка, хоть и ровесницы, были совсем не похожи и, возможно, поэтому вначале дичились друг друга. Бледненькая, улыбчивая и большеносая, Тата была ярко выраженным гадким утенком, и если не знала о его существовании, то потому единственно, что прочтет сказки Андерсена только через год, когда их издадут. Крепкая румяная Людка, стабильная двоечница и спортивная гордость школы, уже сейчас отличалась прекрасной кожей, хорошей фигурой и, к счастью, полным отсутствием наглости, присущей брату. Юраша старался казаться совсем взрослым и потому выглядел младше – во всяком случае, младше Геньки, который снисходительно посматривал не только на двоюродного брата, но и на взрослых.
Моти не было – он устраивал елку у себя, а Симочка с семьей пришел. Графин с водкой от него все время отодвигали. Тогда он вынимал отцовский портсигар и шел курить. Дед Мороз так же точно, как и в прошлом году, устало сутулился под елкой, да и не удивительно: всех оделил подарками. Таечке – с намеком на грядущее новоселье – досталась «Книга о вкусной и здоровой пище», которую Федор Федорович надписал: «Учись вкусно готовить, как следует кушать». Она дала Лельке посмотреть картинки, и та долго перечитывала надпись, восхищаясь крестным, который угадал, что мама должна кушать как следует, а то когда они идут куда-то, все думают, что это не мама, а сестра.
Подошло Крещение с неизбежными морозами, когда стекла окон становятся похожи на махровые полотенца, галоши надевать не надо, и невесомыми валенками можно хрустеть по снегу, а разговаривать нельзя: рот завязан, только шерсти наглотаешься.
У старухи валенок не было, а в ботах на кладбище далеко не уйдешь. У Иры, правда, были бурки с галошами; разумеется, не настоящие бурки, отделанные щегольскими полосками рыжей кожи, откуда? – Самодельные, которые она сшила из темной фланели с двойным слоем ватина. В них-то Матрена и ходила проведать могилу в воскресенье, а остаток дня бурки сушили у печки: в мокрых-то на работу не пойдешь. Иногда Ира возвращалась после первой смены заплаканная, и старуха знала: через кладбище шла.
Узнав, в чем дело, Тоня расстроилась до слез и обещала завтра же поискать: где-то на антресолях должны лежать валенки, как раз мамаше впору будут. Однако в каждой избушке, как известно, свои погремушки: учительница музыки была Татой недовольна, выразившись: «Девочку словно подменили», и пока что у Тони до антресолей руки не дошли. То ли нужно было искать новую учительницу, то ли дочку погонять хорошенько, и нечего хныкать, рано тебе еще перед зеркалом крутиться! Словом, забот полон рот. Мать не стала напоминать о валенках, а тут уже и Сретение на дворе; да и боты, слава Богу, есть.
Ох, обманчиво мартовское тепло; не дай Бог, простудила ребенка, гулявши: ишь, сопит во сне. За окном лениво проскрежетал ночной трамвай.
А славно погуляли сегодня. Проведали Симочку. Лелька детям из книжки читала, Симочкины-то не умеют еще, даром что старшему мальцу уже седьмой пошел. Она ж племянница им, Господи! И смех и грех: тетку на коленках держала. Уходили уже, так Лелька уперлась: хотела книжку забрать, что в прошлый раз им оставила. Какое; там и шматков не осталось.
– Что ты, золотко, за книжку так убиваешься, ты ж про эту рыбку все на память знаешь, – успокаивала Матрена, время от времени останавливаясь и вытирая безутешный нос. – А не про рыбку, так про что? Про мышку? Ну расскажи бабе, я послушаю про мышку.
Старуха заслушалась и даже обратной дороги не заметила.
– Как раз книжка про твою матку, тоже выкамаривает: и это не так, и то плохо.
– Это «Сказка о глупом мышонке», – снисходительно поправила девочка, и старуха не стала спорить.
Мышонок мышонком, а как там у ней было, где про царя? Сказка, дескать, врет, да в ней намек. То-то и есть; только ребенку такой намек где ж понять.
С Тайкиной квартирой тоже не легче: то она вот-вот должна появиться, квартира эта, то внучка опять замолкает. В мирное время как бывало? Тебе надо квартиру – иди и найми, еще хозяин следом побежит, уламывать будет. А теперь все не как у людей: и деньги плотишь, и живешь, как в гостях… или с гостями. Покосилась на дверь в соседнюю комнату. Матрена и у Феди спрашивала, что там с этой квартирой; може, подмазать надо? Зять перепугался. Там, говорит, мамаша, деньги такие, что не нам с вами подмазывать. Это Федя-то, а у них денег куры не клюют.
Она осторожно, чтобы не скрипнула кровать, повернулась на другой бок. Капли, Господи Исусе! Забыла, как есть забыла. Подошла, тихонько ступая, к окну. Уличный фонарь, прикрытый широким конусом колпака, раскачивался от ветра, бросая свет то на окно, то на голые ветки лип напротив. Пипетка ей была без надобности: пятнадцать капель как раз покрывали дно рюмки, похожее на воронку. Пробка застряла, как назло; ну наконец-то! Старуха долила воды, проглотила лекарство и закашлялась. Обернулась испуганно: спят, слава Богу. Закрылась бутылочка на диво легко.
Утром стало ясно, почему: от горлышка откололся кусочек стекла.
Я его проглотила.
Да не-е, бздуры. Не может того быть. Не должно!.. Несколько раз тщательно повторила весь свой ночной маршрут, в этот раз на коленках по полу. Може, осколок завалился куда и лежит, смеется. Нашлось овсяное зернышко, обломок грифеля, сломанная пуговица и – осколок, да, но от яичной скорлупы. Пошарила мизинцем по дну рюмки, да не раз, уж будьте благонадежны.
Не было. Нету.
После утренней молитвы поискала еще раз: нету.
Помру, решила она, но стало не страшно, а тоскливо. Ты-то помрешь, а с этими что будет? Ирке ребенка одной не поднять. Тайка безмозглая; одно слово, что матка, а в голове ветер.
С неприязненным вниманием осмотрела зазубрину на бутылочке. Делов-то, не больше хлебной крошки, а какой вред сделает. Велела искать правнучке: дескать, во-о-от такой кусочек стекла на полу валяется, не наступить бы. Лелька добросовестно ползала и вытащила из-под трюмо две фасолины, пустую катушку и сухой сморщенный каштан.
Нету.
Старуха решила ничего никому не говорить. Немедленно после этого собралась и отправилась с правнучкой к Тоне.
Дальше шло, как всегда идет развитие не сценической, но жизненной трагедии: дочери, разумеется, не было дома. Уже видя себя в гробу, Матрена несколько раз беспощадно вдавливала кнопку звонка, словно это могло изгнать паскудный осколок, и слышала укоризненный, глухой звон, приглушенный двумя дверьми.
Нету. Не судьба?
Одной рукой держа за руку девочку, другой слегка касаясь перил, она спустилась во двор. День был теплый, солнечный. Посреди двора стояла просторная песочница, а вокруг – низкие скамейки.
– Давай, что ли, подождем твою крестную. – Старуха опустилась на скамеечку и без интереса окинула взглядом высокий дом, «покоем» окружавший двор, никакие прозрачные кустики и женщину с ребенком на скамейке. Нянька? Нет, не похоже: в шляпке. Матка, небось. Женщина кормила чем-то из белой салфетки бледного мальчика в шубке и высоких ботинках с калошами. Ребенок капризно мотал головой, плотно упакованной в меховую шапку, а из-под шапки торчал платок.
Лелька наслаждалась развязанным капором. Стало жалко мальчика. Она подошла ближе. Ребенок лениво жевал, мама держала надкусанную котлету и рассеянно улыбнулась девочке. Лелька сделала книксен, как ее учила тетя Тоня, и сочувственно спросила, кивнув на мальчика:
– Он у вас тоже вшивый?
Женщина вскочила так, словно узнала, что скамейка покрашена. Она успела бросить гневный взгляд на старуху в трауре, недоуменно вскинувшую черную бровь, и схватила за руку мальчика, который с неожиданной ловкостью выплюнул в песочницу недожеванную котлету.
…Ругали Лельку одновременно бабушка Матрена и крестная, причем у бабушки Матрены колыхался живот, как всегда бывает, когда она смеется. Девочка поняла только одно: вши – это стыдно, и говорить о них неприлично. Потом ей разрешили посидеть у дяди Феди в кабинете, а дверь в столовую закрыли.
– Так ты спроси у Феди, – повторила старуха уже в прихожей.
И они с Лелькой начали спускаться по лестнице, второй раз за сегодняшний день.
Вопреки Тониным ожиданиям, муж встретил известие очень спокойно, чуть ли не безмятежно.
– Ну, во-первых, нечего горячку пороть: бутылка могла разбиться неделю назад, так? Во-вторых, ты сама пробовала глотать стекло? То-то. Человеческая гортань устроена таким образом, что… И потом, если б еще с большой порцией жидкости… Сколько там было в рюмке, на один глоток? Не говоря уже о том, что осколок мог действительно оказаться на полу. А что не нашла – это не аргумент; не с ее комплекцией ползать по полу или лезть под шкаф.
Феденька оторвался от омлета, раздумывая, мазать хлеб маслом или воздержаться: он начинал полнеть. Так и не решив, продолжал:
– Даже если предположить худшее, то есть она проглотила… Я не понимаю, – он повернулся к жене, – Таточка уже полчаса за пианино?
– И будет сидеть еще десять раз по полчаса! Нина Альфредовна ею очень недовольна.
Тата всхлипнула и выбежала из столовой. Пока жена сумбурно и возмущенно жаловалась, Федор Федорович машинально намазал хлеб маслом и вернулся к омлету. Отодвинув тарелку, он сказал как можно мягче:
– Тосенька, ты же из музыки ей наказание делаешь. Она играет «Песню жаворонка», а получается «Траурный марш». Возможно, имеет смысл поговорить с Ниной Альфредовной…
Договорить он не сумел, только пил маленькими, аккуратными глотками нарзан под монолог жены. Из этого монолога Феденька снова узнал, что ему хорошо говорить, а на ней мало того, что весь дом, так и за мать сердце болит, и уж где-где, а в семье самое важное что? Дисциплина! Это слово жена особенно любила и выговаривала четко по слогам и через «Т»: «дис-ти-пли-на», причем на предпоследнем слоге Феде всегда представлялся полк, готовый к стрельбе по команде: «Пли!»
Он слегка поморщился.
– Так вот, если даже это случилось, – я говорю «если», это не значит, что она действительно проглотила, – ну так он выйдет!
Все еще распаленная своей речью, Тоня смотрела непонимающе.
– Очень просто, – поморщился Феденька, прикрыв рот салфеткой (надо поменьше яиц есть). – Я говорю, очень просто! Помнишь, Юраша в пять лет пуговицу проглотил?… Вот и объясни ей: эвакуируется, мол. – Встретив недоуменный взгляд, пояснил: – Наружу выйдет. Как всё выходит.
После ужина им овладела сонливость, но жена принесла чай.
– Попьешь – и поезжай. Мать там с ума сходит.
Даже после крепкого, бодрящего чая – а может быть, особенно после него – выходить в промозглый март казалось немыслимо. В кабинете ждали свежие газеты. Юраше была обещана разгромная партия в шахматы. За столом у окна сутулилась бледненькая и очень несчастная Таточка, которую хотелось приласкать и развеселить. Все мечты, однако же, были прихлопнуты его любимой шляпой, и пальто он застегивал уже на лестнице.
«Дис-ти-плиии! – на», – издевательски пропела дверь парадного.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































