Текст книги "Жили-были старик со старухой"
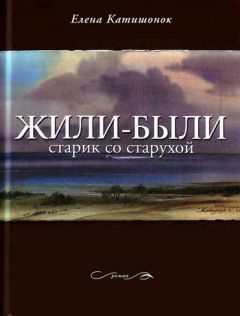
Автор книги: Эмиль Брагинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
22
«Скоро уже, мамынька, скоро», – торопливо приговаривает Максимыч. Рукава у него засучены, а жилетка надета какая-то нарядная. «Что ж ты выходную жилетку у верстака треплешь?» – Матрена говорит строго, хоть радуется, что он живой, и Бог с ней, с парадной жилеткой: вот он стоит, здоровый и крепкий, опустив правую руку с коловоротом, а левой расстегивает верхнюю пуговку рубашки. «Моя в шкапу висит, – отвечает уверенно, – а это Васютина, он мне проспорил: мол, не сделаю. А я уже почти сделал, делов-то… резьбу осталось кончить».
Живой, Господи! Живой! Да что я молчу, надо же спросить. «Гриша, ты простил?…» Он разравнивает усы свободной рукой и улыбается: «От-т… Мать Честная! Сделай поисть». Старуха голову потеряла от радости: сам просит исть, оголодал – и бросается к плите. Огонь погас, а в дровяной корзине ни одного полешка нету. Муж подходит, прихрамывая: «Я принесу. Только там всего ничего, гроб-то маленький». И тут же, никуда не уходя, бросает в корзину какие-то чурочки – ровные, чистенькие, хоть сейчас детям в игрушки. «Гриша? – удивляется она, – кому ты гроб работаешь, ты ж никогда гробы не делал?»
Максимыч выпрямляется с лучинкой в руках и произносит укоризненно: «Она же вдова. Если я не сделаю, кто тогда?
Для Лизочки смастерил, смастерю и ей», – и отворачивается. Матрена понимает и пугается, но все же спрашивает: «Кто помер, Гриша? Скажи!» Муж стаскивает сапоги, ставит у порога ровненько и, не подымая глаз, кивает коротко в сторону комнаты. Не помня себя, старуха бежит, но не может найти Ириной комнаты: квартира стала намного просторней, чем была в мирное время, и свету нет, одни лампадки горят.
На столе стоит гроб, но совсем крохотный, как для младенца. Матрена наклоняется: Лизочка. Ах, пустомеля… Старик кивает: «Смотри», и тогда она видит в гробу… Иру. Глаза закрыты, дочь улыбается – чуть-чуть, уголками губ, но старуха все равно понимает: мертвая. За что, Господи?! Вернул мужа, а дочку… дочку отнял…
Матрена начинает рыдать в голос, от слез трудно дышать, а они льются и льются. Кухонное окно уже светлеет, но старуха глаз не открывает, только всхлипывает глубоко и протяжно. Это сон, и муж простил ее. Слава Богу, простил. Что-то хотела… он ведь исть просил, и она хотела его накормить… чего ж не кормила? И еще – что еще во сне хотела? Ах, да, хотела по имени звать его: Гриша, а то что ж я – все «ты» да «ты». Да, это правильно. Лежа со смеженными веками, повторила несколько раз: «Гриша», а когда открыла глаза, поняла, что никогда уже не назовет его так. Поздно. И страшное что-то было, вот наволочка мокрая. Гроб. Ирка?!
Сколько нужно времени, чтобы вернуться из того мира в этот – секунды? Миг – или вечность, но в этом мире было раннее воскресное утро; значит, сон вещий, и дочь жива. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Царица Небесная!..
К Ирине поехали на следующий день, с Тоней и с Лелькой, – с кем же оставить ребенка? Обе, прабабка и правнучка, рассматривали больничный город – ибо такое название подходило к Республиканскому госпиталю более всего – почти с одинаковым интересом. Здесь по-русски почти не говорили; ну, да мамынька не рассусоливать приехала. То ли Тонина уверенность, то ли внушительная фигура старухи в строгом трауре помогли отыскать в лабиринтах больничной крепости нужное отделение и палату сравнительно быстро и, главное, вовремя, потому что Лелька заговорила про горшок, куда она, оказывается, стремилась еще в троллейбусе. Тоня только успела бросить через плечо: «Подожди меня, мама» и помчалась с крестницей предотвращать бедствие.
Чего ждать-то? Мамынька недовольно поднялась со стула и нажала ручку двери. Радио молчит, слава Богу; трое спят – это среди белого-то дня! У ближней стенки – не то баба, не то мужик, не понять, лицо желтое и опухлое, точно тесто поднялось, а голова вся в бинтах. Чуть подальше баба на койке лежит одетая, одно ухо под толстыми бинтами, над ней медсестра склонилась. Медсестра почти не смотрит на шприц, а только на старуху. Больная, с интересом наблюдавшая за иглой в своей руке, тоже отвлеклась. Иры не было. Наконец резко запахло спиртом, сестричка сгребла свое хозяйство на поднос и повернулась к Матрене:
– Вы к кому?
Выслушав ответ, кивнула на кровать у стенки:
– Вот она, – и тут же бросилась за нашатырем: мать сомлела.
Дочкиного лица она не узнала: не могла, не хотела узнать его таким. Узнала – руки, лежащие поверх одеяла, и долго рассматривала маленькие кисти с состиранной кожей, как-то посветлевшие от болезни, твердые ногти с лунками и тонкое венчальное кольцо.
В дверях столкнулась с Тоней и решительно взяла руку правнучки в свою:
– Пойдем, золотко. Спит баба Ира, ей спокой надо, чтоб скорее здоровая стала. А ты своди меня, куда вы с крестной ходили, хорошо? – твердо зная, что ребенку лучше туда, чем в палату.
Уговорились с Тоней ездить в больничное царство-государство по очереди. Сидеть там необходимости не было, а вот питание… Что ж – больница. Выбирая в мясном павильоне кусочек телятины с косточкой, старуха радовалась, что и девочке супец будет – от матки-то, что бегает, хвост задравши, не дождется; вернувшись, дома как раз застали Таечку. Она сидела надутая после беседы с крестными и тут же сказала дочке, что устроит ее в детский садик, а пока они будут вместе ходить «к маме на работу».
Мама работала в высоком сером доме, где душно пахло бумагами и дымом, а люди очень быстро ходили по лестнице вверх и вниз. Мама все время здоровалась, сильно дергая Лельку за руку и сердито шепча: «Поздоровайся». В одной из комнат мама печатала на машинке, а Лельке дала много бумаги, карандаши и резинку – рисовать. Иногда мама отрывалась и спрашивала: «Тебе никуда не надо?», а когда стало надо, долго шли по коридору к двери с надписью «ТУАЛЕТ». Слово было знакомое: тетя Тоня, открывая в спальне шкаф, часто говорила: «Пора туалеты проветрить. Собирайся гулять, курносая!» Но здесь был совсем не шкаф, а просто нужник. Зачем такое красивое слово написали на двери, непонятно. Лучше бы проветрили.
Рисовать Лелька быстро уставала, и ей хотелось спать. Тогда она забиралась под стол и думала о детском садике. Он, наверно, похож на тот парк, в который они с Максимычем ходили, но только без взрослых. Тогда можно будет рвать желтые цветочки, из которых большие девочки умеют плести венки. И она научится. Максимыч всегда разрешал их собирать, а бабушка Матрена ругалась, потому что руки делались черные. Уходя с мамой «на работу», она по-прежнему ставила чибы Максимыча около дивана.
К маме пришла какая-то тетенька, и они заговорили тихо, но неинтересно: «А он?… Иди ты!.. А она что?… С ума сойти…» Мама вдруг сказала:
– Познакомься, Ляля: это моя подруга, тетя Капа. Не успела Лелька удивиться, как подруга спросила:
– Конфетку хочешь?
Кто ж не хочет; но надо отказываться и говорить: «Нет, спасибо». Конфетку она все равно дала и села с мамой курить. Лелька под столом была занята сразу двумя делами: надо было отлепить «Тузик», приклеившийся к зубу, и проверить, что капало из маминой подруги. «Так она у тебя Оля или Леля?» – «Спрашиваешь!.. Ольга, безусловно. Это моя матушка ее Лелей зовет…» – «А ты?» – «Ну что за старомодное имя! Она у меня – Ляля, Лялька».
А детского садика надо было ждать и ждать.
Вот неделя, другая проходит. Миновал Покров. Старуха сменила черное старенькое шелковое манто на черное же суконное: известно, что пар костей не ломит. Она немного похудела от беготни: базар, кладбище, моленная, больница. Девочка затосковала и по утрам вставала очень неохотно. Матрена подозрительно обнюхивала ее волосы и платьица; узнав, что ребенок сидит целыми днями в табачном дыму, вспылила и запретила Тайке «таскать ребенка в этот вертеп», именно так и выразившись. Та задрала подбородок и объявила, что на днях получает отдельную квартиру, после чего забирает ребенка к себе. Надя при этих словах громко произнесла: «Слава Богу!», но дверью хлопнула еще громче.
…Уже отстояли сороковины, когда Иру выписали. «Непредсказуемые последствия», которых опасался Феденька, ее, слава Богу, миновали, однако мучили головные боли, хоть не опасные, но свирепые. Матрена каждый день возносила молитву Иоанну Предотече и была твердо уверена, что именно эта молитва подняла дочь.
Иногда октябрьские дни бывали совсем теплые, и старуха могла задержаться на кладбище. Ровный прямоугольник из песка уже утратил свою яркую желтизну. Мало-помалу она убрала засохшие венки, разровняла землю маленькими граблями. Только здесь можно было делать то, чего так хотелось во сне: называть мужа по имени, но не как в поминании: рабом Божиим Григорием, а просто – Гришей. Она часто повторяла его имя, удивляясь со стыдом, что не помнит, когда звала его так. А ведь больше полувека вместе прожили, это вам не фунт изюму.
Сон, в котором муж ее простил, не забывался. Старуха незаметно начинала говорить вслух. И сон рассказала, но не весь: про гроб не упомянула.
– Не зря ведь, – обращалась она прямо к ровному прямоугольнику, – не зря у меня вечером глаза свербели: ночью-то плакать пришлось… А Тайка говорит, что квартиру получает. Отдельную. Заберет ребенка. Уж как она жить будет, Бог знает. Ирка ведь не двужильная! Скоро, Бог даст, с больницы выйдет; так сразу и впряжется, ты ее знаешь. А я на днях обедать села; одна, с кем же мне теперь?… Ну, так режу хлеб, смотрю – а у меня кусок недоеденный лежит. Кто ж, думаю, у меня голодный? А тут как раз тот сон, и будто ты поисть просишь…
Она вставала, доставала из ридикюля белейший платок и шла прощаться, по очереди дотрагиваясь рукой со сложенным платком до могилы: «Прости, мама… папа… Ларя… Лизочка» и наконец останавливалась у холма без надгробия: «Прости, Гриша». У выхода крестилась, низко кланяясь, и к воротам шла не оборачиваясь.
У колонки, где брали воду, женщина нагнулась за ведром, повернувшись к Матрене обильным задом. Из-под юбки видны были грубые бумажные чулки; на одном ярко желтел березовый листок. Она неловко развернулась, и ведро звонко выплюнуло часть воды.
– Ох, искушение, – закудахтала женщина, – чуяло мое сердце, надо было… Матрена Ивановна? – И тут же зачастила: – Доброго здоровья вам! Могилку проведывали? Я и Тоню вашу встречала пару раз, а больше никого.
В словах вопроса не было, только в глазах любопытство, точно спичкой чиркнула и ждет, загорится беседа или нет.
И зря чиркала: старуха не имела ни малейшего намерения говорить о дочкиной операции.
– Так все работают, – ответила коротко.
– Я уж и не припомню такой панихиды, – чиркнула следующая спичка, – полная моленная. А похороны!..
Внезапно сдавило горло, и Матрена торопливо полезла за платком.
– Ох, искушение, – жалобно протянула та, пока старуха шарила в ридикюле, – теперь только и осталось, что за могилкой смотреть. Летом грабельками пограбишь – и хорошо, а зимой уж как Бог даст. – Сделала уважительную паузу и снова спичкой чиркнула: – Редкий человек покойник был, Царство ему Небесное. А только я никого из его родни не признала. Ваших-то всех в лицо знаю, а ихних?…
– Никого и не было. Померши все, Царствие им Небесное, – ответила Матрена и решительно простилась.
У высоких кирпичных ворот кладбища зачем-то незаметно оглядела свои чулки: нет, листья не пристали.
Что ж всякому за дело, гневно думала она, до чужой родни?! И ладно бы свой кто был, а то – нашему забору двоюродный плетень. Привычная дорога: вниз к Маленькому базарчику и поворот на Большую Московскую – немного утишили ее волнение. У Тоньки тоже небось выспрашивала; у таких язык без костей.
Старуха досадовала на ненужную встречу, сбившую ее разговор с мужем. Вовсе она не собиралась вспоминать покойную свекровь, а та уже стоит перед глазами как живая, Царствие ей Небесное. Это ж сколько лет, как померши? Считай, тридцать. Да нет, какое: больше, уж тридцать пятый год. Сколько теперь ей было бы? Девяносто два – девяносто три; ну да. Она попробовала представить свекровь древней и немощной, но не выходило ровным счетом ничего, зато в памяти сразу высветилось узкое, очень смуглое лицо с глубоко посаженными глазами, черные, без сединки, волосы с поминутно соскальзывавшим платком и точная, бесшумная быстрота движений.
Тогда, в Ростове, ей было уже под шестьдесят, но не верилось нипочем, хотя выросли все двенадцать детей, а уж сколько внуков вынянчено, Матрена не считала. В глубине души она была уверена, что не обошлось без цыганской ворожбы, а то как же? Баба – она и есть баба; где ж это видано, чтоб родить столько ребят, и живота не было?! А его не было – фигура у свекрови была такая, что хоть сейчас к Тоньке в буфет ставь. Там одна уже есть такая: руки в стороны, ногу отставивши, точно полетит сейчас. Одно слово: иноземка, хоть и крещеная. И мужа, Матрена была уверена, приворожила картами своими цыганскими, или как уж там они умеют.
Свекор всегда вызывал у нее восхищение и жалость одновременно. Она любовалась его стройностью, ловкой посадкой на коне, кудрявой шевелюрой и усами, еще более блестящими и ухоженными, чем у мужа; обращалась к нему не только «папаша», но и «Максим Григорьевич», с уважительной отчетливостью выговаривая отчество. Одно ей было не понятно: как он мог жениться Бог знает на ком, на цыганке этой, разве ж больше никого не нашлось бы? И сама отвечала на риторический вопрос, задаваемый не один десяток раз: еще бы! Конечно, нашлись бы, и много лучше… А вот поди ж ты. Кого, впрочем, она имела на примете, оставалось ее тайной… Эти ненужные, хоть и от доброго сердца, мысли вызывали сочувствие к свекру, о котором тот и не подозревал, а если б узнал, то безмерно бы изумился, потому что считал себя одним из счастливейших мужей, когда-либо живших на земле.
Конечно, опять упрекала Матрена покойницу, жила как у Христа за пазухой – на всем готовом. Исть захотела, сама или ребяты, – пожалуйста: из солдатского котла! Ни тебе на базар бежать, ни в очередях давиться. Ей только и дела было, что ребят одного за другим рожать. Да эдак жить любая согласится!
Знала ли старуха, что упреки ее несправедливы, неизвестно: брови напряглись у переносицы, а губы были плотно сжаты. Наверное, догадывалась, и когда утверждала, что «любая согласится», сама не согласилась бы ни за какие коврижки. Хоть Максимыч никогда не служил, она смутно подозревала, что жизнь в обозе действующей армии несколько отличается от таковой у Христа за пазухой. «Иноземка» легко рожала, чему невестка тоже завидовала, хотя этой легкости верила не вполне, помня по своему семикратному опыту, что значит родить ребенка. Сама о том не догадываясь, она горько завидовала ровному, ничем не нарушаемому ладу в том доме, а особенно – нежности, с которой свекор смотрел на жену, и старалась убедить себя, что это смешно и неуместно, как неуместно ласковое имя «Ленушка», когда этой «Ленушке» под шестьдесят.
Это тогда шестьдесят, добавила удовлетворенно, а в девяносто три-то, небось, звал бы иначе… кабы дожили. Да только не осталось никого: ни свекра, всю жизнь обожавшего жену, ни свекрови, которую Матрена мысленно называла то «копченой», то «головешкой» за цыганскую смуглость.
…Они жили на новой квартире, но дом Максимыч нарочно не продавал: ждали родню. Считая по многу раз, чтоб не сбиться, предполагали встретить и устроить шестнадцать человек, не беря в расчет детей; старик присматривал недорогое жилье поблизости – на первое время, пока осмотрятся.
Приехал Мефодий, старухин брат. Один. Матрена смотрела с радостным нетерпением и недоумевала, зачем он закрывает дверь – другие-то идут следом, идут?… Мефодий стащил шапку с заиндевевших волос и перекрестился на икону. Потом обнял сестру и шурина, но как-то безучастно. Есть отказался, только пил торопливо чай стакан за стаканом; наконец, отодвинул, вытащив зачем-то ложку.
Матрена с тревогой рассматривала брата. На исхудалой фигуре висела старая вязаная фуфайка, составляя нелепый контраст с почти новыми черными брюками. От фрачной пары, догадалась она, в которой венчался. Борода и волосы давно нуждались в стрижке, а иней на висках все не таял, потому что оказался совсем не инеем. Глаза немного запали и смотрели без интереса, а пышные усы неряшливо топорщились. Эта недавняя неухоженность, когда человек к ней еще не привык и не научился ни скрывать, ни игнорировать, особенно бросалась в глаза.
Он заговорил так же торопливо, как только что пил чай, и слова обжигали.
– В Ростов холера пришла, еще перед Рождественским постом. Кто говорил, от большевиков, другие – оттого, дескать, что гнилье всякое ели. Жена, будучи сказать, родить скоро должна была, ждали к Николину дню. А как схватило, Ульяше худо стало. Колотило, точно в горячке; все пить просила. Пьет и еще воды просит, будучи сказать.
Брат подержал стакан, рассматривая вялые чаинки на дне.
– Три дня промаялась; так и отдала Богу душу, не разродившись. Брат Петра, будучи сказать, тоже холерой помер. В три дня, Царствие ему Небесное.
Как ни старался Максимыч встретиться с ним глазами, не получалось: Мефодий переводил взгляд с озябшего стакана на сестру, но и ей смотрел не в глаза, а куда-то поверх бровей. Он продолжал говорить, и старуха ошеломленно крестилась после каждого имени.
Неожиданно гость повернулся всем корпусом к старику, но глаз по-прежнему не поднимал.
– Ты, Григорий, своих не жди. Забрали всех, будучи сказать, тогда… с казаками. Как раз как вы уехали.
Старуха начала было недоверчиво:
– Да как же ты знаешь… – и замолкла, наткнувшись на гневный взгляд мужа.
Он слушал напряженно и чуть недоверчиво, как слушают глухие, всем лицом. Мефодий как раз знал, о чем говорил, недаром работал он у шорника, где казак – первый клиент: ведь хорошая сбруя для коня – не меньшей важности дело, чем мундир и штаны с лампасами для хозяина. Матрена запомнила весь его рассказ, с нелепым этим «будучи сказать», как запоминают слышанную в детстве страшную сказку.
– …Форму совсем запретили носить, даже фуражки. Велели сразу оружие сдать, с обысками ходили: двое, будучи сказать, прикладами в двери стучат, а уж другие под карнизами хоронятся, только фуражки кожаные, что грибы, торчат. Ну вот. У кого винтовку найдут, тех сразу, будучи сказать, стреляли. Не-е, не только в Ростове – по всему Дону. Потом хлеб начали отнимать, по всем станицам разом; ссыпать велено было в кучи. Другие припасы тоже отбирали подчистую, чтоб людям исть было нечего. Лошадей, конечно. А кто, будучи сказать, бежал, так про них особый приказ пустили: расстреливать. Бежать-то бежали, да за каждого, кто бежал, убивали пятерых. А и кто убежит, круглым сиротой сделается: они ж всю семью – и баб, и стариков, и детей – всех, будучи сказать… Вот и побежи… Баб-то с детями за что?! Так я тебе скажу: хотели, чтоб казаков больше не было. А то: дети подрастут, а дед с бабой и расскажут… Так всех и перебили, весь Дон как чужой стал. Прежде-то были хутора да станицы, а нынче не хутор, будучи сказать, а – деревня, не станица, а – волость. Кого только не навезли туда, спаси Христос! На все готовое, будучи сказать, вот вам – живите! Оборванцы, голь перекатная да беспорточная. Собрали Бог знает откуда: и с Воронежа, и с Самары, и с Пензы какой-то. Босота да нагота, будучи сказать. Може, и холера от них…
Мефодий сжал кулак и так сидел, сосредоточенно глядя на торчащий черенок ложечки с монограммой. Чужие слова «перебили», «расстреляли» прозвучали здесь впервые, и никаких других слов не было, чтоб назвать антихристово действо, учиненное над казаком Максимом Григорьевым Ивановым и сотнями тысяч других невинно убиенных. Они не захотели – или не успели – бросить свою жизнь, с которой срослись, как с казачьей формой, и бежать куда глаза глядят, хоть бы и к самому синему морю. Да только глядели бы их глаза на белый свет после всего виденного, и если так, белым ли остался бы для них белый свет и синим ли – море?…
Едва ли Матрена думала такими словами. В ее представлении ни свекор, ни свекровь просто не соединялись с антихристовыми словами; да разве ж такое возможно для людей?! Она не заметила, как брат перестал терзать чайную ложку и сидел, ссутулившись и втягивая заношенные манжеты в рукава фуфайки.
– Она, люди говорят, вроде тифа, холера эта, – негромко заговорил Максимыч. – Как один сляжет, так непременно и другие. Може, и мои? От холеры?…
Придвинув к себе стакан, Матрена повернула кран самовара.
– А ну-ка, горяченького, – и протянула брату дымящийся чай, – выпей, выпей, ты же с морозу!
Все это она говорила громко и настойчиво для того только, чтобы заставить Мефодия посмотреть на нее. Тот машинально потянулся за стаканом и удивленно поднял глаза. То ли сестра едва заметно кивнула, то ли чуть повела бровями, на одно неуловимое мгновение, только ложечка послушно завертелась в стакане, и Мефодий, наблюдая игрушечный водоворотик, согласно кивнул:
– Холера и есть холера. Сколько людей полегло… – и все размешивал, размешивал сахар, которого в стакане не было.
…Хлопнула дверь бакалейного магазинчика, выпустив тоскливый запах хозяйственного мыла и терпкий – селедочного рассола. Вышла женщина с ребенком. Матрена равнодушно смотрела, как та поправляет матросскую шапочку на детской голове, ищет перчатки в оттопыренном кармане и сворачивает в переулок, ни разу не оглянувшись на незнакомую старуху в черном, которая зачем-то запоминает эти ненужные мелочи навсегда.
О Ростове никогда больше с братом не говорили.
Ждать стало некого, и дом № 44, единственную свою недвижимость, продали. Продали поспешно, невнимательно и не дорожась. Бог с ним; на кой… теперь-то.
С тех пор миновала вечность, то есть тридцать четыре года и несколько трамвайных остановок, пройденных торопливым шагом. И Матрена вдруг поняла: восемьдесят, девяносто или девяносто два – все равно он называл бы ее Ленушкой. Усмехнулась – и тут же увидела себя в больнице, как прямо восседала на табуретке, и почти услышала желанное: «Матреша…», а под самым горлом у него пульсировала нежная ямка. Прости меня, Гриша. Гришенька, прости!..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































