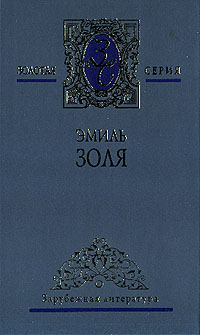Читать книгу "Разгром"
Морис доедал отбивную котлету, опьяненный не столько белым вином, сверкавшим в его стакане, сколько этой великой славой, певшей гимны в его памяти, как вдруг его взгляд упал на оборванных солдат, покрытых грязью, похожих на разбойников, уставших рыскать по дорогам; Морис слышал, как они спросили у служанки, где именно стоят полки, расположившиеся лагерем вдоль канала.
Морис подозвал их:
– Эй, товарищи, сюда!.. Да ведь вы из седьмого корпуса?
– Конечно. Из первой дивизии!.. Черт подери! Нам да не быть оттуда! Ведь я сражался под Фрешвиллером, там дело было жаркое, могу за это поручиться… А этот товарищ, он из первого корпуса; он был под Виссенбургом; тоже скверное место!
Они рассказали, как их понесло в общем потоке бегства, как они, полумертвые от усталости, остались на дне оврага, были даже ранены и потащились в хвосте армии, и вынуждены останавливаться в городах, страдая от приступов изнурительной лихорадки, и так отстали, что только теперь, слегка оправившись, пришли сюда, чтобы найти свою часть.
У Мориса сжалось сердце: готовясь приступить к швейцарскому сыру, он заметил, как они жадно взглянули на его тарелку.
– Мадмуазель! – позвал он служанку. – Еще сыра, хлеба и вина!.. Товарищи, вы тоже закусите, правда? Я угощаю. За ваше здоровье!
Они радостно сели за стол. Морис похолодел, глядя на них: то были жалкие, опустившиеся безоружные солдаты в красных штанах и шинелях, подвязанных бечевками, залатанных такими пестрыми лоскутьями, что эти военные стали похожи на грабителей, на цыган, которые вконец износили рвань, добытую на каком-нибудь поле сражения.
– Да, черт подери! Да, – заговорил высокий солдат, набив рот сыром, – там было невесело!.. Надо было это видеть. Ну-ка, Кутар, расскажи!
И низенький солдат, размахивая куском хлеба, принялся рассказывать:
– Я стирал рубаху, другие ребята варили суп… Представьте себе отвратительную дыру, настоящую воронку, а кругом леса; оттуда эти свиньи-пруссаки и подползли так, что мы их даже не заметили… И вот, в семь часов, в наши котлы посыпались снаряды. Будь они прокляты! Мы не заставили себя ждать, схватили винтовочки и до одиннадцати часов – истинная правда! – думали, что здорово всыпали пруссакам… Надо вам сказать, нас не было и пяти тысяч, а эти сволочи все подходили да подходили. Я залег на бугре, за кустом, и видел, как они вылезают спереди, справа, слева – ну, настоящий муравейник, куча черных муравьев, вот кажется, больше их нет, а они ползут еще и еще. Об этом нельзя говорить, но мы все решили, что наши начальники – форменные олухи, раз они загнали нас в такое осиное гнездо, вдали от товарищей, дают нас перебить и не выручают… А наш генерал – бедняга Дуэ – не дурак и не трусишка, да на беду в него угодила пуля, и он бухнулся вверх тормашками. Больше никого и нет, хоть шаром покати! Ну, да ладно, мы еще держались. Но пруссаков слишком много, надо все-таки удирать. Сражаемся в уголку, обороняем вокзал; и такой грохот, что можно оглохнуть… А там, не знаю, уж как, город, наверно, взяли; мы очутились на горе, кажется, по-ихнему, Гейсберг, и укрепились в каком-то замке да столько перебили этих свиней!.. Они взлетали на воздух; любо-дорого было глядеть, как они падают и утыкаются рылом в землю… Что тут поделаешь? Приходили все новые да новые, десять человек на одного, и пушек видимо-невидимо! В таких делах смелость годится только на то, чтобы тебя убили. Словом, заварилась такая каша, что пришлось убраться… И все-таки опростоволосились наши офицеры! Вот уж простофили, так простофили, правда, Пико?
Все помолчали. Пико, высокий солдат, выпил залпом стакан белого вина, вытер рот рукой и ответил:
– Конечно… То же самое было под Фрешвиллером: надо быть круглым дураком, чтобы сражаться в таких условиях. Так сказал наш капитан, а он сметливый… Наверно толком ничего не знали. На нас навалилась целая армия этих скотов, а у нас не было и сорока тысяч… Мы не ожидали, что в тот день придется сражаться; сражение завязалось мало-помалу; говорят, начальники не хотели… Словом, я, конечно, видел не все. Но я хорошо знаю только одно: вся эта музыка началась сызнова и продолжалась с утра до вечера, и, когда решили, что она кончилась, оказалось: какой там конец! Опять поднялась кутерьма, да еще какая!.. Сначала под Вертом. Это славная деревушка с забавной колокольней, похожей на печку: она выложена изразцовыми плитами. Не знаю, какого черта нам приказали оставить Верт утром: ведь потом мы в лепешку разбивались, чтобы опять занять его, и ничего не выходило. Эх, ребята! Как там дрались, сколько распороли животов и расквасили мозгов, прямо диву даешься!.. Потом дело заварилось вокруг другой деревни, Эльзасгаузен (такое название, что можно язык сломать). Нас обстреливало невесть сколько пушек; они бухали с проклятого холма сколько им было угодно; его мы тоже оставили утром. И тогда я увидел… да, своими глазами увидел атаку кирасир. Сколько их перебили, бедняг! Прямо было жалко, что бросили людей и коней на такой участок: косогор, кустарники, овраги! Тем более что это не помогло, черт подери! Ну, да все равно, зато поработали, молодцы! Сердцу становилось теплей… Казалось бы, лучше всего отойти, передохнуть, правда? Деревня горела, как спичка; в конце концов нас окружили баденцы, вюртембержцы, пруссаки – вся банда, больше ста двадцати тысяч этих сволочей, мы потом подсчитали. Да не тут-то было! Вся музыка загремела опять еще громче, вокруг Фрешвиллера! Ведь, по совести говоря, Мак-Магон, может быть, и простофиля, но храбрец. Надо было видеть, как он сидел на своем рослом коне, под снарядами! Другой бы сбежал с самого начала и считал бы, что не стыдно отказаться от боя, когда не хватает силенок. А он решил: раз началось, надо биться до конца. И уж получил сполна!.. Да, под Фрешвиллером убивали друг друга уже не люди, а дикие звери. Почти два часа в речках текла кровь… А потом, потом – что ж, пришлось все-таки повернуть оглобли. И подумать, что нам рассказывали, будто на левом фланге мы опрокинули баварцев! Накажи меня бог! Будь у нас тоже сто двадцать тысяч человек! Будь у нас пушки да не такие простофили-начальники!
Кутар и Пико никак не могли прийти в себя от ярости и отчаяния. Не снимая изодранных шинелей, серых от пыли, они нарезали хлеб, глотали огромные куски сыра и, сидя в этой красивой беседке, увитой гроздьями зрелого винограда, пронзенного золотыми стрелами солнца, продолжали рассказывать, вспоминая ужасы пережитого. Теперь они говорили о потерпевших страшное поражение, отброшенных, разложившихся, изголодавшихся войсках, бежавших через поля, по большим дорогам, где неслась лавина людей, коней, подвод, пушек, – вся разгромленная, разбитая армия, подхлестываемая бешеным вихрем паники. Если она не могла осторожно отступить и запереть проходы через Вогезские горы, где десять тысяч человек остановили бы сто тысяч неприятельских войск, надо было по крайней мере взорвать мосты, засыпать туннели. Но генералы испуганно скакали прочь, и веяла такая буря ужаса, унося и побежденных и победителей, что на мгновение обе армии заблудились и потеряли одна другую в этом слепом преследовании среди бела дня; Мак-Магон бежал к Люневилю, а прусский кронпринц искал его на дороге к Вогезам. 7-го числа остатки 1-го корпуса прошли через Саверн, как вышедшая из берегов илистая река, катящая обломки и отбросы. 8-го, под Саарбургом, 5-й корпус влился в 1-й, как неистовый поток в поток, тоже спасаясь бегством, разбитый до битвы, увлекая за собой своего начальника – генерала де Файи, растерянного, обезумевшего от страха, что его обвинят в бездеятельности и возложат на него ответственность за поражение. 9-го и 10-го числа бегство продолжалось; каждый спасал свою шкуру и улепетывал без оглядки. 11-го, под проливным дождем, неслись к Байону, чтобы обойти Нанси: распространился ложный слух, что этот город захвачен неприятелем. 12-го расположились в Гаруэ, 13-го в Вишре, а 14-го прибыли в Нефшатель; там эта лавина докатилась до железной дороги, и в три часа дня всех погрузили в поезда и повезли в Шалон. Через двадцать четыре часа после отхода последнего поезда явились пруссаки.
– Эх, проклятая судьба, – сказал Пико. – Ну и пришлось поработать ногами!.. А нас-то оставили в госпитале!
Кутар вылил остатки вина в свой стакан и в стакан товарища.
– Да, схватили мы шапку в охапку и вот бежим еще и теперь… Ну да сейчас все-таки лучше: можно выпить стаканчик за здоровье тех, кому не разбили морды.
Тут Морис понял. После нелепой неожиданности под Виссенбургом поражение под Фрешвиллером было словно внезапный удар молнии, и ее зловещее сверкание ясно обнаружило страшную правду. Мы плохо подготовились: у нас была посредственная артиллерия, ложные данные о наличном составе войск, неспособные генералы, а столь презираемое нами войско врага оказалось крепким, сильным, бесчисленным, установившим великолепную дисциплину и выработавшим отличную тактику. Слабый заслон из наших семи корпусов, рассыпанных от Метца до Страсбурга, был прорван тремя прусскими армиями, как мощными клиньями. Мы сразу остались в одиночестве: ни Австрия, ни Италия не придут на помощь; план императора рухнул вследствие медлительности действий и неспособности военачальников. Сама судьба была против нас, нагромождая препятствия, неблагоприятные совпадения, осуществляя тайный замысел пруссаков: рассечь надвое наши армии, отбросить часть их к Метцу, чтобы отрезать от Франции, и, уничтожив остатки, двинуться на Париж. Теперь это обнаруживалось с математической точностью; нас должны победить при всех обстоятельствах, неизбежные последствия которых становились явными: это – столкновение безрассудной отваги с численным превосходством и холодным расчетом. Сколько бы ни спорили об этом в будущем, поражение все-таки неотвратимо, как закон сил, которые правят миром.
Вдруг задумчивый, блуждающий взор Мориса упал на высокую желтую стену, и Морис опять прочел начертанные углем слова: «Да здравствует Наполеон!» И тут же почувствовал нестерпимую боль, жгучий укол, пронзивший сердце. Неужели эта правда? Неужели Франция, которая одержала баснословные победы и прошла с барабанным боем через всю Европу, с первого удара побеждена маленьким, презренным народцем? За какие-нибудь пятьдесят лет мир преобразился: вечные победители потерпели страшное поражение. И Морис вспомнил все, что говорил ему зять, Вейс, в тревожную ночь под Мюльгаузеном. Да, только он один предвидел это, угадывал скрытые, медленно действующие причины нашего упадка, чувствовал новый ветер молодости и силы, который веет из Германии. Значит, кончается одна воинственная эпоха и начинается другая? Горе народу, который останавливается в своем движении! Победа за теми, кто оказался впереди, за теми, кто искусней, здоровей, сильней!
В эту минуту послышался смех, крики, как будто кто-то насильно целовал девушку, а она притворно сопротивлялась. Это лейтенант Роша в старой, закопченной кухне, украшенной лубочными картинками, обнимал красивую служанку, как полагается солдату-завоевателю. Он вошел в беседку, куда ему принесли кофе; услышав последние слова Кутара и Пико, он весело сказал:
– Чего там, ребята, все это глупости! Это только начало! Вы еще увидите, как мы им здорово отплатим!.. Черт возьми! До сих пор их было пятеро против одного. Но теперь дело повернется по-другому, уж будьте благонадежны!.. Нас здесь триста тысяч. Все наши непонятные передвижения мы производим для того, чтобы заманить сюда пруссаков, а Базен за ними следит и ударит им в тыл… Тогда мы их прихлопнем – хлоп! – как эту муху.
Звонким ударом он на лету раздавил между ладонями муху, засмеялся еще громче, еще веселей и всем своим простодушным существом поверил в этот легкий план так же, как верил в непобедимую силу отваги. Он приветливо указал обоим солдатам точное местонахождение их полка, потом, счастливый, закурил сигару и сел за чашку кофе.
– Это я, товарищи, должен вас благодарить за доставленное мне удовольствие! – ответил Морис на прощание Кутару и Пико, которые, уходя, поблагодарили его за сыр и вино.
Он тоже заказал чашку кофе и смотрел на лейтенанта Ррша, ободрившись, но все-таки удивился, что лейтенант назвал цифру в триста тысяч человек, когда на самом деле их было не больше ста тысяч, и собирается так легко раздавить пруссаков между Шалонской армией и армией, стоящей под Метцем. Но Морис тоже нуждался в призрачной надежде! Почему же не надеяться, когда славное прошлое все еще оглушительно гремит в памяти? Старый кабачок казался таким веселым, беседка была увита золотящимся на солнце светлым виноградом Франции! Морис снова на мгновение успокоился, вопреки глухой, глубокой печали, мало-помалу нараставшей в нем.
Вдруг он заметил офицера из африканских стрелковых полков, который в сопровождении ординарца проехал рысью верхом на коне и исчез за углом молчаливого дома, где жил император. Скоро ординарец вернулся уже один, ведя на поводу коней, и остановился у входа в кабачок; Морис с удивлением воскликнул:
– Проспер!.. А я-то думал, что вы в Метце!
Проспер, житель Ремильи, был простым батраком; Морис знал его с детства, когда приезжал на каникулы к дяде Фушару. Проспер вытянул жребий и уже три года служил в Африке, как вдруг разразилась война.
На нем была светло-голубая куртка, широкие красные штаны с голубыми лампасами и красный шерстяной кушак; длиннолицый, сухощавый, гибкий, сильный и необыкновенно ловкий, он дышал здоровьем.
– Вот так встреча!.. Господин Морис!
Но Проспер не торопился подойти, отвел взмыленных лошадей в конюшню, окидывая особенно отеческим взором свою лошадь. Он полюбил лошадей, наверно, еще в детстве, когда водил их на пахоту; поэтому и поступил в кавалерию.
– Мы приехали из Монтуа, – сказал он, вернувшись, – больше десяти миль в один перегон; теперь Зефир охотно поест.
Зефиром звали его коня. Проспер отказался закусить и согласился только выпить кофе. Он дожидался своего начальника, а тот ждал императора… Это могло продолжаться пять минут, а может быть, и два часа. Вот начальник и приказал ему поставить коней куда-нибудь в тень. Морис стал любопытствовать, пытался узнать, в чем дело, но Проспер неопределенно развел руками:
– Не знаю… Наверно, поручение… Передать бумаги.
Роша с умилением смотрел на стрелка, который вызывал в нем воспоминания об Африке.
– Эй, голубчик, где вы там были?
– В Медеа, господин лейтенант!
Медеа! Они разговорились, сблизившись, вопреки неравенству в чинах. Проспер привык к африканской жизни, к постоянным тревогам, – не слезаешь с коня, идешь в бой, как на охоту, готовишь крупную облаву на арабов. Взвод в шесть человек пользовался одним котелком; и каждый взвод был семьей: один варил пищу, другой стирал белье, третий устанавливал палатку, четвертый ухаживал за лошадьми, пятый чистил оружие. Утром и днем скакали, нагруженные огромной поклажей, под палящим солнцем, а вечером, чтоб отогнать москитов, разводили большой костер и вокруг него пели французские песни. Часто в светлую ночь, усеянную звездами, приходилось вставать и усмирять коней: подхлестываемые теплым ветром, они вдруг принимались кусать друг друга и с неистовым ржанием рвали путы. А кофе, чудесный кофе! Зерна давили прикладами на дне котелка и процеживали сквозь широкий красный кушак – то было особо важным делом! Но бывали и черные дни, вдали от населенных пунктов, на виду у неприятеля. Тогда уж ни огня, ни песен, ни выпивок! Иногда жестоко страдали от бессонных ночей, от жажды, от голода. И все-таки они любили это существование, полное неожиданностей и приключений, эти вечные стычки, где можно блеснуть собственной храбростью, занимательные, как завоевание дикого острова, эту войну, оживляемую набегами – крупным воровством и мародерством, мелкими кражами хапунов, невероятные проделки которых смешили даже генералов.
– Да, – сказал мрачно Проспер, – здесь не так, здесь воюют по-другому.
И в ответ на новый вопрос Мориса он рассказал, как они высадились в Тулоне, долго и тягостно ехали до Люневиля. Там-то они и узнали о Виссенбурге и Фрешвиллере. Дальше он уже ничего не знал; он смешивал города от Нанси до Сен-Миеля, от Сен-Миеля до Метца. Четырнадцатого там, наверное, произошло крупное сражение: небо было в огне; но Проспер видел только четырех улан за изгородью, и ему сказали, что восемнадцатого опять началась та же музыка, только еще страшней. Однако стрелков там больше не было: в Гравелоте они ждали на дороге приказания вступить в бой, но император, удирая в коляске, велел им сопровождать его до Вердена. Нечего сказать, приятная скачка – сорок два километра галопом, да еще под страхом наткнуться в любую минуту на пруссаков!
– А Базен? – спросил Роша.
– Базен? Говорят, он был рад-радешенек, что император оставил его в покое.
Лейтенант хотел узнать, прибудет ли Базен. Проспер пожал плечами: кто его знает? С шестнадцатого числа они проводили целые дни в маршах и контрмаршах, под дождем ходили в разведку, в наряды, да так и не встретили неприятеля. Теперь они – часть Шалонской армии. Полк Проспера, два полка французских стрелков и один гусарский составляют одну из дивизий резервной кавалерии, первую дивизию под командой генерала Маргерита, о котором он говорил с восторгом и нежностью.
– Ну и молодец! Вот это орел! Да что толку? Ведь до сих пор нас заставляли только месить грязь!
Они помолчали. Морис заговорил о Ремильи, о дяде Фушаре, и Проспер пожалел, что не может повидать артиллериста Оноре, батарея которого стоит, наверно, в миле с лишним отсюда по ту сторону дороги в Лаон. Услыша фырканье коня, он насторожился, встал и пошел посмотреть, не нужно ли чего-нибудь Зефиру. Мало-помалу в кабачок набились военные всех родов оружия и всех чинов, то был час, когда пьют маленькую чашку кофе и рюмочку рома. Не осталось ни одного свободного столика, и среди листьев дикого винограда, обрызганного солнцем, весело засверкали мундиры. К лейтенанту Роша подсел военный врач Бурош, как вдруг явился Жан с приказом.
– Господин лейтенант, капитан будет ждать вас по служебным делам в три часа.
Роша кивнул головой в знак того, что придет вовремя; но Жан ушел не сразу и улыбнулся Морису, который закуривал папиросу. Со дня скандала в вагоне между ними было заключено молчаливое перемирие, они словно присматривались друг к другу, все благосклонней.
Проспер вернулся и с нетерпением сказал:
– Я поем, пока мой начальник не выйдет из этого домишка… Дело дрянь! Император, пожалуй, вернется только вечером.
– Скажите, – спросил Морис с возрастающим любопытством, – может быть, вы привезли известия о Базене?
– Возможно… Об этом говорили там, в Монтуа. Вдруг все зашевелились. Жан, стоявший у входа в беседку, обернулся и сказал:
– Император!
Сидевшие тотчас же вскочили. Между тополей, на широкой белой дороге, сверкая золотым солнцем кирас, показался взвод лейб-гвардейцев в чистых блестящих мундирах. За ними открылось свободное пространство, и появился на коне император в сопровождении штаба, за которым следовал второй взвод лейб-гвардейцев.
Все обнажили головы; раздалось несколько приветственных кликов. Император, проезжая, поднял голову; он был бледен, лицо у него вытянулось, мутные, водянистые глаза мигали. Казалось, он очнулся от дремоты; он отдал честь и, при виде солнечного кабачка, слабо улыбнулся.
Тогда Жан и Морис отчетливо услышали, как за их спиной, оглядев императора зорким глазом врача, Бурош проворчал:
– Ясно, у него зловредный камень в печени.
И коротко прибавил:
– Каюк!
Жан, понимая все только чутьем, покачал головой: такой главнокомандующий – несчастье для армии! Через несколько минут Морис, довольный хорошим завтраком, попрощался с Проспером и пошел прогуляться; покуривая, он все еще вспоминал бледного, безвольного императора, проехавшего рысцой на своем коне. Это – заговорщик, мечтатель, у которого не хватает решимости в такие минуты, когда надо действовать. Говорили, что он очень добр, способен на великодушные чувства, к тому же очень упрям в своих желаниях – желаниях молчаливого человека; он очень храбр, презирает опасность, как фаталист, всегда готовый подчиниться неизбежности. Но он как бы цепенеет в часы великих катастроф, словно парализован при известии о совершившихся событиях, бессилен бороться с судьбой, если она против него. И Морис подумал: не есть ли это – особое физиологическое состояние, вызванное болями, не является ли несомненная болезнь императора причиной нерешительности, все более обнажающейся бездарности, которая сказывается в нем с самого начала войны. Этим объясняется все. Один камешек в теле человека – и рушится целая империя. Вечером, после переклички, в лагере внезапно поднялась суматоха: офицеры засуетились, передавали приказы, назначали выступление на следующее утро, в пять часов. Морис вздрогнул от удивления и тревоги, поняв, что все опять изменилось: больше не отступают к Парижу, а идут на Верден, навстречу Базену. Пронесся слух, будто от Базена получена днем депеша с известием, что он отступает; и Морис подумал, что начальник Проспера, офицер африканского стрелкового полка, может быть, привез копию именно этой депеши. Значит, императрица-регентша и совет министров воспользовались вечной неуверенностью маршала Мак-Магона, одержали верх и, опасаясь, что император вернется в Париж, решили толкнуть армию вперед, наперекор всему, в последней попытке спасти династию. И вот жалкого императора, этого несчастного человека, которому больше нет места в его империи, увезут, как ненужный, лишний вьюк в обозах войск, и он будет осужден таскать за собой, словно в насмешку, свою императорскую штаб-квартиру, лейб-гвардейцев, поваров, лошадей, кареты, коляски, фургоны с серебряными кастрюлями и бутылками шампанского, свою пышную мантию, усеянную пчелами, волочащуюся в крови и грязи по большим дорогам поражений.
В полночь Морис еще не спал. Мучаясь лихорадочной бессонницей, перемежающейся тяжелыми снами, он ворочался в палатке с боку на бок. Наконец он встал, вышел и почувствовал облегчение, впивая под порывами ветра свежий воздух. Небо покрылось тяжелыми тучами, ночь стала совсем темной, простираясь суровым, безмерным мраком, в котором редкими звездами мерцали последние потухающие огни передовых линий. И в этом черном покое, словно подавленном тишиной, слышалось медленное дыхание ста тысяч спящих солдат. Тогда утихли волнения Мориса, в его сердце зародилось чувство братства, полное снисходительной нежности ко всем этим живым уснувшим существам; ведь тысячи из них скоро заснут последним сном. Хорошие все-таки, люди! Конечно, они совсем недисциплинированны, они воруют и пьют.
Но сколько человеческого страдания и сколько смягчающих обстоятельств в этом крушении целого народа! Славных ветеранов Севастополя и Сольферино уже немного; они влились в ряды слишком юных солдат, неспособных на длительное сопротивление. Четыре корпуса, составленные и пополненные наспех, не объединенные прочной связью, – армия отчаяния, жертвенное стадо, которое посылают на заклание, чтобы попытаться смягчить гнев судьбы. Они пойдут по мученическому пути до конца, заплатят за общие ошибки алыми ручьями своей крови, достигнут величия в самом ужасе бедствия.
И в этот час, в глубинах трепетной тьмы, Морис осознал великий долг. Он больше не поддавался хвастливой надежде на баснословные победы. Поход на Верден – это был поход навстречу смерти; и он радостно, твердо примирился с мыслью, что надо погибнуть.