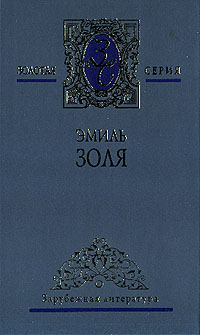Читать книгу "Разгром"
От Сен-Пьермона до Безаса три с лишним мили. Когда Морис сказал об этом, Жан безнадежно махнул рукой: солдаты не пройдут двенадцати километров; он это знал по верным признакам – по одышке, по искаженным лицам, блуждающим взорам. Дорога вела все вверх, между двух холмов, которые мало-помалу сближались. Пришлось остановиться. Но от этого отдыха ноги окончательно онемели, и когда надо было тронуться в путь, стало еще трудней: полки еле-еле двигались, люди падали. Морис побледнел, от усталости у него закатывались глаза. Жан это заметил и, против обыкновения, принялся болтать, стараясь развлечь его, чтобы он не заснул на ходу.
– Значит, твоя сестра живет в Седане? Мы, может быть, пройдем через этот город.
– Через Седан? Ну нет! Это нам не по дороге. Для этого надо быть сумасшедшим.
– А твоя сестра – молодая?
– Да ведь ей столько же лет, сколько и мне. Я тебе уже говорил, мы близнецы.
– Она на тебя похожа?
– Да, у нее тоже светлые волосы, вьющиеся, такие мягкие! Она совсем маленькая, худенькая и тихая-тихая!.. Дорогая моя Генриетта!
– Вы очень любите друг друга?
– Да, да…
Они помолчали, и Жан, взглянув на Мориса, заметил, что у него слипаются глаза и он вот-вот упадет.
– Эй, дружок!.. Держись, черт возьми!.. Дай-ка мне на минуту твою винтовочку, немного отдохнешь… Половина наших ребят останется на дороге; дальше идти сегодня немыслимо.
Вдруг он увидел Ош: на холме громоздились лачуги; среди деревьев, на самой вершине, желтела церковь.
–Здесь мы, наверно, переночуем.
Жан угадал. Генерал Дуэ видел, как смертельно устали войска, и отчаялся дойти в этот день до Безаса. Но особенно убедился он в этом, когда прибыл обоз – злосчастный обоз, тащившийся от самого Реймса: вереница повозок и лошадей растянулась на три мили и страшно затрудняла передвижение. Из Катр-Шан генерал велел направить их прямо на Сен-Пьермон, но только в Оше они присоединились к корпусу и в таком состоянии, что лошади больше не могли двигаться. Было уже пять часов. Генерал побоялся идти через ущелье Стонн и решил отказаться от выполнения перехода, предписанного маршалом. Войска остановились, расположились лагерем, обоз – внизу, на равнине, под охраной одной дивизии, артиллерия – позади, на холмах, а бригада, которая на следующий день должна была служить арьергардом, осталась на возвышенности против Сен-Пьермона. Другая дивизия, в состав которой входила бригада Бурген-Дефейля, стала бивуаком за церковью, на широком плоскогорье, окаймленном дубовой рощей. 106-му полку удалось, наконец, устроиться на опушке, только когда уже стемнело, – такая произошла путаница при выборе и распределении участков.
– К черту! – сердито сказал Шуто. – Не буду есть. Спать хочу!
Это был крик души всех солдат.
У многих не было сил разбить палатку, они падали на землю, как мешки, и тут же засыпали. Да и чтобы поесть, понадобилась бы раздача довольствия, а интендантская часть ждала 7-й корпус в Безасе и поэтому не явилась в Ош. Все было забыто и заброшено, и капралов даже не вызывали для получения рациона. Кто мог, снабжал себя провиантом сам. Раздачи больше не было. Солдатам приходилось жить запасами, которые им полагалось иметь в ранцах, а ранцы были пусты; немногие нашли корку хлеба – крохи от роскоши, в которой они жили в Вузье. Оставался только кофе; те, что устали меньше других, выпили кофе без сахара.
Жан хотел поделиться с Морисом сухарями, съесть один и дать ему другой. Но тут он заметил, что Морис уже спит глубоким сном. Жан подумал было, не разбудить ли его, потом стоически положил сухари обратно в ранец, с бесконечными предосторожностями, словно пряча сокровище; он, как и товарищи, удовольствовался одним кофе. По его требованию, солдаты разбили палатку; все уже улеглись, как вдруг вернулся Лубе и принес с соседнего поля морковь. Сварить ее было невозможно, и солдаты съели ее сырую, но им еще больше захотелось есть, а Паш почувствовал себя плохо.
– Нет, нет, не будите его, – сказал Жан, когда Шуто принялся трясти Мориса, чтобы дать ему его долю.
– Эх, – сказал Лапуль, – завтра в Ангулеме у нас будет хлеб… У меня был в Ангулеме двоюродный брат, военный. Хороший гарнизон!
Все удивились, Шуто закричал:
– Как, в Ангулеме?.. Вот простофиля! Он думает, что мы идем в Ангулем!
От Лапуля невозможно было добиться толку. Он думал, что идет в Ангулем. А утром, при виде немецких улан, он уверял, что это солдаты из армии Базена.
И вот лагерь окутала темная ночь, могильная тишина. Было холодно, но огонь разводить запретили. Стало известно, что пруссаки находятся в нескольких километрах; старались не шуметь, из опасения привлечь внимание неприятеля. Офицеры предупредили солдат, что надо будет идти дальше в четыре часа утра, чтобы наверстать потерянное время; и все сейчас же заснули, жадно, мертвым сном. Над разбросанными лагерями мощное дыхание этих толп поднималось во мраке, как дыхание самой земли.
Вдруг их разбудил выстрел. Была еще глубокая ночь, часа три. Все вскочили. Тревога передавалась от солдата к солдату; решили, что неприятель атакует. А это просто выстрелил Лубе; он не спал и решил пойти в дубовую рощу, где, наверно, водятся кролики: то-то будет праздник, когда на рассвете он принесет товарищам парочку кроликов. Но, подыскивая место для засады, он услышал шаги приближающихся людей, хруст валежника, голоса; он испугался, решил, что это пруссаки, и выстрелил.
Жан с Морисом и другими солдатами уже подходили к нему, как вдруг раздался хриплый голос:
– Да не стреляйте, черт подери!
На опушке леса показался высокий худой человек, заросший бородой. На нем была серая куртка, перетянутая в талии красным кушаком; за плечом висела винтовка. Он тут же объяснил, что он – француз, вольный стрелок, сержант, что он пришел с двумя стрелками своего отряда из лесов Дьеле и хочет сообщить важные сведения генералу.
– Эй, Кабас! Дюка! – обернувшись, крикнул он. – Эй вы, бездельники! Идите-ка сюда!
Они, очевидно, боялись, но все-таки подошли: Дюка – бледный, приземистый человек с редкими волосами; Кабас – рослый, сухой, смуглый, с длинным носом и резким профилем.
Морис с удивлением, пристально поглядел на сержанта и вдруг спросил:
– Скажите, вы не Гийом Самбюк из Ремильи?
После некоторого колебания бородач не без смущения ответил утвердительно; Морис слегка попятился. Самбюк был известен, как отъявленный негодяй, вполне достойный своей семьи, которая плохо кончила: отцу-дровосеку, пьянице, перерезали в лесу горло; мать и дочь, нищенки и воровки, исчезли и очутились впоследствии в каком-то доме терпимости. А сам Гийом был браконьером и контрабандистом; из этого волчьего выводка вырос честным только один Проспер, африканский стрелок, который, прежде чем пойти в солдаты, стал батраком, из ненависти к лесу.
– Я видел вашего брата в Реймсе и в Вузье, – сказал Морис. – Он здоров!
Самбюк ничего не ответил. И чтобы покончить с разговорами, сказал:
– Ведите меня к генералу! Скажите ему, что вольные стрелки из леса Дьеле хотят сообщить ему важное известие.
Возвращаясь в лагерь, Морис думал об этих отрядах вольных стрелков; на них раньше возлагались большие надежды, а теперь уже повсюду они вызывали жалобы. Они должны были устраивать засады, подстерегать врага за плетнями, тревожить его, убивать часовых, держать в своей власти леса и не выпускать оттуда ни одного пруссака. А на деле они стали бичом французских крестьян: плохо их защищали и опустошали нивы. Из ненависти к настоящей военной службе все опустившиеся люди поспешили вступить в их ряды, радуясь, что могут избежать дисциплины, рыскать в лесах, как бандиты, спать и пьянствовать где попало. В некоторые отряды были завербованы отчаянные люди.
– Эй, Кабас! Эй, Дюка! – повторял Самбюк, оборачиваясь на каждом шагу. – Идите же сюда, бездельники!
Морис чувствовал, что эти два человека тоже страшны. Кабас, худой верзила, родился в Тулоне, служил когда-то лакеем в Марселе, оказался в Седане посредником по продаже провансальских продуктов и чуть не угодил в тюрьму по обвинению в краже, которая, впрочем, осталась нерасследованной. Дюка, маленький толстяк, бывший судебный пристав в Бленвиле, был вынужден продать эту должность после грязных похождений с маленькими девочками и снова чуть не попал под суд за такие же мерзости в Рокуре, где служил счетоводом на фабрике. Он пересыпал свою речь латинскими цитатами, а Кабас едва умел читать, но оба представляли собой подходящую пару, опасную пару подозрительных личностей.
Лагерь уже просыпался. Жан и Морис повели вольных стрелков к капитану Бодуэну, а капитан – к полковнику де Винейлю. Полковник стал их расспрашивать, но Самбюк, сознавая свое значение, хотел непременно поговорить с самим генералом. Генерал Бурген-Дефейль, остановившийся у священника деревни Ош, вышел на порог церковного дома, недовольный, что его разбудили среди ночи и что днем опять предстоит голод и усталость; поэтому он встретил приведенных людей сердито.
– Откуда они? Чего им надо? Так это вы, вольные стрелки? Небось, тоже отбились, а-а?
– Господин генерал, – не оробев, ответил Самбюк, – мы с товарищами занимаем леса Дьеле…
– Где это, леса Дьеле?
– Между Стенэй и Музоном, господин генерал.
– Стенэй? Музон? Не знаю! Как разобраться во всех этих названиях?
Полковник де Винейль смутился и осторожно вмешался R разговор, напоминая генералу, что Стенэй и Музон находятся на Маасе; что немцы заняли Стенэй и поэтому надо переправиться через реку северней, перейдя мост в Музоне.
– Значит, господин генерал, – прибавил Самбюк, – мы пришли уведомить вас, что в лесах Дьеле сейчас полным-полно пруссаков… Вчера, когда пятый корпус выходил из Буа-ле-Дам, завязалась перестрелка недалеко от Нуара…
– Как? Вчера сражались?
– Ну да, господин генерал, пятый корпус при отступлении сражался; сегодня ночью он должен быть в Бомоне… Наши товарищи отправились уведомить его о передвижении неприятеля, а мы решили сообщить обо всем вам, чтобы вы могли пойти на выручку пятому корпусу, ведь завтра утром ему придется иметь дело не меньше чем с шестьюдесятью тысячами немцев.
При этих словах генерал Бурген-Дефейль пожал плечами.
– Шестьдесят тысяч! Тьфу ты черт! Почему не сто тысяч?.. Да вы бредите, милый мой! От страха у вас двоится в глазах. Не может быть, чтобы так близко от нас стояло шестьдесят тысяч пруссаков, мы бы это знали.
Генерал заупрямился. Самбюк тщетно ссылался на свидетелей – Дюка и Кабаса.
– Мы видели пушки, – подтвердил провансалец. – Эти молодцы, наверно, спятили: отправиться с пушками наудачу по лесным дорогам, когда там увязаешь по колено в грязи после всех этих дождей!
– Кто-то указывает им путь, это уж верное дело, – объявил бывший судебный пристав.
Но генерал со дня выступления из Вузье больше не верил в соединение двух немецких армий, о котором, по его словам, ему прожужжали уши. Он даже не счел нужным отослать вольных стрелков к командующему 7-м корпусом, а они думали, что с ними говорит сам командующий. Если слушать всех крестьян, всех бродяг, которые приходят якобы с верными сообщениями, нельзя будет и шагу ступить: непременно попадешь в какую-нибудь чертовскую передрягу. Тем не менее генерал велел вольным стрелкам остаться и сопровождать колонну, раз они знают местность.
– Все-таки они хорошие ребята, – сказал Жан Морису, возвращаясь, чтобы сложить палатки, – ведь они прошли полями четыре мили, чтобы уведомить нас.
Морис согласился и решил, что они правы: он тоже хорошо знал местность и очень встревожился при мысли, что пруссаки находятся в лесах Дьеле и направляются в Соммот и Бомон. Он сел, уже изнуренный, хотя в путь еще не двинулись; в желудке было пусто, сердце сжималось от тоски на заре нового дня, предчувствуя, что он будет ужасным.
Заметив, как Морис бледен, Жан огорчился и по-отечески спросил:
– Так тебе все еще нехорошо? Опять нога?
Морис отрицательно покачал головой. В широких башмаках ему стало легче.
– Значит, проголодался?
Морис не отвечал. Тогда Жан незаметно вынул из ранца один из своих сухарей и, простодушно солгав, сказал:
– На, я оставил для тебя твою долю… Другой я недавно съел сам.
Светало. 7-й корпус вышел из Оша и направился в Музон через Безас, где должен был ночевать накануне. Сначала двинулся пресловутый транспорт в сопровождении 1-й дивизии, но если военные повозки с хорошими упряжками ехали быстро, то другие, забранные у населения, большей частью порожние и бесполезные, задерживались главным образом на склонах ущелья Стонны. Дорога шла вверх, особенно круто поднималась при выезде из поселка Берлиер, между лесистых холмов. К восьми часам, когда, наконец, тронулись в путь две другие дивизии, появился маршал Мак-Магон; он был в отчаянии, что войска, которые, по его расчетам, должны были двинуться утром и пройти всего несколько километров из Безаса в Музон, до сих пор еще находятся здесь. Он потребовал объяснений от генерала Дуэ. Было решено, что 1-я дивизия и транспорт пойдут дальше к Музону, а две другие дивизии, чтобы их больше не задерживал этот громоздкий, медлительный авангард, двинутся по дороге на Рокур и Отрекур и переправятся через Маас под Вилье. Это значило опять подняться на север: маршал старался поскорей отделить свою армию от неприятеля рекой. Надо было во что бы то ни стало к вечеру перебраться на правый берег. Арьергард находился еще в Оше, как вдруг с далекого холма, со стороны Сен-Пьермона, дала залп прусская батарея, опять начиная ту же игру, что и накануне. Сначала французы имели неосторожность ответить, потом последние части отступили.
До одиннадцати часов 106-й полк медленно подвигался по дороге, которая извивается в глубине ущелья Стонны, между высоких бугров. Налево высились голые обрывистые хребты; направо, по более отлогим склонам, спускались леса. Солнце показалось снова; в тесной лощине, пустынной и мрачной, стало очень жарко. За Берлиером, над которым возвышался большой печальный крест, больше не было ни одной фермы, ни одного человека, ни одной коровы. Солдаты, уставшие, голодные уже накануне, опять не доспали, не поели и теперь уныло волочили ноги, кипя глухим гневом.
Вдруг, когда они остановились на краю дороги, справа грянули пушки. Залпы раздавались отчетливо и гулко, – значит, сражение происходило не дальше чем в двух милях. На солдат, уставших отступать, раздраженных ожиданием, это подействовало необыкновенно. Все вскочили, дрожа, забыв усталость. Почему их не ведут туда? Пора наконец драться! Лучше погибнуть, чем удирать неизвестно куда и зачем.
Генерал Бурген-Дефейль и полковник де Винейль поднялись направо, на бугор, чтобы ознакомиться с местностью. Они остановились на вершине и смотрели в бинокль; тут же они послали адъютанта распорядиться, чтобы к ним привели вольных стрелков, если те еще не ушли. Вместе со стрелками явились Жан, Морис и несколько солдат, на случай если понадобится какая-нибудь помощь.
При виде Самбюка генерал сейчас же крикнул:
– Что за проклятая местность! Везде косогоры и леса!.. Вы знаете, где сражаются?
Самбюк, за которым следовали по пятам Дюка и Кабас, выслушал и стал молча всматриваться вдаль. Морис стоял рядом с ним и тоже глядел, пораженный огромной панорамой долин и лесов. Казалось, то было безмерное море, медленные, чудовищные волны. Леса темнели зелеными пятнами на желтой почве; далекие холмы под жгучим солнцем тонули в рыжеватом тумане. И хотя в глубинах ясного неба не было заметно даже дымка, пушки все еще гремели, это был грохот далекой, надвигающейся грозы.
– Вот там, направо, Соммот, – ответил наконец Самбюк, указывая на вершину, увенчанную зеленью. – Там, налево, Ионк… Сражаются под Бомоном, господин генерал.
– Да, под Варнифоре или под Бомоном, – подтвердил Дюка.
Генерал буркнул:
– Бомон! Бомон! В этой проклятой местности ничего не разберешь…
И громко спросил:
– А сколько километров отсюда до Бомона?
– Около двенадцати, если идти вот по этой дороге, из Шена в Стенэй.
Пушки не умолкали, казалось, они двигались с запада на восток, беспрерывно грохоча. Самбюк прибавил:
– Черт подери! Дело жаркое!.. Я таю и думал, я вас предупредил сегодня утром, господин генерал: это, должно быть, те батареи, что мы видели в лесах Дьеле. Теперь пятому корпусу приходится иметь дело со всей армией, которая пришла через Бюзанси и Боклер.
Все промолчали; сражение грохотало вдали еще сильней. Морис стиснул зубы: ему неудержимо хотелось кричать. Почему они не идут на залпы пушек немедленно, не тратя лишних слов? Никогда еще он не испытывал такого возбуждения. Каждый выстрел отдавался у него в груди, приподнимал, толкал его вперед, вызывал в нем потребность очутиться немедленно там, участвовать в боях, покончить с бездействием. Неужели они опять пройдут мимо сражения, только коснутся его локтем и не израсходуют ни одного патрона? Начальники словно побились об заклад – с самого объявления войны тащить их за собой и удирать! В Вузье они слышали только стрельбу арьергарда. В Оше неприятель лишь несколько минут стрелял им в спину. И они опять удерут, они и на этот раз не бросятся помочь товарищам? Морис взглянул на Жана. Жан тоже был очень бледен; его глаза лихорадочно блестели. При этом неистовом призыве пушек у всех забились сердца.
Произошла новая задержка. По узкой тропинке на бугор поднимался штаб. Сюда спешил встревоженный генерал Дуэ. Допросив вольных стрелков, он с отчаянием охнул. Но даже если бы его уведомили утром, что мог он сделать? Маршал определенно приказал во что бы то ни стало переправиться через Маас до вечера. А как теперь соединить эшелоны, которые двигаются на Рокур, и быстро направить их на Бомон? Ведь они придут туда слишком поздно! 5-й корпус, наверно, уже отступает к Музону и явно идет все дальше на восток, судя по пушечным выстрелам, грохотавшим словно удаляющийся ураган, несущий град и беду. Вокруг до самого горизонта расстилались долины и холмы, равнины и леса. И генерал Дуэ воздел руки к небу, терзаясь своим бессилием, и отдал приказ идти дальше на Рокур.
О, это продвижение в глубине ущелья Стонны, между высоких гребней, под грохот пушек, по-прежнему гремевших справа! Во главе 106-го полка ехал на коне полковник де Винейль. прямой, бледный, неподвижный, моргая глазами, словно удерживаясь от слез. Капитан Бодуэн молча кусал усы, и лейтенант Роша глухо ворчал и ругался, осыпая бранью всех и самого себя. И даже те солдаты, которым не хотелось сражаться, даже самые робкие из них чувствовали потребность кричать и драться; в них нарастал гнев против постоянных поражений, бешенство от необходимости снова отступать тяжелыми неверными шагами, когда проклятые пруссаки истребляют их товарищей.
У подножия Стонны, там, где извилистый путь ведет вниз, между холмов, дорога расширилась. Войска проходили по открытым полям, пересеченным лесками. 106-й полк, находившийся в арьергарде, на каждом шагу ждал нападения: ведь неприятель шел за колонной по пятам, следил за ней, явно выжидая благоприятной минуты, чтобы атаковать ее с тыла. Отряды его кавалерии, пользуясь малейшей неровностью почвы, пытались приблизиться с флангов. Несколько эскадронов прусской гвардии вышли из-за леса, но остановились перед маневром французского гусарского полка, который выступил вперед, расчищая дорогу. И благодаря этой передышке отступление продолжалось в относительном порядке; войска приближались к Рокуру, как вдруг зрелище, которое они увидели, усилило общее смятение и окончательно расстроило ряды. На проселочной дороге показалась беспорядочная толпа беглецов, раненых офицеров, безоружных солдат; обозные лошади неслись вскачь, люди бежали, обезумев, словно их гнало ураганом. Это были остатки бригады 1-й дивизии, которая сопровождала транспорт, отправленный утром в Музон через Безас. Они сбились с пути и, по несчастной случайности, попали вместе с частью транспорта в Варнифоре, близ Бомона, в разгар полного разгрома 5-го корпуса. Они были застигнуты врасплох, атакованы с фланга и, уступая неприятелю в численности, бежали; они возвращались с поля боя окровавленные, ошалелые, полуобезумевшие, они потрясли душу товарищей. Их рассказы сеяли ужас; казалось, их принес громовой грохот пушек, который безостановочно раздавался с полудня.
И вот при выступлении из Рокура началась неистовая толчея. Надо ли свернуть направо к Отрекуру, чтобы переправиться через Маас в Вилье, как было решено? Генерал Дуэ встревожился, стал колебаться, опасаясь, не занят ли мост, не попал ли он уже в руки пруссаков. Он предпочел идти прямо через ущелье Арокур, чтобы до ночи пройти в Ремильи. После Музона – Вилье; после Вилье – Ремильи; войска шли дальше, а за ними все слышался галоп немецких улан. Оставалось только шесть километров; но было уже пять часов, и все смертельно устали. Они не присели с самой зари, но за двенадцать часов прошли меньше трех миль, топчась на месте, теряя силы в бесконечном ожидании, среди сильнейших волнений и страхов. Две последние ночи солдаты почти не спали и от самого Вузье ни разу не наелись досыта. Они валились с ног от истощения. А в Рокуре их ждала еще более печальная участь.
В богатом городке много фабрик, широкая улица, застроенная хорошими домами, красивая церковь и мэрия. Но эту ночь здесь провели император и маршал Мак-Магон, здесь теснился штаб и императорская квартира; потом здесь прошел весь 1-й корпус, все утро протекая рекой по этой дороге; запасы истощились, булочные и бакалейные лавки опустели, в домах не осталось ни крошки. Больше нельзя было достать ни хлеба, ни вина, ни сахара, ничего, что можно съесть или выпить. У дверей домов дамы уже роздали солдатам стаканы вина и чашки бульона, все содержимое бочек и мисок до последней капли. Не оставалось ничего, и к трем часам, когда появились первые полки 7-го корпуса, жителей охватило отчаяние. Как? Опять? Еще солдаты? Снова по главной улице тащились люди, усталые до изнеможения, запыленные, умирающие от голода, а дать им было нечего. Многие останавливались, стучали в двери, протягивали руки к окнам, умоляя, чтобы им бросили хоть кусок хлеба. Некоторые женщины рыдали, знаками показывая, что ничего не могут поделать, что у них самих больше ничего нет.
На углу улицы Ди-Потье у Мориса закружилась голова; он пошатнулся, Жан поспешил к нему. Но Морис сказал:
– Нет, оставь меня! Это конец!.. Лучше подохнуть здесь.
Он тяжело опустился на каменную тумбу. Жан притворно грубым начальническим тоном сказал:
– Черт подери! Кто это подсунул мне такого солдата?.. Хочешь, чтоб тебя забрали пруссаки? Ну, вставай!
Но Морис, смертельно бледный, ничего не отвечал, закрыв глаза, в полуобморочном состоянии. Жан опять выругался, но с бесконечной жалостью:
– Черт подери! Черт подери!
Он побежал к соседнему роднику, наполнил котелок, вернулся и прыснул Морису в лицо водой. На этот раз уже не таясь, он вынул из ранца последний сухарь, который так бережно хранил, и принялся ломать его на мелкие кусочки. Он просунул их сквозь зубы Мориса. Изголодавшийся Морис открыл глаза и жадно съел сухарь.
– А ты? – вдруг, припоминая, спросил он. – Разве ты не съел своей доли?
– Ну, у меня шкура крепкая, – ответил Жан, – я могу и подождать… Глоток болотной водицы – и я на ногах!
Он снова наполнил свой котелок водой, выпил залпом и прищелкнул языком. Он тоже был бледен, как смерть, и от голода у него дрожали руки.
– Ну, дружок, в дорогу! Надо догнать товарищей.
Морис оперся на его руку и дал себя увести, как ребенок.
Эта рука согрела его сердце так, как еще никогда не согревали руки женщин. Среди всеобщего крушения, в этом страшном бедствии, перед лицом смерти, для него было чудесной поддержкой чувствовать, что кто-то его любит и заботится о нем; и, может быть, сознание, что преданное ему сердце – сердце простолюдина, крестьянина, близкого земле, вызывавшего в нем раньше отвращение, придавало теперь его благодарности бесконечную нежность. Ведь это – братство первоначальных дней мироздания, дружба до возникновения какой бы то ни было культуры и классов, дружба двух людей, слитых, объединенных общей потребностью в помощи перед угрозой враждебной природы. Морис знал, что в груди Жана сердце бьется чувством человечности, и гордился его силой, помощью, самопожертвованием, а Жан, не раздумывая над своими ощущениями, был счастлив, что оберегает в своем друге утонченность и ум, которые в нем самом пребывали в зачаточном состоянии. После страшной, трагической смерти жены он считал, что у него больше нет сердца, и поклялся никогда не смотреть на женщин, которые приносят столько страданий, даже когда они не злые. Казалось, и Жан и Морис благодаря этой дружбе как-то выросли; они не нежничали друг с другом, но жили душа в душу, и, при всем своем различии, один поддерживал другого на этом страшном пути в Ремильи, и оба составляли единое целое, переполненное жалостью и страданием.
Пока французский арьергард выходил из Рокура, туда с другого конца уже входили немцы; слева на высотах они немедленно установили батареи, и две из них принялись обстреливать французов. В это время 106-й полк, шагая по дороге, которая ведет вдоль Эммана, попал под обстрел. Один снаряд раздробил тополь на берегу реки, другой врезался в землю у ног капитана Бодуэна, но не разорвался. Ущелье до Арокура все сужалось, и они углублялись в теснину, над которой с обеих сторон нависли лесистые горы; если там, наверху, засела хоть кучка пруссаков, гибель неминуема. Под обстрелом сзади, под угрозой нападения справа и слева войска подвигались все боязливей, спеша выбраться из опасного прохода. Даже в самых усталых солдатах, как последняя вспышка пламени, воскресла сила воли. Те, кто еще недавно тащился в Рокуре от двери до двери, теперь ускоряли шаг, бодрые, оживленные, пришпоренные жгучим чувством опасности. Казалось, даже кони почувствовали, что каждый потерянный миг может дорого стоить. Передняя часть колонны должна была уже вступить в Ремильи, как вдруг произошла остановка.
– Тьфу! – воскликнул Шуто. – Оставят нас, что ли, здесь?
106-й полк не достиг еще Арокура, а снаряды уже сыпались градом. Пока полк стоял на месте в ожидании дальнейшего отправления, вдруг направо разорвался еще один снаряд. К счастью, никто не пострадал. Прошло бесконечных пять минут. Полк все еще не двигался: дорогу преграждало какое-то препятствие, словно внезапно возникла стена. Полковник привстал на стременах и вглядывался, трепеща, чувствуя, как за его спиной возрастает паника.
– Все знают, что нас продали, – в бешенстве объявил Шуто.
Тут, под бичом страха, поднялся ропот отчаяния. Да, да! Их завели сюда, чтобы продать, чтобы выдать пруссакам. Их так упорно преследовала неудача, были допущены такие роковые ошибки, что, по мнению этих ограниченных людей, объяснить столько бедствий могла только измена.
– Нас продали! – обезумев, повторяли солдаты.
Вдруг Лубе решил:
– Это стал поперек дороги окаянный император со своей поклажей и не дает нам пройти!
Известие сразу облетело ряды. Многие утверждали, будто вся помеха в том, что проезжает императорская ставка и преграждает колонне путь. Послышались проклятия, площадная ругань; прорвалась вся ненависть, вызванная дерзкой императорской челядью, которая захватывала города на ночлег, распаковывала свои припасы, корзины с бутылками вина и серебряной посудой на глазах у солдат, лишенных самого необходимого, и разводила огонь на кухнях, когда у этих бедняков было пусто в брюхе. О, жалкий император, уже без трона и без прав верховного командования, подобный ребенку, затерянному в своей империи, – ребенку, которого увозят, как ненужный вьюк, вместе с поклажей войск; император, осужденный таскать за собой, словно в насмешку, свою блестящую императорскую свиту, своих лейб-гвардейцев, поваров, лошадей, кареты, коляски, фургоны, свою пышную мантию, усеянную пчелами, волочащуюся в крови и грязи по большим дорогам поражений!
Один за другим упало два снаряда. С лейтенанта Роша осколком сорвало кепи. Ряды сомкнулись, сзади нажали, внезапно нахлынула волна и отпрянула далеко назад. Раздались сдавленные голоса. Лапуль бешено заорал: «Да идите же вперед!» Еще минута, и произошла бы страшная катастрофа; люди бросились бы бежать и в неистовой свалке передавили бы друг друга в узком проходе.
Полковник обернулся, весь бледный, и сказал:
– Ребята, ребята! Потерпите! Я послал узнать… Мы пойдем дальше…
Но войска все стояли, и секунды казались веками. Жан взял Мориса за руку и с изумительным хладнокровием шепнул ему, что если товарищи нажмут сзади, он с ним бросится влево и проберется через леса на тот берег. Взглядом он искал вольных стрелков, решив, что они должны знать дорогу, но ему сказали, что они исчезли, проходя через Рокур. Вдруг войска двинулись дальше, обогнули поворот дороги и очутились за пределами досягаемости немецких батарей. Впоследствии выяснилось, что в этот злосчастный день среди всеобщего смятения дивизия Бонмена – четыре кирасирских полка – остановила и разъединила 7-й корпус.
Темнело. 106-й полк прошел через Анжекур. Оправа все еще высились горы, но слева ущелье расширялось; вдали открывалась голубоватая долина. Наконец с высот Ремильи, в вечерних туманах, среди огромной панорамы лугов и пашен, блеснула бледная серебряная лента. Это был Маас, столь желанный Маас, где они должны одержать победу!
Морис протянул руку к далеким огонькам, которые весело зажигались в листве, в глубине плодородной долины, восхитительной в нежных сумерках, и с блаженным вздохом облегчения, как человек, возвращающийся в любимые места, сказал Жану:
– Вот! Погляди!.. Это Седан!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!