Текст книги "Проза Лидии Гинзбург"
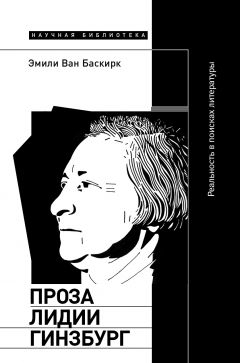
Автор книги: Эмили Ван Баскирк
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Новый литературный «разговор» после индивидуализма: послевоенные раздумья
То, что Гинзбург категорично не принимала индивидуалистическую прозу своей эпохи (это неприятие она выразила в послевоенных эссе), объясняется четырьмя факторами, требующими разрыва с такой литературой. Первый фактор – существование минувшего, XIX века, когда разыгрывалась, пока не изжила себя, драма индивидуализма. Вдобавок это прошлое несет в себе проблему, поскольку революция, возымевшая долгосрочные пагубные последствия, вдохновлялась, в том числе, идеологиями и деятелями XIX столетия. Второй фактор – катастрофическое настоящее: мировые войны и сталинский террор, которые не оставили камня на камне от идеи «абсолютной ценности единичной души»[168]168
Гинзбург 2011. С. 429.
[Закрыть]. Третий фактор – сокрушительный гнет государства, проникавший повсюду, внушавший людям чувство полной беспомощности. Последний фактор – общий кризис ценностей, симптомом которого был триумф морального релятивизма и социального детерминизма. Позвольте мне подробно рассмотреть все четыре фактора.
Свои требования к постиндивидуалистической прозе Гинзбург формулирует в эссе «Торжество заката» (датированном в машинописи 1958 годом, не публиковавшимся вплоть до конца 1980‐х)[169]169
Это название я выбрала, руководствуясь составленным начерно списком эссе (возможно, планом какой-то публикации), где Гинзбург называет это эссе по его первым словам – «Торжество заката». В этих словах звучит слабое эхо популярного труда Освальда Шпенглера Der Untergang des Abendlandes (1918, 1922), который в русском переводе был озаглавлен «Закат Европы». В архиве это название появляется в нескольких списках. В одном месте приведен более полный вариант: «Торжество заката. Как если бы все прекрасное…»
[Закрыть]. Она начинает с описания красивого заката, который в фигуральном смысле гложет ее, так как устойчиво ассоциируется со смертью. Размышляя о затруднительном положении писателя, который уже вышел из среднего возраста и не сумел самореализоваться, Гинзбург затем запрещает себе соглашаться с выводом писателей XIX века, заключивших, что «жизнь пустая и глупая шутка»:[170]170
Как отметила Кэрил Эмерсон, это выражение – цитата из знаменитого лирического стихотворения Михаила Лермонтова «И скучно и грустно» (1840): Emerson К. Lydia Ginzburg on Tolstoy and Lermontov (with Dostoevsky as the Distant Ground) // Lydia Ginzburg’s Alternative Literary Identities / Ed. E. Van Buskirk and A. Zorin. Oxford: Peter Lang AG, 2012. Р. 45.
[Закрыть]
Люди второй половины XIX века поносили жизнь и вопияли против смерти. Это противоречие можно им простить, приняв во внимание, что они были людьми потерянного рая. Недавно, у всех на памяти, рассеялся рай абсолютов, разных – от католической догмы и Декларации прав человека до Гегеля. Понятно, что, потеряв абсолютные ценности и, больше того, бессмертие души, можно было сгоряча несколько десятилетий кричать о том, что жизнь обман и шутка. Но когда до бесконечности повторяют, что жить бессмысленно, и притом живут и живут, и очень неохотно умирают, и продолжают писать о том, что не стоит жить, как если бы писать об этом во всяком случае стоило, – то все это уже не может питать ни теоретическую мысль, ни искусство[171]171
Гинзбург 2002. С. 198.
[Закрыть].
В этом пассаже набросана несколькими штрихами – с сочувствием, презрением и иронией сразу – яркая, неформально изложенная история индивидуалистического сознания, которое выражалось в искусстве ХIX века. «Классические антиномии индивидуализма» утратили власть и актуальность – искусство зашло бы в тупик, если бы не могло делать ничего, кроме как твердить, что «жизнь бессмыслица, злая шутка и прочее»[172]172
Там же. С. 199–200. Лапидарный вариант тех же рассуждений содержится в одной из глав книги Гинзбург «О психологической прозе» (Гинзбург 1977. С. 389–390).
[Закрыть].
Прошлое, XIX век ставили и другую проблему – проблему причастности прошлого к идеологически мотивированным ужасам эпохи, в которую жила Гинзбург, причем, как полагала сама Гинзбург, ее поколение ввиду своего положения имело уникальный шанс на то, чтобы вскрыть и расследовать эту причастность. Наиболее четко Гинзбург выразила эту мысль, когда (в 1950‐е годы) восхищалась стихотворением Осипа Мандельштама «Мы с тобой на кухне посидим» (1931): «Настоящее слово в искусстве – если оно еще возможно, – вероятно, могли бы сказать именно мы. И не потому, что мы видели самое страшное, – там [то есть на Западе] тоже многое видели»[173]173
Гинзбург 2002. С. 214. В коротком стихотворении Мандельштама описывается сцена немудрящей трапезы на освещенной примусом кухне: люди едят хлеб, прежде чем отправиться на вокзал, чтобы сбежать от обыска («Мы с тобой на кухне посидим, / Сладко пахнет белый керосин. // Острый нож да хлеба каравай… / Хочешь, примус туго накачай, // А не то веревок собери / Завязать корзину до зари, // Чтобы нам уехать на вокзал, / Где бы нас никто не отыскал». – Мандельштам О. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1974. С. 151). Стихотворение было впервые опубликовано в 1964 году. Предположительно Гинзбург знала его еще до публикации, поскольку была знакома с супругами Мандельштам – Осипом и Надеждой – и дружила с людьми из их окружения – например, Николаем Харджиевым.
[Закрыть]. Гинзбург отвергает тезис, что одного наблюдения ужасов уже достаточно для того, чтобы обрести новое понимание жизни, способное отразиться в литературе: на Западе писатели вопреки всему, что повидали, продолжали писать индивидуалистическую прозу. Советские писатели могли прийти к «настоящему слову», потому что страдали от насилия, которое опиралось на высокопарные идеологии с их иллюзиями прогресса: «Только мы на собственной коже испытали год за годом уход XIX века. Конец его великих иллюзий, его блистательных предрассудков, его высокомерия… всех пиршеств его индивидуализма». Революция (которую Гинзбург вначале, в подростковом возрасте приветствовала) намеревалась разрушить индивидуалистические, капиталистические социумы и построить на их месте социалистические социумы, основанные на равенстве и чувстве общности. Коммунистическая идеология черпала кое-какие элементы из различных течений мысли XIX века – таких, как популизм, гуманизм, социализм, марксизм и даже романтизм с его сверхчеловеками и гениями, грезивший о более светлом, приближенном к идеальному мире[174]174
Советские ученые в конце концов выделили течение «революционного романтизма» или «демократического сентиментализма» (представителями которого были, в том числе, Радищев и Рылеев), противопоставив его более консервативному романтизму (Карамзину и другим). См. исследование этой темы у Лорена Лейтона: Leighton L. The Great Soviet Debate over Romanticism: 1957–1964 // Studies in Romanticism. 1983. 22, 1 (Spring). Р. 41–64.
[Закрыть]. Гинзбург считала, что, если взглянуть ретроспективно, гуманизм XIX века с его высокими идеалами стал, как ни парадоксально, соучастником некоторых преступлений коммунистических режимов – ведь он одобрял веру в то, что цель оправдывает средства и строительство светлого будущего требует огромных жертв. «И все мы, интеллигенты старшего поколения, – пишет она, – причастны этому греху»[175]175
Гинзбург 2002. С. 343.
[Закрыть].
Для Гинзбург кризис индивидуализма, мучительного осознания того, что ни Бога, ни моральных абсолютов не существует, был явлением прошлого, явлением XIX века, а значит, творческие люди, по-прежнему поглощенные этими проблемами, вынуждали свою аудиторию переживать «нерадостное узнавание сказанного лет пятьдесят тому назад». Она пишет: «На этом пути ничего больше и не будет, кроме обманчиво новых (если они на высоком уровне) повторений. Потому что именно в XX веке кончился давно начатый разговор о тщете жизни и начался другой разговор – о том, как бы выжить и как бы прожить, не потеряв образа человеческого»[176]176
Там же. С. 198.
[Закрыть]. Выбранное Гинзбург слово «разговор» не обозначает какой-либо конкретный жанр, но, несомненно, стало бы подходящим определением ее промежуточной прозы. Последние слова этого пассажа – «выжить и прожить, не потеряв образа человеческого» – указывают на второй фактор, порождающий потребность в новой прозе ХХ века, – на испытание тотальной моральной и физической катастрофой. Гинзбург пишет: «Продуктивно искусство, которое объясняет, почему человек живет (ведь не из одной же трусости), показывает или стремится показать этическую возможность жизни, хотя бы и в обстановке катастроф XX века»[177]177
Там же. С. 200.
[Закрыть].
«Торжество заката» созвучно происходившим во всей Европе и Соединенных Штатах дискуссиям о человеческих ценностях и искусстве после катастрофического опустошения, которое принесла Вторая мировая война, и после Холокоста (эту проблему можно резюмировать афоризмом Теодора Адорно о невозможности писать стихи после Освенцима)[178]178
Ценную трактовку афоризма Адорно с попыткой вернуть его в изначальный контекст см.: Rothberg М. After Adorno: Culture in the Wake of Catastrophe // New German Critique. 1997. 72 (Fall). Р. 45–81.
[Закрыть]. Жан-Поль Сартр написал в эссе «Ситуация писателя в 1947 году» об иронии, заключенной в том факте, что картина Миро под названием «Разрушение живописи» существовала на свете в те времена, когда «и живопись, и ее разрушение запросто могли погибнуть от зажигательных бомб». Он заявил: «Нам было не до воспевания утонченных буржуазных добродетелей», поскольку закрадывались сомнения «в дальнейшем существовании французской буржуазии как таковой». Самым жгучим вопросом, заботившим писателей, был вопрос, «можно ли остаться человеком на войне»[179]179
Sartre J.-P. Situation of the Writer in 1947 // What Is Literature? / Trans. B. Frechtman, intr. D. Caute. London; New York: Routledge, 2001. Р. 164. В то время как в эссе Гинзбург путь, который проходят ценности, описывается на материале немецкой философии и русской литературы, эссе Сартра строится на анализе французской словесности со времен Первой мировой войны. Сартр и Гинзбург находились в принципиально разном положении: та огромная свобода, с которой Сартр выбирал условия своей ангажированности, для Гинзбург была бы невозможна; но взгляды Сартра похожи на взгляды Гинзбург – он считал, что писатели должны быть очевидцами событий, мыслить метафизически, а своим могуществом пользоваться, осмотрительно выбирая слова. Негативные оценки, которые Сартр давал как прозе сюрреалистов, так и официальной советской литературе, тоже, наверное, были бы созвучны взглядам Гинзбург. Мне неизвестно, читала ли Гинзбург это эссе Сартра (а если читала, то когда именно). В 1970‐е годы она пишет о «Тошноте» и «Словах», а также о его эссе 1946 года «Экзистенциализм – это гуманизм». См., например: Гинзбург 1979. С. 136–137.
[Закрыть]. Василий Гроссман в великом романе «Жизнь и судьба», написанном после войны, выводит охранника нацистских газовых камер, который «смутно знал, что в пору фашизма человеку, желающему остаться человеком, случается выбор более легкий, чем спасенная жизнь, – смерть»[180]180
Гроссман В. С. Жизнь и судьба. М.: Книжная палата, 1989. С. 404.
[Закрыть]. А Варлам Шаламов в эссе 1965 года «О прозе» (написанном после нескольких десятилетий заключения в ГУЛАГе, но также через призму знания о войне) отметил, что «самое главное для писателя – это сохранить живую душу»[181]181
Шаламов В. О прозе (1965) // Шаламов В. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5. М.: Терра – Книжный клуб, 2005. С. 153.
[Закрыть].
Гинзбург обнаружила, что в ХХ веке существовала новая «легкость смерти» – то, как тихо и бесцеремонно можно было стирать индивидов с лица земли[182]182
Гинзбург 2002. С. 197–198.
[Закрыть]. Гинзбург утверждает: в ее времена, хотя инстинкт самосохранения никуда не делся, страх смерти больше не функционировал как «идеология», как «мера вещей», поскольку индивидуализм становился все несущественнее, а смерть была неприкрыто зримой[183]183
В «Мысли, описавшей круг» повествователь Гинзбург, говорящий от первого лица, замечает, что страх смерти как идеологию (а не просто как инстинкт самосохранения) «во второй половине девятнадцатого века выдумали от эгоцентризма» (Там же. С. 546). Затем, во времена Гинзбург, этот страх ослаб. См.: Там же. С. 82, где она приписывает эту мысль Тынянову.
[Закрыть]. Как известно, герой канонического рассказа Толстого «Смерть Ивана Ильича» (1886) упорно (чуть ли не до последнего вздоха) отказывался признать, что на него самого, как и на всякого человека, распространяется силлогизм Аристотеля: «Кай – человек, люди смертны, потому Кай смертен»[184]184
Этот силлогизм рассматривает и Соловьев в «Смысле любви». Информацию о связях между Аристотелем, Толстым, Кизеветтером и Соловьевым можно найти в кратком примечании в книге: Solovyov V. The Meaning of Love / Еd. with revised trans. by Th. R. Beyer, Jr., intr. O. Barfield. West Stockbridge, MA: Lindisfarne Press, 1985. Р. 69.
[Закрыть]. Гинзбург, в свою очередь, пишет, что во время Ленинградской блокады смерть была наиболее ожидаемым событием. Подобных «легких смертей» предостаточно в советской (неофициальной) художественной литературе: вспоминается, например, Мария – героиня «Пещеры» Евгения Замятина, – которая во время Гражданской войны, в осажденном Петрограде хочет избежать мучительных лишений и упрашивает мужа дать ей флакон с дарующим смерть ядом «так же просто, как просила чаю»[185]185
Замятин Е. И. Пещера // Замятин Е. И. Собрание сочинений: В 5 т. Т. 3. М.: Русская книга, 2004.
[Закрыть], или сентенция из рассказа Шаламова «Сухим пайком»: «Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой»[186]186
Шаламов В. Сухим пайком // Шаламов В. Колымские рассказы. М.: Эксмо, 2007.
[Закрыть]. Гинзбург тоже говорит о друзьях-интеллигентах, которые попали в сталинские лагеря и осознали, что были арестованы совершенно произвольно. В контексте повальной жестокости узники лагерей считали свои судьбы типичными: «Удивление перед лицом общественного зла было детищем XIX века. [Вернувшиеся из лагерей] же рассказывают о том, чего и следовало ожидать от двадцатого. „Закономерности всем известны, а вот вам еще характерный случай; случай этот – я“»[187]187
Гинзбург 2002. С. 208.
[Закрыть]. Когда безвременная смерть становится обычным человеческим уделом, протест индивида против жестокости его личной тяжелой судьбы перестает что-либо значить даже для него самого. Гинзбург хочет сделать темой своего творчества не это индивидуальное, ничего не значащее страдание, но скорее стоящую за ним логику, а также нравственные изъяны и мысль, что жизнь даже в моменты ужасающих лишений прекрасна[188]188
Гинзбург писала: «И еще современное искусство, по-видимому, должно говорить также о счастье и красоте. Потому что счастье и красота – реальный наш опыт, и только этот опыт дает страданию цену и отрицанию диалектический смысл. Красота, радость жизни, творческая сила – это то разрушаемое, против чего работают небытие и оскудение, унижение и боль. Само себя гложущее несчастье никогда не загорится трагическим огнем» (Там же. С. 198).
[Закрыть].
По-настоящему эпохальными писателями ХХ века, на взгляд Гинзбург, были те, кто изображал жизненные катастрофы как нечто типичное, делая своих героев смиренными рядовыми людьми. Она находила это в поздних стихах Осипа Мандельштама[189]189
Гинзбург 2002. С. 274.
[Закрыть], а также у Чаплина, Кафки и Хемингуэя. Гинзбург лаконично описывает новую эгалитарную модель, начиная с имплицитного противопоставления Достоевскому:
Вместо свободного мира идей – предельно необходимый и давящий мир объективного ужаса жизни. Герой – страдательный, маленький человек, просто человек. Функция его в корне изменилась. Он стал теперь выразителем всех – больших и малых, глупых и умных, умудренных и малограмотных. В этом демократизм современного сознания[190]190
Там же. С. 199.
[Закрыть].
Это «демократичное» современное сознание выковывалось уравнительным могуществом жестокости в массовом масштабе, кто бы ни совершал жестокие поступки – советские или нацистские силы.
Третий из основных факторов, на которые, по мнению Гинзбург, следовало откликнуться современной прозе, – предопределяющее влияние общественных сил и слабость власти индивида при столкновении с деспотичными, тоталитарными режимами, такими как тот, который существовал в СССР. Шаламов в эссе-манифесте писал, что новая проза должна вопрошать: «Возможно ли активное влияние на свою судьбу, перемалываемую зубьями государственной машины, зубьями зла»[191]191
Шаламов В. О прозе. С. 153.
[Закрыть]. Предаваясь воспоминаниям в 1989 году, Гинзбург отметила, что тоталитарное давление «перетирало личные свойства человека. Сталинской поре присуща унификация поведения перед всем грозящей пыткой и казнью. Лгали лживые и правдивые, боялись трусливые и храбрые, красноречивые и косноязычные равно безмолвствовали»[192]192
Гинзбург 2002. С. 345.
[Закрыть]. В 50‐е годы она размышляет: «Личность сильна только как носительница общественной динамики… Иным казалось, что это марксистское положение опровергнуто практикой. Напротив того, оно подтверждено практикой»[193]193
Там же. С. 196. Эллипсис в оригинале. В центре пассажа о конструктивном потенциале индивида находится одно из основополагающих высказываний Маркса, часто повторяемое марксистами-ленинистами: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» (Маркс К. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т. 13. К критике политической экономии. М.: Политиздат, 1959).
[Закрыть]. Это правило не опровергалось тем фактом, что безмерные разрушения может спровоцировать один-единственный человек (такой, как Иосиф Сталин, которого уже не было в живых в момент, когда Гинзбург писала эти строки), поскольку «и четырехлетний ребенок, играя спичками, может сжечь деревню или деревянный город». Но ограниченные конструктивные возможности всякой личности зависят от «исторических предпосылок»[194]194
Гинзбург 2002. С. 196.
[Закрыть].
В эссе 80‐х годов Гинзбург пишет: «XX век с его непомерными социальными давлениями постепенно отнял у человека переживание абсолютной самоценности»[195]195
Там же. С. 319. Здесь Гинзбург цитирует себя – свое эссе «Авангард» (Там же. С. 337).
[Закрыть]. В этом контексте, утверждает Гинзбург, «определяющей оказывается социальная роль человека», а не индивидуализм[196]196
Там же. С. 319.
[Закрыть]. Исследуя статус нравственного выбора, она рассматривает поведение с позиций функционализма, когда «добро» – это всего лишь интериоризированные ценности твоей референтной группы и некая производная от твоей социальной роли[197]197
Гинзбург 1979. С. 135.
[Закрыть]. В ее книге «О литературном герое» видно, что Гинзбург глубоко погрузилась в социальные и психологические теории, которые силились объяснить личность и процесс ее формирования (теории Карла Маркса, Вильгельма Дильтея, Зигмунда Фрейда, Эдуарда Шпрангера, Макса Вебера, Карла Юнга, Дмитрия Узнадзе, Уильяма Джеймса и других). Она также исследует взаимосвязь этих теорий с экспериментами прозаиков с персонажем (в ХХ веке такими экспериментами занимались Сэмюэль Беккет, Мишель Лейрис, Андре Бретон, Жан-Поль Сартр, Натали Саррот, Филипп Соллерс и другие члены группы «Тель Кель»). В особенности она сосредотачивается на том, как прозаики изображали могущество социальных сил и ослабление власти личности – либо через абсурд, либо отказываясь от персонажа как от литературного приема, либо выдвигая на первый план аморфное и изменчивое «сознание как язык»[198]198
Гинзбург 1979. С. 129–149.
[Закрыть].
Однако Гинзбург находит эти новые ответные реакции менее разнообразными и интересными, чем те, которые были характерны для ХIХ века[199]199
В одном из эссе конца 1980‐х она так формулирует эту мысль: «Проза XX века [новый роман, Беккет…] попыталась отделаться не только от характера, но и от персонажа. Попытка тщетная, потому что неотменяемым оказался субъект сюжетного процесса, – даже если он представал аморфной магмой сознания» (Гинзбург 2002. С. 345).
[Закрыть]. И в книге «О литературном герое», и в книге «О психологической прозе» Гинзбург полагает, что смутно гегельянская история эволюции психологической прозы начинается с писем Виссариона Белинского 30–40‐х годов ХIХ века (в них много самоанализа и глубоко личных соприкосновений с немецкой философией) и движется по траектории, на которую влияли литература и философия Германии и Франции, пока не находит свое наивысшее выражение в Льве Толстом[200]200
Гинзбург 1977. С. 106, 412–413. Виссарион Белинский (1811–1848) – один из первых русских литературных критиков и историков литературы, прославившийся статьями о Гоголе, Достоевском и других писателях; часто считается (так полагала и Гинзбург) основоположником русского реализма. Глава о Белинском в книге Гинзбург «О психологической прозе» посвящена его письмам, где, обретая свободу от цензуры и запросов читателей, он мог выразить «психологические коллизии, необычайные по своей напряженности и осознанности», «огромную работу души» (Там же. С. 76). Случай Белинского подкрепляет тезис Гинзбург: «Психологические открытия, которые на данном этапе в законченной форме еще невозможны в устоявшихся, канонических жанрах, которые в них только пробиваются к свету, возможны уже в пограничных видах литературы – в письмах, дневниках, мемуарах, автобиографиях» (Там же).
[Закрыть]. Если же говорить о писателях из других стран, то, по мнению Гинзбург, высшего уровня в осознанном анализе личности достиг Пруст. Она восхваляет Толстого и Пруста за исследование «социальной обусловленности», исторических форм личности, новых типов, порождаемых беспрерывно меняющимся обществом, а также нестыковок между изменчивыми идентичностями человека (или автоконцепциями) и его социальными ролями. Гинзбург утверждает: толстовский упор на социальной обусловленности – признак писателя, который продолжает выросшие из реализма традиции конца XIX века, – признак более важный, чем какие-то отличительные черты стилистики[201]201
Там же. С. 81–82.
[Закрыть]. К этой категории писателей она относит Чехова, Горького и Пруста. Толстовское внимание к психологии героя как к душевному процессу, свойственное, как подметил Чернышевский, даже самой ранней прозе Толстого (произведениям 50‐х годов XIX века), сделалось у писателей ХХ века преобладающим подходом[202]202
Там же. С. 129–130.
[Закрыть].
Гинзбург указывает, что в этом отношении Достоевский – один из писателей, повлиявших на модернистов ХХ века[203]203
Вводя термин «модернизм», Гинзбург указывает на его недостатки (первый – двусмысленность, второй – разнородность направлений, покрываемых термином «модернистский»), но не находит более приемлемой альтернативы (Там же. С. 79).
[Закрыть], в том числе на символистов (например, на Андрея Белого) и немецких экспрессионистов[204]204
Там же. С. 83, 127–128.
[Закрыть], – полная противоположность Толстого: он уходит в более вольное царство идей или метафизики, где не столь важны общественные нормы. Достоевский восставал против теорий детерминизма, доминировавших в 60–70‐е годы XIX века, и отказывался объяснять поступки своих героев какой-либо «причинно-следственной цепочкой»: «Между историческими предпосылками и поведением героя Достоевского помещается идея, которую он, этот герой, вынашивает и воплощает»[205]205
Там же. С. 83. Гинзбург отмечает заслуги Бахтина и Энгельгардта в связи с тем, что они исследовали «романы идей» Достоевского. На с. 135 она также рассматривает Достоевского в контексте социальной психологии.
[Закрыть]. Однако, как утверждает Гинзбург в своей книге «О литературном герое»:
Писатели, чьи герои наделены неправдоподобно большой свободой, были Гинзбург не по вкусу. Она следовала скорее за «реалистами» наподобие Льва Толстого, чем за «модернистами» типа Достоевского. В рамках своей поэтики ХХ века она стремилась запечатлевать портреты типичных личностей в условиях тяжелейших лишений – например, Ленинградской блокады. Литература Гинзбург – не та психологическая проза, где индивидуум был волен сам себе выбирать конфликт, где «интеллектуальный человек – не довольствуясь сопротивлением [всего лишь] вещей и обстоятельств – сам создавал его [конфликт] и сам разрешал (по возможности)». В каком-то смысле затруднительное положение героя Гинзбург – возвращение в далекое прошлое: «На нашей памяти [то есть при нашей жизни. – Э. Б.] конфликт литературного персонажа стал опять внешним конфликтом, как во времена допсихологические»[207]207
Торжество заката // Гинзбург 2002. С. 198–199.
[Закрыть]. Этот тип литературного персонажа, изображаемого извне, это возвращение к «допсихологической» прозе она находит у таких художников, как Чаплин и Кафка.
Четвертый фактор, на который откликается Гинзбург, на деле объемлет все три вышеперечисленных фактора, – это статус человека в мире, где отсутствует вера в абсолютные моральные ценности. Гинзбург указывает на контраст с предыдущими кризисами ценностей, когда Ницше сорвал маску с истинного происхождения морали, а литературные персонажи стали протестовать против этой потери, – у поколения Гинзбург, напротив, была потребность держаться за пустые оболочки моральных привычек или условности, уцелевшие от минувших времен[208]208
Гинзбург 2011. С. 177.
[Закрыть]. В ее понимании сетовать на то, что теперь у морали нет метафизических основ, означало неверно трактовать полезность моральных привычек. В дни Ленинградской блокады она осознала, что реконструкция, реанимация былых условностей (работа, отчасти проводившаяся «административными методами», путем постановлений, инициатив и специальных мер) – инструмент, который общество может применить для экстренной защиты от эгоистичных и преступных деяний[209]209
Там же. С. 178.
[Закрыть]. Гинзбург не осмеливалась надеяться, что зародятся новые философские принципы, способные придать этим условностям весомость абсолюта[210]210
Гинзбург 2002. С. 375. Здесь Гинзбург различает нравственные принципы и нравственные предрассудки, замечая, что люди, наделенные нравственными принципами, могут объяснить эти принципы, пусть даже субъективно.
[Закрыть].
Признание существования мира, который строится на моральных условностях, гармонирует с концепцией человека как чего-то изменчивого и зависящего от ситуативных переменных. Гинзбург пишет: «Человек моральной рутины – это человек ситуаций, от самых больших исторических до мимолетнейших житейских»[211]211
О сатире и об анализе // Там же. С. 254.
[Закрыть]. Она считает себя и своих современников «людьми ситуаций», изменчивыми «устройствами», которые складываются из противоречивых свойств и способны приспосабливаться к изменчивой окружающей среде: «Человек не есть неподвижное устройство, собранное из противоречивых частей (тем более не однородное устройство). Он – устройство с меняющимися установками, и в зависимости от них он переходит из одной ценностной сферы в другую, в каждой из них пробуя осуществиться»[212]212
Поколение на повороте [датировано 1979 годом] // Там же. С. 282.
[Закрыть]. Единственным неизменным качеством человека была его воля к самореализации или самоактуализации в любой навязанной ему ситуации, где он мог довольно приспособленческим образом выбирать себе ценности.
Если вы избираете ситуативный или функциональный подход к персонажу, труднейшая задача – сохранение этического аспекта. Как писала Гинзбург и в научных работах, и в записных книжках, парадокс героев XIX века состоял в том, что, с одной стороны, их освобождали от ответственности, поскольку анализ заключал, что в их недостатках и проступках виновата среда, которая этих героев испортила, а с другой стороны, им предоставлялась свобода разрешать конфликты и изобретать какие-то меры и решения. Исследуя это взаимодействие свободы с детерминизмом, психологический анализ становился все изощреннее[213]213
Гинзбург 1977. С. 412.
[Закрыть]. Тем не менее Гинзбург стремилась всецело отринуть и детерминизм, и психологический анализ. Она критикует тот анализ, когда человек рассматривается «в целом и изнутри» с целью оправдать его отклонения от моральных норм. Отбросив этот подход ввиду его неуместности, она выдвигает свой ключевой аргумент о взгляде извне:
Мы – современники тех, кто бывал расположен сделать себе портсигар из человеческой кожи. Наш детерминирующий анализ имеет предел, перед которым он останавливается. У зажегших печи Освенцима и у всех им подобных нет психологии; дом их не потрясают несчастия, у них не умирают дети. Они – чистая историческая функция, которую следует уничтожать в лице ее конкретных носителей.
Ну а как же теория ситуаций? Современное этическое чувство не приемлет детерминированности в качестве отпущения вины. Ему ближе глубокие и жестокие слова Евангелия: «Соблазн должен прийти в мир, но горе тому, через кого он придет»[214]214
Лк., 17: 1. Гинзбург даже в 16 лет сознавала значимость этого пассажа. Вот дневниковая запись от 18 февраля 1919 года: «В Евангелии сказану [sic] не помню точно, но смысл таков: зло должно войти в мир, но горе тому через кого оно войдет – Мне бы хотелось никогда ни на одно мгновенье своей жизни не забывать этих слов. Быть может они несправедливы, но в них вложен весь смысл личного самосовершенствования» (ОР РНБ. Ф. 1377. Дневник 1918–1919 гг.).
[Закрыть].Если от больших исторических злодеяний обратиться к повседневному моральному блуду, то оказывается – явления качественно близкие мы практически рассматриваем то извне, то изнутри[215]215
О сатире и об анализе // Гинзбург 2002. С. 256.
[Закрыть].
Гинзбург выдвигает суровый аргумент, что писатель не должен стараться пробудить в нас сочувствие к человеку, который стал палачом в Освенциме, даже если путь этого человека к злодеяниям начался с семейных трагедий. Эта дилемма возникла в момент, когда закончилась война: писатели признавали роль социализации в том, чем предопределяется поведение индивидов, но всячески чурались крайнего морального релятивизма, который поощрялся подобными социальными теориями. Таким образом, для Гинзбург исследование фигуры палача «изнутри» или сочувственно – хоть в психологическом романе, хоть в документальной прозе – табуированная тема. В финале эссе «О сатире и об анализе» она воображает размышления одного из тех, кто в 1949 году проводил «чистки», а затем принуждает себя замолчать: «Хватит! Этот психологический роман уже написал девятнадцатый век»[216]216
Там же. С. 259.
[Закрыть].
Гроссман, еще один размышлявший об этике последователь Толстого, нашел иное решение этой дилеммы, когда писал «Жизнь и судьбу» – роман о Второй мировой войне, созданный по образцу «Войны и мира». Он набрасывает краткие (такой же длины, как, например, его описания русских снайперов в Сталинграде) портреты нескольких заключенных, обслуживавших газовые камеры; у всех этих людей есть кое-какие положительные черты и запутанная биография, которая довела их до такого положения. И тем не менее Гроссман избегает описывать лагерных охранников худшего разбора – тех, кто упивается казнями; как он пишет, «страшное, прирожденное уродство оправдывало» их поведение. Автор-повествователь «Жизни и судьбы» заверяет: несмотря на подавляющую мощь государства и неотвратимость судьбы, индивиды все равно несут ответственность за свои поступки и могут быть признаны виновными в них[217]217
Гроссман В. Жизнь и судьба. С. 404–406.
[Закрыть].
На взгляд Гинзбург, проклятые вопросы индивидуализма (вопросы свободы, ценности отдельного человека, утраты абсолютов) и традиция решать их, воображая и анализируя внутреннюю жизнь индивида, не могли породить ни какой-либо новый «разговор», ни модернистскую прозу, которая адекватно соответствовала бы ХХ веку. Преодоление неприемлемого морального релятивизма зависело от способности найти точку зрения, с которой можно взглянуть на свои поступки извне. На практике люди регулярно, без заминки находят образы и слова для осуждения других, но редко распространяют такие вердикты на самих себя. Гинзбург, напротив, считала, что оценивание себя извне – ключ к нравственной жизни[218]218
Гинзбург 2002. С. 255.
[Закрыть]. Ее стремление шагнуть вперед, оставить индивидуализм в прошлом дает поразительные результаты в ее «описании человека» (включая и самоописание), одновременно психологическом, самоотстраненном и философском. Сам акт письма оказывается одним из ключевых элементов победы Гинзбург над индивидуализмом, потому что, как она теоретизирует, письмо – это этический акт, а также акт, связанный с личностью и идентичностью.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































