Текст книги "Проза Лидии Гинзбург"
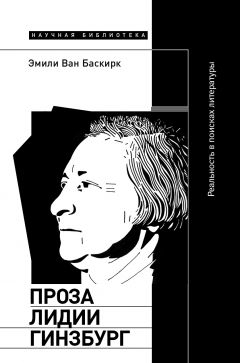
Автор книги: Эмили Ван Баскирк
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Самоотстранение, отчуждение, вненаходимость
Гинзбург пространно размышляет о механизмах жалости, а в особенности о том, что нужно до какой-то степени «дистанцироваться» от человека и ситуации, заслуживающих жалости. Жалость рассматривается ею и как эстетическое, и как этическое явление: «Подобно трагическому, комическому, возвышенному, жалкое перестраивает для себя материалы действительности, пользуясь притом откровенно эстетическими приемами»[313]313
Гинзбург 2002. С. 586.
[Закрыть]. Рисуя в тексте «Заблуждения воли» воображаемую сцену смерти на Литейном проспекте в центре Ленинграда, она строит гипотезы о возникновении чувства жалости (у кого-то, чья позиция схожа с ее собственной): подмечаешь, что человек, раздавленный трамваем, нес домой яблоки в бумажном кульке; кулек промокает от крови; милиционер, спеша к месту происшествия, давит сапогом яблоко…
Предмет должен находиться достаточно близко от нас в пространстве и времени, чтобы обрести детализированность, наглядность и существенность – свойства, которые нужны, чтобы в нас пробудилась жалость. Вместе с тем Гинзбург отмечает, что жалость как «социальный факт» требует «чувства дистанции и чувства ответственности». Она обобщает: «По мере приближения к человеку – мы часто теряем жалость»[314]314
Там же. С. 587.
[Закрыть]. Итак, чтобы один человек пожалел другого, нужно, чтобы первый в каком-то смысле не понимал положения другого, тут требуется «нечто от удивления, от непонимания и взгляда со стороны»[315]315
Там же.
[Закрыть]. Калека не жалеет другого калеку, арестант под конвоем не жалеет товарища по несчастью, даже если на воле жалел таких людей[316]316
Там же. С. 588.
[Закрыть]. Во время Ленинградской блокады Оттер не в состоянии жалеть тетку, так как слишком близко находится и сам слишком сильно страдает от лишений. Теория Гинзбург, опровергая наши интуитивные представления, гласит: те, кто наиболее чутко считывает потребности окружающих и лучше всех способен вообразить себя на месте другого, меньше всех испытывают жалость. Точно так же, чтобы пожалеть себя, нужно от себя отстраниться: «Жалость к себе самому – всегда отчасти метафора или игра, парадоксальная поза разглядывания себя со стороны»[317]317
Там же. С. 587.
[Закрыть].
То, что Гинзбург обостренно-четко почувствовала, на какую дистанцию нужно отойти от себя или другого, чтобы включилось чувство жалости, – в действительности лишь один пример того важного значения, которое имело для нее восприятие объектов со стороны. Чтобы все разглядеть ясно, нужно смотреть на события и персонажей извне, с точки, с которой открывается некая неизменная и всеобъемлющая картина. Такое отстраненное восприятие себя Гинзбург анализирует в эссе «О сатире и об анализе»[318]318
Гинзбург 2002. С. 251–259. Ричард Густафсон включает в свою статью интересное рассмотрение этого эссе в контексте отношения Гинзбург к Толстому и потребности Гинзбург в одновременно социологическом и нравственном анализе: Gustafson R. Lidiia Ginzburg and Tolstoi // Canadian-American Slavic Studies. 1994. 28, 2–3 (Summer – Fall). Р. 204–215; см. в особенности 207.
[Закрыть]. Главные темы этого эссе также легли в основу завершающего раздела книги «О психологической прозе», в котором рассматривается, в том числе, этическая оценка в реализме. Гинзбург связывает сатиру – «всегда синтетическую, с ее стереотипами, накладываемыми извне на изменчивое течение жизни» – с изображением событий со стороны, а психологический анализ – «беспощадно обнажающий скрытые мотивы и в то же время объяснением этих мотивов в какой-то мере „отпускающий вину“» – с изображением изнутри[319]319
Гинзбург 1977. С. 405.
[Закрыть]. Ради своего проекта Гинзбург отвергает и сатиру, и психологический анализ XIX века, ее задача – иной тип анализа, который содержит взгляд извне, взгляд со стороны, добиваясь уместного и скрупулезно-точного словесного выражения мыслей[320]320
Гинзбург 2002. С. 251.
[Закрыть]. Чтобы понять, как работает это самоотстранение, полезно обратиться к «Запискам блокадного человека», где этот процесс представлен в осязаемо-материальных категориях[321]321
В главе 5 я анализирую «Записки блокадного человека», особенно в связи с «Рассказом о жалости и о жестокости» и вопросами жанра. Здесь я ограничиваюсь анализом нескольких техник отстранения автора от персонажа в этом повествовании.
[Закрыть].
Самоотстранение Гинзбург в ее блокадных записях работает отчасти с помощью тех же приемов, что и «остранение» у Шкловского – эстетический прием, позволяющий нам взглянуть на предмет так, словно он нам в новинку, наделяющий наше восприятие обновленной силой. Шкловскому принадлежит знаменитое утверждение, что цель искусства – научить нас видеть вещи, а не просто узнавать те вещи, которые нам уже знакомы, и ради этой цели надо сделать так, чтобы сам воспринимательный процесс стал более долгим и более трудным[322]322
См.: Шкловский В. Искусство как прием // Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи. Воспоминания. Эссе. М.: Сов. писатель, 1990. С. 58–72. Статья впервые опубликована в 1917 году. Ключевой пассаж об «остранении» – на с. 63.
[Закрыть]. Как предложенное Шкловским понятие «остранение», так и любимый прием Гинзбург – самоотстранение (термин автора этого исследования) были разработаны под влиянием Льва Толстого[323]323
В своей статье Кобрин сравнивает трактовки войны у Гинзбург в «Записках блокадного человека» и у Толстого в «Войне и мире», противопоставляя «тотальную» войну ХХ века кутузовской «народной войне» XIX века (Kobrin 2012. Р. 240–245; на рус. яз. см.: Кобрин К. Лидия Гинзбург: прорыв блокадного круга // Новый мир. 2013. № 5). Ричард Густафсон рассматривает влияние Толстого на Гинзбург в целом и на «Записки блокадного человека» в особенности (Lidiia Ginzburg and Tolstoi. Р. 204–215). Он отмечает: «Переживание блокады Лидией Гинзбург тесно ассоциируется с ее обращением к Толстому в профессиональной деятельности» (Р. 215).
[Закрыть]. Но самоотстранение выполняет иную функцию[324]324
Неологизм Шкловского «остранение», хотя и пишется с одним «н», – слово, однокоренное прилагательному «странный». Однако Светлана Бойм рассматривает альтернативные этимологии, в том числе производные от слова «страна» (в таком случае получается, что «остранение» – что-то вроде depaysement). (Dépaysement (фр.) – 1) уст. отправка на чужбину; перемещение (животных); 2) чувство потерянности в новой, непривычной обстановке; 3) перемена обстановки; новизна, необычность. – Примеч. пер.) Шкловский сам говорит, что его «остранение» путали со словом «отстранение»: «Существовал старый термин – остранение: его часто печатают через одно „н“, хотя слово это происходит от слова „странный“, но термин вошел в жизнь с 1916 года в таком написании. Но, кроме того, его нередко путают по слуху, говорят „отстранение“, значит – отодвигание мира» (Шкловский В. Язык и поэзия // Шкловский В. Избранное: В 2 т. М.: Худож. лит., 1983. Т. 2. С. 188).
[Закрыть]. В блокадной прозе Гинзбург самоотстранение – не просто художественный прием или метод описания, схожий с остранением[325]325
Ученые пытались расширить значение термина Шкловского «остранение»: например, рассматривалась возможность понимания этого приема как этического принципа в связи с «вненаходимостью» – термином, который ввел Бахтин (бахтинский термин рассматривается в этой главе ниже). См., например: Boym S. Poetics and Politics of Estrangement: Viktor Shklovsky and Hannah Arendt // Poetics Today. 22005. 6, 4 (Winter). Р. 581–611; Emerson С. Shklovsky’s ostranenie, Bakhtin’s vnenakhodimost’ (How Distance Serves an Aesthetics of Arousal Differently from an Aesthetics Based on Pain) // Ibid. Р. 637–664; Tihanov G. The Politics of Estrangement: The Case of the Early Shklovsky // Ibid. Р. 665–696.
[Закрыть]. Это еще и этический и психологический образ восприятия жизни со стороны и отношения к себе как к «другому».
Гинзбург пользуется отчуждением или остранением, порожденным уже самими условиями жизни в блокаду, когда ленинградцы со всей остротой осознали тяготы существования и передвижения в пространстве, которое раньше казалось им детально знакомым. Теперь город можно было видеть и чувствовать, вместо того чтобы просто узнавать. Гинзбург скрупулезно отмечает, что опустошенное дистрофией тело человека уже, казалось, больше ему не принадлежало, а для того, чтобы ходить или просто оставаться в вертикальном положении, требовалось сознательное усилие воли. Разбомбленные городские здания внезапно стали похожи на декорации к спектаклям в стиле Мейерхольда – этакое остранение навыворот. Настал миг, пишет Гинзбург, когда город в целом обрел новый, странный облик: стал похож на сельскую местность в том смысле, что расстояния как бы увеличились (едва прекратилось трамвайное сообщение), а воздух стал чище (с закрытием большей части предприятий). Экстремальный опыт влиял и на язык: окостеневшие выражения, метафорическое происхождение которых давно было забыто, – такие как «делиться со своими ближними куском хлеба» – вновь обрели свой буквальный смысл[326]326
Рассказ о жалости и о жестокости // Гинзбург 2011. С. 17.
[Закрыть]. Блокадники испытывали чувство дезориентирующей отчужденности от всех сторон повседневной жизни.
На все эти изменения Гинзбург смотрит под углом того, в какой мере человек мог иметь хотя бы минимальную власть над переживаемым и воспринимаемым. Потому-то одной из важных тем «Записок блокадного человека» Гинзбург делает тему зрения. Герой, Эн, – как и безымянный рассказчик отрывка «Оцепенение» (опубликованного в составе подборки «Вокруг „Записок блокадного человека“», которая служит дополнением к «Запискам») – близорук. Похоже, в определенном смысле близорукость – удобная деталь, объясняющая, почему персонажи-мужчины в повествованиях Гинзбург не ушли на фронт, а остаются в городе (из‐за близорукости они не подлежат призыву в армию). Но Гинзбург находит этой особенности зрения и более плодотворное применение. Герой «Оцепенения», оставшись без очков, которые случайно были раздавлены в переполненном трамвае, раздражается из‐за неспособности вернуть «памятным ленинградским сочетаниям» ту «немного искусственную радужную отчетливость» – зрительное впечатление, которое он любил «в той жизни», иначе говоря, в своей прежней жизни, и раздражение разгорается настолько, что герой готов начисто отвергнуть «зрительную полноценность». Отчужденный от города, он решил отвергнуть город сам и взмолился: «Я был наболевшей поверхностью, и я просил город меня не трогать»[327]327
Гинзбург 2011. С. 435–436. Можно отметить, что попытки героя отвергнуть изранивший его город позволяют нам проводить параллели между «Оцепенением» и каноническими примерами так называемого «петербургского текста» – такими произведениями, как «Медный всадник», «Шинель» и «Записки из подполья».
[Закрыть].
Но у Гинзбург прием самоотстранения, хотя и опирается, как и жалость, на четко выверяемую градацию, решает иную задачу – не ту, что у героя «Оцепенения», человека с израненной душой; Гинзбург нужен этот прием, чтобы «навести на резкость». Аналитическая четкость – отличительная черта стиля Гинзбург в «Записках», где имеются транскрибирование разговоров, максимально подробные описания телесных ощущений, а также всеобъемлющее рассмотрение социальных и психологических аспектов повседневной жизни в блокаду. Вдобавок сознательно задействовать взгляд со стороны – возможно, способ выживания. Тревожные симптомы дистрофии были более заметны для окружающих, чем для самого дистрофика: «„А ведь он уже пухнет“, – говорят про него, но он еще не знает об этом»[328]328
Там же. С. 315.
[Закрыть]. Таким образом, чтобы оценить состояние своего здоровья, вам приходилось смотреть на себя чужими глазами. Некоторые действия становились постижимы только тогда, когда вы воображали их себе с точки зрения стороннего наблюдателя. Гинзбург описывает, как человек начинает «ощущать», что действительно пилит доску, только когда он выстраивает в сознании составную картину ситуации: он подмечает, что все элементы его позы – это элементы позы пилящего, и слышит гармонирующие с этим звуки. Иными словами, поскольку человек утратил привычное ощущение движений своего тела (то, что Чарльз Скотт Шеррингтон называл «проприорецепция»), он только через акт создания мысленного образа и самоотстранения осознает, что в данный момент пилит доску[329]329
См. то, как рассматривает эту тему Оливер Сакс в главе «Бестелесная Кристи» в книге «Человек, который принял свою жену за шляпу» (в англ. оригинале глава называется «The Disembodied Lady». – Примеч. пер.): Sacks О. The Man Who Mistook His Wife for a Hat. New York, NY: Simon & Schuster, 1998. Р. 43–54, а также в своей автобиографии «Нога как точка опоры» (М.: Астрель, 2012; 2014, оригинал: A Leg to Stand On. New York: Harper Perennial, 1994). См. также: Eakin P. J. How Our Lives Become Stories: Making Selves. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999. P. 26–42. В этом контексте важно и понятие Ульрика Найссера «Экологическое „я“»: Neisser U. Five Kinds of Self-knowledge // Philosophical Psychology. 1988. 1, 1. Р. 37–41.
[Закрыть]. (Строго говоря, остранение по Шкловскому сделалось теперь частью повседневной жизни людей; ничего автоматизированного теперь больше нет[330]330
Кирилл Кобрин утверждает, что остранение, продуцируемое осажденным городом, настолько изнурительно и до такой степени смертельно опасно (поскольку оно разрушает устоявшийся распорядок и привычки), что «„блокадный человек“ может выжить, лишь одолев остранение» (Kobrin 2012. Р. 240).
[Закрыть].) Аналог этой процедуры – жест, с которого начинаются «Записки блокадного человека»: Гинзбург описывает, как человек проверяет по «Войне и миру» Толстого свое ощущение блокады – то есть для того, чтобы осмыслить свой непосредственный опыт или контекст, человек выходит за пределы этого опыта или контекста[331]331
Гинзбург 2011. С. 311.
[Закрыть].
Методы самоотстранения Гинзбург имели аналоги в нравственных и физических стратегиях выживания других блокадников. Многие также читали Толстого, а многие еще и вели дневник, не смущаясь тем, что на это приходилось тратить дополнительную энергию в обстоятельствах, когда надо было максимально беречь силы. При жизни Гинзбург был опубликован, в числе других текстов, дневник Юры Рябинкина (в составе «Блокадной книги»)[332]332
«Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина была впервые опубликована в 1979 году, а затем вышла еще несколькими изданиями, которые все меньше и меньше подвергались цензуре. Первые два издания вышли в Москве, поскольку все ленинградские журналы отказались публиковать это произведение. Об этой истории см.: Блюм А. Как это делалось в Ленинграде: Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки 1953–1991. СПб.: Академический проект, 2005. С. 167.
[Закрыть]. В этом документе, силу которого отмечала Гинзбург[333]333
Поле напряжения. [Интервью с Г. Силиной] // Лит. газета. 1986. 15 янв. № 3 (5069).
[Закрыть], много самокритики и мучительного анализа слабостей и дурных поступков автора дневника. Шестнадцатилетний Рябинкин поднимается на более высокий уровень самоосознания, экстериоризируя свой опыт в дневнике, воспаряя в пространственно-временном восприятии над блокадой. Он воображает самого себя в будущем, в эвакуации, и пытается соответствовать высокой планке этого образа: «Я чувствую, чтобы стать таким, как прежде, требуется надежда, уверенность, что я с семьей завтра или послезавтра эвакуируюсь. ‹…›. Если бы не она [надежда на эвакуацию], я бы воровал, грабил…»[334]334
Блокадная книга / Алесь Адамович и Даниил Гранин. Л.: Лениздат, 1989. С. 382. Авторы указывают, что фрагменты дневника Рябинкина ранее были опубликованы в газете «Смена» в 1970 году (Там же. С. 266).
[Закрыть] Автобиографическое письмо было для блокадников одним из «искусств себя», описанных Мишелем Фуко в его исследовании этих практик в греко-римской культуре I–II веков н. э.:
Письмо о себе четко возникает в отношениях взаимодополнения, которые связывают его с затворничеством: оно смягчает опасности уединения; оно выставляет на потенциальное обозрение дела или мысли человека; тот факт, что человек обязывает себя что-то писать, берет на себя ту же роль, которую выполняют наши спутники, вселяя страх перед неодобрением и чувство пристыженности[335]335
Foucault М. Self Writing //. Essential Works of Michel Foucault 1954–1984 / Еd. P. Rabinow, trans. R. Hurley and others. Vol. 1. Ethics: Subjectivity and Truth. New York: The New Press, 1997. Р. 207.
[Закрыть].
Суровые материально-физиологические и социальные реалии блокадной жизни, борьба за выживание, сталкивавшая людей лбами, могли быть особыми помехами для верности человека его моральной рутине. На взгляд Гинзбург, это означало, что нужно делать над собой специальные усилия, чтобы объединить свои разрозненные поступки и чувства в некую систему или целостность, а также занять несколько дистанцированную позицию – позицию стороннего наблюдателя. Она часто видела и ощущала обратный процесс, когда человек смотрел на себя изнутри и отрицал свои аморальные поступки (такие, как кража еды или что-то еще более ужасное), считая их «временными и случайными». Гинзбург называла этот процесс «психологическим раздвоением» или отчуждением человека от его автоконцепции. Она описывает интеллектуала, для которого «поступок не имел отношения к его пониманию жизни вообще и потому не мог отразиться на этических представлениях и оценках, выработанных всей его биографией. Он видит себя изнутри, и он видит свой поступок как отчужденный от его постоянной человеческой сущности»[336]336
Гинзбург 2011. С. 186.
[Закрыть]. Во времена лишений даже тот, кто способен смотреть на себя извне и обретать ощущение своей биографии, приглушает и изолирует свое ощущение «жизни вообще», чтобы ни один «единичный» инцидент не мог затронуть или изменить это ощущение. Однако тот же человек, именно под влиянием этой разницы в восприятии, станет с легкостью осуждать других: «другого же ‹…› он не видит изнутри»[337]337
Там же. Эллипсис мой. Ср. рассмотрение этой темы Гинзбург: О психологической прозе // Гинзбург 1977. С. 407.
[Закрыть].
Гинзбург демонстрирует, что самоотстранение необходимо для этической оценки, для чего бы она ни служила – для самокритики или самосовершенствования. Взгляд на себя глазами другого помогал человеку признать себя «негодяем», когда он вел себя, как негодяй[338]338
О сатире и об анализе // Гинзбург 2002. С. 255.
[Закрыть]. В конце войны Гинзбург наблюдала обратное явление: коллективные идентичности и давление социума вдохновляли людей жить в соответствии с более высокими критериями. Люди, находившиеся вне кольца блокады, в итоге внушили ленинградцам, что те – герои, чья ежедневная борьба с бытовыми тяготами вносила свой вклад в выживание страны. Ленинградцы обретали позитивные автоконцепции, основываясь на описаниях героизма в прессе и вручении государственных наград. У этого был и негативный эффект: люди позабыли или вытеснили в подсознание все те свои поступки блокадной поры, которые не были героическими. Но фактически люди обладали мотивацией для того, чтобы вести себя более благородно, в соответствии с их новообретенными (или заново обретенными) автоконцепциями и ценностями[339]339
Гинзбург 2011. С. 188.
[Закрыть].
Гинзбург – друг и бывшая ученица Шкловского – должна была сознавать важность остранения для своих описаний блокадной жизни; правда, сама она возражала, что это сама действительность замедлилась и затруднила акт восприятия. Ей вряд ли было известно понятие «вненаходимость», введенное Михаилом Бахтиным: оно рассматривается в его ранней работе «Автор и герой в эстетической деятельности», написанной ок. 1924–1927 годов, но опубликованной лишь в 1979 году. Правда, Гинзбург знала работы таких немецких философов, как Макс Шелер, под влиянием которого сложилось понятие «вненаходимости» у Бахтина[340]340
В «Мысли, описавшей круг» Гинзбург упоминает о Шелере в связи с осознанием смерти (Гинзбург 2002. С. 553–554). Говоря о самосовершенствовании через раскаяние, Шелер использует визуально-пространственную метафору. Он пишет: «Точно так же, как, совершая восхождение на гору, мы видим как приближение вершины, так и погружение долины под нашими ногами, и каждая картина входит в наш чувственный опыт под контролем одного-единственного действия, так и при Раскаянии Человек совершает восхождение, и при восхождении видит под собой прежние „Я“, составлявшие его» (Scheler М. Repentance and Rebirth // On the Eternal in Man / Trans. Bernard Noble. London: SCM Press Ltd, 1960. Р. 48). О Бахтине, Шелере, Николае Гартмане и других см.: Poole В. From Phenomenology to Dialogue: Max Scheler’s Phenomenological Tradition and Mikhail Bakhtin’s Development from «Toward a Philosophy of the Act» to His Study of Dostoevsky // Bakhtin and Cultural Theory. Manchester, UK: Manchester University Press, 2001. Р. 109–135. См. также: Brandist С. The Bakhtin Circle: Philosophy, Culture and Politics. London: Pluto Press, 2002. Валентин Волошинов в своей книге о фрейдизме назвал Шелера «самым влиятельным философом нашего времени» (Poole В. Р. 112).
[Закрыть]. Согласно знаменитой (но все еще загадочной) теории Бахтина, дистанцированность – то есть вненаходимость, нахождение вне другого – необходима, чтобы превратить этого другого в визуальное, эстетическое или семантическое целое. Таким образом, дистанцированность – предварительное условие создания литературного героя. Как и Гинзбург, Бахтин уделяет особое внимание разнице между тем, как мы обычно воспринимаем себя, и тем, как мы обычно воспринимаем других, отмечая: «Менее всего в себе самом мы умеем и можем воспринять данное целое своей собственной личности»[341]341
Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. М.: Русские словари, 2003. Т. 1. С. 89.
[Закрыть]. Хотя для нас обычная практика – воображать, как выглядят глазами другого человека наша внешность и поступки, принимать во внимание то, как другие на нас реагируют, и даже воображать последствия нашей смерти, факт тот, что затем мы берем все эти впечатления и «переводим» их в свою продолжающуюся жизнь, в которой никогда не совпадаем сами с собой, в которой у нас всегда есть лазейка для того, чтобы измениться[342]342
Там же. С. 97–98, 117–118.
[Закрыть]. Однако, на взгляд Бахтина, литературный герой отличается от своего автора и должен быть неким самостоятельным, существующим по отдельности целым. Следовательно, чтобы создать даже автобиографического героя, «автор должен стать вне себя, пережить себя не в том плане, в котором мы действительно переживаем свою жизнь»[343]343
Там же. С. 97.
[Закрыть].
Бахтин и Гинзбург едины в том, что ратуют за дистанцирование как необходимый способ уловить и упорядочить человеческий характер. Но между вненаходимостью Бахтина и самоотстранением Гинзбург есть ключевые различия. Бахтинское понятие функционирует преимущественно в интересах создания художественного произведения[344]344
Принцип вненаходимости в интерпретации Бахтина состоит в том, чтобы делать возможным искусство, а не этические деяния. Именно в этом эстетическом смысле Кэрил Эмерсон проводит параллель между «вненаходимостью» у Бахтина и «остранением» у Шкловского (Emerson С. Shklovsky’s ostranenie, Bakhtin’s vnenakhodimost’).
[Закрыть]. Если Бахтин и наводит до какой-то степени мосты между сферами эстетики, познания и этики, он говорит о вненаходимости в категориях сочувствия или эмпатии (в духе Шелера), а не в терминах вынесения нравственных оценок (себе самому или другим людям). Самый яркий из своих примеров он начинает с образа страдающего человека. Только со стороны мы можем увидеть положение этого человека целостно: например, голубое небо, «его обрамляющее, становится живописным моментом, завершающим и разрешающим его страдание»[345]345
Бахтин М. М. Автор и герой. С. 107. Совершенно иной, весьма радикальный анализ «Автора и героя» Бахтина недавно провела Ирина Сандомирская: она характеризует эту работу как апологию репрессий, находя, что власть автора над героем – репрезентация «проявления террора», обычная для произведений сталинской эпохи. По мнению Сандомирской, у Бахтина «автор» превращает «героя» в «вещь», чтобы создать тотальность романа (Сандомирская И. Блокада в слове: Очерки критической теории и биополитики языка. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 111–172, в особенности с. 145, 156, 161.
[Закрыть]. А когда Бахтин говорит, что мы не совпадаем сами с собой, он подразумевает оптимистичную идею нашей открытости будущему, которая определенно важна для различения нас как субъектов. Но она не помогает преодолеть неопределенность и отрывочность, которые Гинзбург находит столь тревожными.
Особое внимание Гинзбург к самоотстранению порождено подозрением, что переживание жизни как серии разрозненных моментов может сделать человека морально ущербным. Гинзбург, особенно в обстановке, когда этическое чувство сильно ослабло, сознавала, как опасно человеку отделять образ себя от конкретных поступков, совершаемых им по личному выбору (или поневоле). Итак, Гинзбург ставила себе цели, находившиеся вне непосредственного контекста, в котором она существовала (контекста блокады, контекста советского общества или какого-либо иного), чтобы подчинить свои поступки высшему этическому мерилу[346]346
О способности Гинзбург перемещаться в другое пространство см.: Левкин А. Школа для умных // Новое литературное обозрение. 2001. № 3 (49). С. 421–426. О принадлежности Гинзбург к традициям русской интеллигенции XIX века см.: Pratt S. Lidiia Ginzburg, a Russian Democrat at the Rendezvous // Canadian-American Slavic Studies. 1994. 28, 2–3 (Summer – Fall). Р. 183–203. Публикация на рус. яз.: Пратт С. Лидия Гинзбург, русский демократ на rendez-vous // Новое литературное обозрение. 2001. № 3 (49).
[Закрыть]. Парадоксальным образом взгляд на себя глазами другого дарует более отчетливое, более полное ощущение своей «постоянной человеческой сущности». Путем экстериоризации и систематизирования личного опыта Гинзбург доносила до своих читателей не застывший автобиографический образ и не какую-то конкретную систему ценностей, а что-то более важное: метод того, как посредством письма выстроить моральную структуру себя в любых условиях жизни, даже в отсутствие абсолюта.
Автор и герой Гинзбург: разные степени отстранения
Самоотстранение как понятие и прием – один из лейтмотивов автобиографической эстетики и этики Гинзбург. Оно имеет ключевое значение для ее концепции письма как выхода из себя, как акта, направленного на Другого, как акта, в котором некий плод себя превращается в реальную вещь, циркулирующую в мире. Самоотстранение жизненно важно для создания той новой прозы ХХ века, которую представляла себе Лидии Гинзбург, – прозы, где характер имманентного героя и его поступков может получать оценку и не может быть оправдан нравственным релятивизмом, социальными предпосылками, воздействием социальной среды или внутренними психологическими особенностями человека. Дистанцирование от себя и другого необходимо также при ощущении жалости и в ходе посттравматического процесса рационального анализа своих поступков, совершенных в прошлом.
Другой важный уровень, на котором работает самоотстранение, при описании сложных взаимоотношений автора (или автора-повествователя) с героем – это формальный или нарратологический уровень. Давайте вернемся к «Заблуждению воли» – уникальному повествованию, где более явно, чем обычно, видны последствия, которые имел стиль Гинзбург для ее представлений о человеке.
Гинзбург написала первый черновик «Заблуждения воли» в середине 1930‐х годов и переписывала его несколько раз, меняя грамматическое лицо, от которого ведется повествование[347]347
В этих двух версиях, написанных, по-видимому, в 1930‐е годы, явно разнятся нарративные стратегии: одна версия – более-менее полный черновик, вторая состоит из нескольких страниц более раннего черновика в одной из рукописей «Мысли, описавшей круг». Страницы четко свидетельствуют, что на тот момент «Заблуждение…» было, по-видимому, частью или ответвлением «Мысли…». Эти черновики, которые я изучала в архиве А. Кушнера, вошли во вторую партию архивных документов, переданных в РНБ и указаны во временном каталоге под шифрами Оп. 2. Ед. хр. 41 и Ед. хр. 42 (они ошибочно помечены как «Записные книжки» 1936 года; 66 с. и 53 с. соответственно). Другая, более поздняя группа черновиков вошла в первую партию архивных документов, переданных в РНБ (Оп. 1), и указана в списке, без номера, под заглавием «Мысль, описавшая круг» (278 с.). ОР РНБ. Ф. 1377.
[Закрыть], пока, наконец, в 1989 году не опубликовала. В ранних рукописях она экспериментировала с повествованием в первом лице. К примеру, вот версия зачина, которая, вероятно, была первоначальной:
Когда эта тема по настоящему находит на меня, она идет долгим потоком разорванных мыслей. И уже неизвестно – теперешний ли это поток или тот самый поток, который непрестанно гудел в моей голове в те первые дни после этой смерти[348]348
Это начало содержится в черновике «Мысли, описавшей круг» (ОР РНБ. Ф. 1377. Оп. 2. Ед. хр. 42. Архив Гинзбург, папка «Мысль, описавшая круг»). Прочие абзацы этого начала, написанного начерно, состоят из обобщений, а также из диалога между абстрактными «раскаянием» и «самооправданием» (подобный диалог появляется и в законченной версии).
[Закрыть].
Черновик слишком быстро обрывается, чтобы мы могли установить, намеревалась ли Гинзбург писать и дальнейший текст в первом лице. В более позднем черновике, где точка зрения более отстраненная, рассказчик все же вступает в тесные, автобиографические отношения с «материалом»:
Вот в моих руках, в руках писателя побывала жалкая жизнь и жалкая смерть человека. ‹…› И во всем своем объеме она [смерть] существовала для одного только человека, для которого она стала виной и казнью воли[349]349
Первая страница рукописи в папке, помеченной «Заблуждение воли» (ОР РНБ. Ф. 1377. Оп. 2. Ед. хр. 58). В окончательной версии Гинзбург употребляет во всем этом пассаже формы первого лица множественного числа. Например: «Это [жизнь другого человека – ] как драгоценная вещь, побывавшая у нас в руках и по невежеству отброшенная прочь» (Гинзбург 2002. С. 584).
[Закрыть].
В последующих версиях «Заблуждения воли» Гинзбург вводит в повествование своего героя Оттера, позднее переименованного в Эна. Это можно было бы назвать актом фикционализации, но, поскольку «Оттер» и «Эн» не являются полноценными личными именами, они скорее намекают, что это автобиография, написанная в третьем лице. По-видимому, «Оттер» – попытка транслитерации французских слов «автор» (auteur) и «другой» (autre). В черновиках обычно обнаруживается сокращение «От.» – русский предлог «от». Вдобавок в этих текстах предостаточно узнаваемых автобиографических подробностей, а явная фикционализация отсутствует, за исключением того обстоятельства, что Эн/Оттер – мужского пола[350]350
О гендерной принадлежности Эна см. гл. 3. Об автобиографической основе этого рассказа см. гл. 5.
[Закрыть]. Хотя в 1930–1940‐е годы Эн/Оттер появляется в качестве альтер эго Гинзбург в нескольких более пространных повествованиях (и тем самым у него со временем накапливается опыт, совсем как у автора дневника), стремление создать такого персонажа порождено очевидным желанием отграничить персонажа от автора. Правда, даже в повествовании в первом лице можно достичь самоотстранения, но третье лицо более явно отделяет историю Эна/Оттера от какого-либо «внутреннего» самосознания. Оно указывает, что Гинзбург занимает позицию постиндивидуалистического писателя, который старается взглянуть на человека со стороны.
В опубликованной версии «Заблуждения воли» сосуществуют два основных голоса: голос автора-повествователя, анализирующий и обобщающий, и голос полуавтобиографического персонажа (Эна), подробно описывающий поступки и чувства Эна в прошлом, а заодно тоже анализирующий и обобщающий. Множественные голоса (автор-повествователь, Эн тогдашний, Эн теперешний) символизируют разные слои самоотстранения, которых столько же, сколько голосов. Автор-повествователь начинает и завершает повествование, а также, по-видимому, прерывает развитие сюжета размышлениями о жалости, раскаянии, вине, старении и смерти. Он никогда не высказывается от первого лица (так, как он высказывается в «Возвращении домой», «Мысли, описавшей круг» и «Записках блокадного человека»). Его голос практически неотличим от голоса предполагаемого автора у Гинзбург в других повествованиях, а также в эссе, которые содержатся в записных книжках (и даже, в определенные моменты, в ее научных работах)[351]351
Сара Пратт подметила этот эффект в своих рассуждениях об автобиографическом характере «Записок блокадного человека», где, как она выражается, налицо «типично „гинзбурговский“ анализ», схожий с тем, который мы находим в «О психологической прозе» и «О литературном герое» (Pratt S. Angels in the Stalinist House: Nadezhda Mandelstam, Lidiia Chukovskaia, Lidiia Ginzburg, and Russian Women’s Autobiography // Auto/biography Studies. 1996. 11, 2. Р. 73).
[Закрыть].
Основной голос – голос героя, Эна – говорит только в третьем лице, когда герой копается в воспоминаниях[352]352
Есть и несколько дополнительных случайных голосов: например, в рассказ внезапно вторгается высказывание некой безымянной женщины (размышления о стареющих родителях). По-видимому, ее слова цитируются автором-повествователем. В целях повествования было бы логичнее, если бы эта женщина разговаривала с Эном (Гинзбург 2002. С. 597). В «Заблуждении воли» и «Рассказе о жалости и о жестокости», где в центре повествования – исключительно вина одного человека, таких голосов вообще намного меньше, чем в таких произведениях, как «Записки блокадного человека» или «Мысль, описавшая круг».
[Закрыть]. Это можно было бы назвать свободной косвенной речью, но в свете взглядов Эна на психологию и людские взаимоотношения, а также его методов анализа дело скорее выглядит так, будто автор-повествователь – чревовещатель, а Эн – его кукла, говорящая только в третьем лице. Определенные моменты, когда Эн пытается припомнить события прошлого, приближаются к свободной косвенной речи, поскольку тогда голос Эна лучше опознается как его собственный, а не как голос бесстрастного автора-повествователя. В эти моменты ясно, что именно Эн размышляет о своих поступках и пытается вспомнить прошлое. Например, он сердито отчитывает себя: «Глупец!»[353]353
В рукописи: «Дурак!»
[Закрыть] В такие моменты мы обнаруживаем эллиптические высказывания и слова, указывающие на неуверенность, колебания или приблизительные оценки: «как-то», «что-то», «вероятно», «дня два». Однако, когда Эн занят рациональным анализом своего прошлого, его голос труднее отличить от голоса автора-повествователя. Рассмотрим, например, нижеследующий пассаж:
Как-то у Эна были гости, и кто-то из гостей, одна из женщин, сказала, что у старика отличный вид, что он молодеет, и тому это было приятно.
Нет, такие воспоминания явно не клеятся, они тусклы и насильственны. Структурная работа раскаяния с силой отметает все, что ему не подходит. Зато раскаянию вполне подходит то, что однажды сказал старик, не Эну прямо, но тетке, – вероятно, для передачи; сказал: лучше бы он давал мне определенную сумму в месяц, а не так, как случится. Лучше – это значит, больше похоже на пенсию или на зарплату, во всяком случае не так обидно… Как можно, как можно было допустить до обиды…[354]354
Гинзбург 2002. С. 595.
[Закрыть]
Здесь мы обнаруживаем разные типы речи: вначале мы видим Эна, пытающегося припомнить приятную сцену из прошлого. Но затем он – или, возможно, автор-повествователь – вмешивается, чтобы заявить: такие воспоминания не могут оказать желательное для нас воздействие. Это более отстраненный взгляд, на смену которому приходит еще более отстраненное обобщение (которое, возможно, вновь принадлежит автору-повествователю) о том, как устроено раскаяние – дескать, раскаяние «с силой отметает все, что ему не подходит». И все же после этого текст вскоре дает обратный ход: в следующем предложении мы снова с Эном, вспоминающим более типичный и более удручающий разговор. Припомнив и проанализировав отцовские жалобы, Эн невольно возвращается в эмоциональное настоящее, недоуменно, многократно осыпая себя упреками («Как можно, как можно было…») – и мы возвращаемся к трудной, нескончаемой работе раскаяния.
Другой случай головокружительной смены нарративных уровней встречается ближе к финалу повествования. Здесь мы видим ожидаемую реакцию «вымышленного» персонажа, Лизы (возлюбленной Эна), на предполагаемое авторское обобщение:
«Отец Горио» – очень неверная книга. Разве бывают, разве могли быть когда-нибудь дети, которые из‐за званого обеда не хотят пойти к умирающему отцу. На самом деле все хуже и проще: дети всегда идут к умирающему отцу, спешат к умирающему отцу, после того как испортили жизнь живому.
Лиза это поймет, она сама такая. Лиза когда-то сказала ему:
– Ты заметил, люди, которые в самом деле любили своих родителей, к их смерти относятся довольно спокойно. Мучаются же эгоисты – вместо того, чтобы думать об исчезнувшем человеке, они думают о своей вине[355]355
Гинзбург 2002. С. 610.
[Закрыть].
Вначале кажется, что размышление о Бальзаке принадлежит автору-повествователю, и тем не менее, возможно, с Бальзаком спорит сам Эн. В любом случае в воображении возникает представление, что Лиза откликается именно на эту мысль. Глагол совершенного вида – «Лиза это поймет» – распахивает для повествования двери в будущее, намекая, что Эн надеется найти у Лизы сочувствие и утешение. Это обобщение – мол, только когда уже слишком поздно, человек окружает других вниманием и заботой, в которых они крайне нуждаются, – всплывает также в «Рассказе о жалости и о жестокости»; по-видимому, оно может быть приписано обычному для текстов Гинзбург автору-повествователю.
У Гинзбург голоса героя и автора-повествователя почти все время практически неотличимы. Как представляется, герой и автор-повествователь просто находятся на разной дистанции от переживаний или событий. У Эна есть настоящее, которое за пределами повествования распахивается в будущее: он существует в сюжетном времени. И все же он проводит самоанализ тем же способом, который совпадает с методами и воззрениями автора-повествователя. Сходное слияние или совместимость голосов есть в «Рассказе о жалости и о жестокости». В этом мучительном блокадном повествовании обобщающий голос автора-повествователя присутствует лишь в минимальной степени. И все же, если учесть, что эти два повествования Гинзбург тесно связаны между собой, можно бы сказать, что философствование в «Заблуждении воли» создает рамки интерпретации для «Рассказа о жалости и о жестокости».
Эта множественность голосов (Оттер, Эн, автор-повествователь) демонстрирует множественные слои дистанцирования – или фрагментации авторского голоса – без четкого разделения или дифференциации по «персонажам». Гинзбург создает героя, казалось бы, отделяя сюжет от своей авторской позиции приемом, который ассоциируется с художественной литературой, но затем, из‐за близости автора к герою, возвращается к документальной эстетике. Отделение сюжета означает, что Гинзбург как автор не берет на себя ответственность – по крайней мере, перед читателем – за поступки, описанные в тексте. Иными словами, она изображает пунктирного, имманентного персонажа, даже когда уверяет, что все мы должны всеми силами увязывать пережитое воедино и создавать идентичности, ответственные за свои поступки.
Пользуясь анализом понятия «вненаходимость» у Бахтина, можно предположить, что, дабы дать жизнь своим повествованиям, Гинзбург требовалось «творческое сознание», которое поднималось бы над ее эпизодическими повествованиями (в данном случае повествованием о чувстве вины) и могло бы наблюдать за ее литературным героем в действии, не будучи само действующим лицом. Расщепление на несколько голосов – на автора, чьи переживания остаются для нас неведомыми, но чьими взглядами продиктованы обобщенные рассуждения, и на героя, который является субъектом действия, но тоже вносит свою лепту в размышления и обобщения, – возможно, в эстетическом или психологическом отношении потребовалось для нарративной обработки чувства вины за смерть дяди и матери Гинзбург. В качестве автора Гинзбург должна изолировать определенный кусок пережитого и придать ему связную последовательность (встраивая взаимоотношения в целое путем определенных обобщений и постоянных тем, проходящих лейтмотивом через повествования). Это означало бы, что со стороны автора были усилия обрести ясность в отношении своего опыта (установить «отношения» самооправдания), в то время как ее герой отдалялся на определенную дистанцию от своего опыта: реальный акт самоотстранения сопутствует акту, изображенному в повествовании[356]356
Вот связанный с этим вопрос, который я исследую в гл. 5: каковы взаимоотношения между художественным вымыслом и этикой в процессе самоанализа – может ли человек оставить свидетельство о своей вине путем создания явно фикционального, а не автобиографического или историографического повествования?
[Закрыть].
Фикционализация личного опыта через создание героя, сочетаемая с (частичным) расщеплением на героя и автора, по-видимому, позволяет увидеть ситуацию сверху, с достаточной высоты для того, чтобы разъяснить строение имманентного человека. То, насколько удается авторскому голосу вырваться из сферы индивидуального или отделиться от нее, – видимо, индикатор возможности подняться над ситуацией имманентности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































