Текст книги "Проза Лидии Гинзбург"
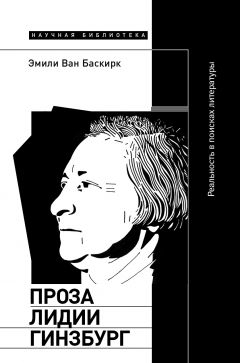
Автор книги: Эмили Ван Баскирк
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Искусство как «выход из себя»
В стержневом высказывании об искусстве, этике и творчестве Гинзбург фокусируется на своей концепции имманентности:
Человек уходит в себя, чтобы выйти из себя (а выход из себя – сердцевина этического акта). Человек в себе самом ищет то, что выше себя. Он находит тогда несомненные факты внутреннего опыта – любовь, сострадание, творчество – в своей имманентности, однако не утоляющие жажду последних социальных обоснований[219]219
Там же. С. 253.
[Закрыть].
Это высказывание взято из эссе «О сатире и об анализе», которое Гинзбург объявила своим «писательским кредо», – текста, где она обрамляет теорию писательского труда рассуждениями об этике[220]220
Например, определение «Писательское credo», которое Гинзбург дала своему эссе «О сатире и об анализе», написано на клочке бумаги, лежащем в папке вместе с черновиками «Мысли, описавшей круг»: по-видимому, это планы публикации, составленные, вероятнее всего, в 1960‐е годы (ОР РНБ. Ф. 1377).
[Закрыть]. Это эссе, написанное в 60‐е годы, предвосхищает кульминационную часть ее книги «О психологической прозе» (выстроенную вокруг фигуры Толстого), куда Гинзбург перенесла прямо из этого «кредо» некоторые формулировки, фразы и даже целые абзацы[221]221
В английском переводе эта часть книги «О психологической прозе» озаглавлена «Ethical Valuation» (в русском оригинале это безымянная третья часть последней главы книги «Проблемы психологического романа»). Возможно, Гинзбург совершила эту перестановку, так как в 1970‐е годы еще не была уверена, что тексты, написанные ею в стол, обретут читательскую аудиторию уже при ее жизни.
[Закрыть]. Во время творческого акта художник вначале уходит в себя с той целью, чтобы выйти из себя (или из своего эго), перемещается в язык, в сферу Другого. Гинзбург полагает, что творческие порывы имманентны и существуют в нашем сознании как часть нашего внутреннего опыта или интуиции, но вместе с тем требуют, чтобы мы нащупали их социальную основу, дабы обосновать их значимость. Гинзбург описывает это как парадокс «индивидуально-психологической области»[222]222
Гинзбург 2002. С. 253.
[Закрыть].
У формулировок Гинзбург «искусство как выход из себя», «выход из себя как этический акт» были более ранние прецеденты в философии Владимира Соловьева и Жана-Мари Гюйо. В «Мысли, описавшей круг» (1930‐е годы) она прямо ссылается на теорию любви Соловьева, отмечая, что любовь – «простейший, первичный способ выхода из себя»[223]223
Свою теорию любви Соловьев выдвинул в работе «Смысл любви» (1894), а не, как пишет Гинзбург, в «Оправдании любви»; «Оправдание любви» – смешение названий двух книг Соловьева: «Смысл любви» и «Оправдание добра». Эта ошибка присутствует во всех опубликованных версиях этого текста, начиная с его первой неполной публикации в: Гинзбург Л. «Долгий день». Отрывок // Аврора. 1989. № 4. С. 105. Ошибка повторяется в: Гинзбург Л. Человек за письменным столом. С. 464; Гинзбург 2002. С. 569.
[Закрыть]. Она продолжает:
Любовь и творчество побуждают к «преодолению субъективности» и «объективации мира»[225]225
Там же. Говоря словами Соловьева: «В чувстве любви… мы утверждаем безусловное значение другой индивидуальности, а через это и безусловное значение своей собственной». Хотя мы обычно идеализируем возлюбленного или возлюбленную, любимый человек в то же время должен быть «таким же реальным и конкретным, вполне объективированным субъектом, как и мы сами» (Соловьев В. С. Смысл любви // Русский эрос или философия любви в России / Сост. В. П. Шестаков и А. Н. Богословский. М.: Прогресс, 1991. С. 47, 35.
[Закрыть]. Как пишет Соловьев, когда мы влюблены, сам центр нашего бытия смещается таким образом, что мы начинаем жить не только в себе, но и в другом человеке[226]226
Соловьев В. С. Смысл любви. С. 34.
[Закрыть]. Он утверждает, что человек жертвует своим эго, чтобы принести свою «истинную индивидуальность» в дар союзу с другим человеком – союзу, который вечен и бессмертен[227]227
См.: Там же. С. 41.
[Закрыть].
Гинзбург во многом идет по стопам Соловьева, но отвергает его возвышенный индивидуализм. Вместо слова «индивидуальность» она употребляет возвратное местоимение «себя», чтобы обозначить некий мир, где человек затворяется, чтобы подготовиться к деятельности или обрести вдохновение, а затем сбегает из этого мира в искусство и любовь. Любовь и семья – самый яркий контрольный пример для Гинзбург (и в этом она расходится с Соловьевым – мистиком, поборником платонической любви), поскольку любовь и семья вообще – состояния крайней эгоистичности, даже если «этот эгоизм знает, что есть вещи, настолько нужные для единичной жизни, что они уже переходят ее пределы». Хотя о творчестве (то есть о творческой работе) как об этическом акте Гинзбург размышляет чаще, чем о любви в этом плане, она отмечает, что любовь важна в более широком отношении: «Любовь и семья – истинно демократические ценности; для их реализации не нужно избранных, или нужны избранные совсем в другом смысле»[228]228
Гинзбург 2002. С. 569. Для Соловьева любовь, соединяющая две взаимодополняющие половинки – мужскую и женскую, потенциально способна породить идеальный и духовный союз со Вселенной (всеединство), вместо того чтобы побудить к половому размножению или созданию семьи.
[Закрыть].
До Гинзбург французский философ Жан-Мари Гюйо тоже уверял, что творческие порывы исходят изнутри, что художник, «побуждаемый некой внутренней силой, выносит наружу свое самое сокровенное „я“, делится с нами самым сокровенным»[229]229
Guyau J.-M. A Sketch of Morality Independent of Obligation or Sanction / Trans. from French Gertrude Kapteyn. 2nd ed. London: Watts & Co., 1898. С. 83.
[Закрыть]. К тому времени Гинзбург почти наверняка была знакома с его трактатом 1885 года «Нравственность без обязательства и без санкции», на который позднее ссылалась в книге «О психологической прозе»[230]230
На рубеже XIX–XX веков труды Гюйо выходили по-русски десятками изданий, в том числе было опубликовано его собрание сочинений. В 1923 году в Москве вышла отдельным изданием работа «Нравственность без обязательства и без санкции». В книге «О психологической прозе» Гинзбург особо упоминает тезис Гюйо, что нравственность возникает естественным образом из потребности человека в самовыражении и самореализации, а не под давлением общества. Гинзбург излагает идеи Гюйо в терминах, очень похожих на ее собственное писательское кредо: «Жизненная сила реализуется тогда только, когда человек „выходит из себя“ – любовью, творчеством, героизмом. В любви вне человека находящееся становится им самим, в акте творчества он сам становится вне себя находящимся» (Гинзбург 1977. С. 399).
[Закрыть]. Гюйо стремился выработать пострелигиозную этику, которая возникала бы из самой жизни, чтобы «выяснить, какой была бы нравственная философия без каких-либо абсолютных обязательств и без каких-либо абсолютных санкций»[231]231
Guyau J.-M. Р. 208.
[Закрыть]. Гинзбург практикует сходный подход, вопрошая: «Вне абсолютов, вне непререкаемых требований общего сознания – как возникает этический акт в обиходе обыкновенного человека?»[232]232
Гинзбург 2002. С. 254.
[Закрыть] Точно так же, как обнаружил Соловьев в случае любви, Гюйо утверждал, что творческие порывы – нечто имманентное и всеобщее: они возникают в эго, но, как отмечает Гюйо, жизненная сила и талант индивида стремятся выйти за рамки себя и требуют сотрудничества с другими людьми в целях самореализации:
Он уверяет, что непреодолимая тяга сообщать другим людям о том, «что мы существуем, чувствуем, страдаем, любим», – не эгоизм, а «антитеза эгоизма»[234]234
Ibid. Р. 84–85.
[Закрыть].
В своем эссе «О сатире и об анализе» Гинзбург определяет этический акт как «пожертвование низшим ради высшего», как преодоление или сублимацию «первичных вожделений» во имя высших ценностей – ценностей, признанных высшими социальной средой, к которой принадлежит человек[235]235
Гинзбург 2002. С. 251–252. Cp. определение этического акта как «отказа от низшего ради высшего» в «О психологической прозе» (Гинзбург 1977. С. 419).
[Закрыть]. Этот творческий акт, хотя и вдохновленный имманентными импульсами, все равно остается этическим актом, так как художник поднимается над базовыми эгоистическими потребностями, чтобы дать другим людям нечто ценное. Гюйо тоже полагал, что общественные ценности стоят на нравственной шкале выше прочих, и даже отмечал «примечательную характерную черту» «интеллектуальных удовольствий»: «Они одновременно самые сокровенные и самые общительные, самые индивидуальные и самые общественные»[236]236
Guyau J.-M. Р. 94–95.
[Закрыть]. Гюйо не делал особого акцента на самопожертвовании, с которым сопряжено художественное творчество (или «интеллектуальная плодовитость», как он это называет), но предполагал, что должно существовать что-то вроде закона сохранения энергии, обязывающего соблюдать баланс между интеллектуальной плодовитостью и «физическим порождением» (он пишет: «Организм не может прибегнуть к этому двойному расходованию сил так, чтобы при этом не пострадать»)[237]237
Гюйо полагает, что отсутствие у художника биологических потомков восполняется существованием книг и идей, циркулирующих в культурном сознании (Ibid. Р. 83).
[Закрыть].
Самопожертвование, которое воображает Гинзбург, – «не обязательно жертва „христианского типа“». Иными словами, человек не пытается сам стать мучеником ради спасения других, а скорее жертвует своим «свободным временем, покоем и нервами», чтобы заниматься творческой работой[238]238
ОР РНБ. Ф. 1377. Гинзбург Л. ЗК VII (1932), оборотная сторона с. 30. Хотя эта запись не датирована, она находится среди заметок за февраль 1932 года.
[Закрыть]. В конце эссе Гинзбург, ссылаясь на случай Осипа Мандельштама, намекает на огромные жертвы, которые требовались от советских творческих людей. Из-за своих произведений Мандельштам лишился положения в обществе, всех средств к существованию, свободы, а в конце концов и жизни. Процитировав его строки: «Я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести своей…», Гинзбург продолжает: «Сам лишился, а до людей [свою мысль/слово] донес»[239]239
Гинзбург 2002. С. 259.
[Закрыть]. В книге «О психологической прозе» (рассматривая другую тему – образ художника глазами романтиков) она пишет более обобщенно: «Творческие побуждения – пусть имманентные – распоряжаются человеком так, как не всегда им могут распорядиться суровейшие законы внешнего мира»[240]240
Гинзбург 1977. С. 425. Эндрю Кан исследует образ Мандельштама, созданный Гинзбург, в статье: Lydia Ginzburg’s «Lives of Poets»: Mandelstam in Profile // Lydia Ginzburg’s Alternative Literary Identities. Р. 163–191.
[Закрыть].
Искусство как перманентность, ценность и смысл
Но тот факт, что письмо основано на «имманентных» творческих импульсах, не разрешает вопроса о его смысле или ценности. Гинзбург находит три основных решения вопроса, призванные оправдать творчество, причем все эти решения сформулированы с позиции имманентного «я» и имеют особую связь с автобиографическим письмом. На взгляд Гинзбург, письмо может быть оправданно как победа над временем, как общественно значимый акт и как способ создания осмысленных структур. Позвольте мне рассмотреть все три решения поочередно.
Главное беспокойство, вызываемое кризисом индивидуализма, порождается сомнениями в том, что человек существует во времени непрерывно, в качестве цельного, отвечающего за свои действия объекта. В черновиках «Мысли, описавшей круг» 1930‐х годов[241]241
Гинзбург написала несколько черновых вариантов этого важного повествования. Я датирую рукописи по нескольким признакам: почерк и материалы письма, упоминаемые темы (например, смерть Марка Моисеевича Гинзбурга в 1934 году, смерть Кузмина в 1936 году в «Мысли…»), тот факт, что сама Гинзбург датировала «Мысль…» концом 1930‐х годов (в целях публикации), а также взаимосвязи этих повествований с текстами, которые в записных книжках датированы, – например, со «Стадиями любви» 1934 года. См. также то, что я пишу в главе 2 о «романе».
[Закрыть] Гинзбург обращается к проблеме забывания: оно делает недолговечными и радости, и печали, влечет за собой беспрерывное «умирание» человека, которое Гинзбург метафорически воображает в виде череды мертвецов, скопившихся в чьем-то прошлом[242]242
Гинзбург пишет: «Все те люди, которыми был человек, все эти мертвецы, входят в опустошенное сознание и гнетут» (ОР РНБ. Ф. 1377. Папка с черновиками «Мысли, описавшей круг». Первая из двух записных книжек. Страницы не пронумерованы. Под пунктами 5–7, соответствующими плану Гинзбург).
[Закрыть]. Эта недолговечность, пишет она, неизбежно ведет к «идее бессмысленности жизни, которой как бы и нет». Воспоминания в той мере, в какой человек их вообще хранит, не имеют никакого неотъемлемого смысла и обречены исчезнуть без следа, совсем как удовольствие или боль. Однако Гинзбург, как до нее Марсель Пруст, борется с этой проблемой, выдвигая предположение, что у человека есть и другая способность – «творческая память», которая может делать «продукты памяти» «ценными, прочными и вечно-переживаемыми».
Итак, в понимании Гинзбург искусство оправдано тем, что способно будить в имманентном человеке «творческую память», чтобы время могло переживаться и заново переживаться в своей целостности и осознанно:
После Гегеля никто, кажется, не определял искусство с такой силой, как Пруст. В последнем томе он объяснил, зачем нужно искусство, и тем самым – почему оно было и будет. Искусство – найденное время, борьба с небытием, с ужасом бесследности. Обретенная предметность, ибо всякий предмет – остановка времени. Творческий дух одержал величайшую свою победу – остановил реку, в которую нельзя вступить дважды[243]243
Гинзбург 2002. С. 224, запись начала 1960‐х годов. Та же мысль, выраженная похожими словами, появляется в черновиках «Мысли, описавшей круг» и «Заблуждения воли».
[Закрыть].
Согласно этой формулировке, искусство необходимо, так как оно помогает художнику преодолеть страх перед своей непрочной памятью, страх смерти (вне зависимости от общественной ценности искусства или его способности преображать читателя)[244]244
О формалистах – учителях Гинзбург пишут, что эти ученые обычно игнорировали вопрос читательской рецепции. См. рассмотрение этой темы в: Any C. Boris Eikhenbaum: Voices of a Russian Formalist. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994. Р. 69–70.
[Закрыть]. Но решение Пруста может сработать лишь в случае, если художник «всю жизнь» творит «одно только творение; чтобы прошлое никогда не переставало быть единым настоящим, переживаемым бесконечно»[245]245
ОР РНБ. Ф. 1377. Черновики «Мысли, описавшей круг». Схожие пассажи есть в: Гинзбург 2002. С. 141 («Заметки о прозе») и в окончательной версии «Мысли, описавшей круг» (С. 569–570).
[Закрыть]. Иначе художник может обнаружить, что чувствует отчуждение по отношению к тем собственным произведениям, которые предшествовали его новейшей работе.
Свои разрозненные, фрагментарные записи Гинзбург называет словом «разговор» – существительным в форме единственного числа (обычно «разговор о жизни»). Но ее представление о письме как об остановке времени подразумевает, видимо, не какое-то отдельное произведение, а сам акт написания чего-то (независимо от того, какое отношение этот акт написания имеет к автобиографическому «себе» – прямое, косвенное или полукосвенное)[246]246
См.: Гинзбург 2002. С. 400, пассаж, процитированный и рассмотренный мной во введении к этой книге.
[Закрыть]. Гинзбург (впервые эта мысль возникает уже в ее юношеских дневниках) пишет, что стремится жить как можно более осознанно, а также выражает опасения, что все, что не удалось выразить в слове, поблекнет и отомрет[247]247
Об идеале осознанной жизни см., например: Мысль, описавшая круг // Гинзбург 2002. С. 581. В подростковые годы она пишет в дневнике: «Смысл жизни в счастье, счастье в том чтобы все осознавалось как осмысленное…» (ОР РНБ. Ф. 1377. Дневник 1920 года. С. 14–15).
[Закрыть]. В возрасте двадцати семи лет Гинзбург утверждает: «Все, не выраженное в слове [вслух или про себя], не имеет для меня реальности, вернее, я не имею для него органов восприятия»[248]248
Гинзбург 2002. С. 74. Оригинал записи – ОР РНБ. Ф. 1377. ЗК V (1929–1931). С. 26. Конец августа или начало сентября 1929. Это высказывание – хотя, по-видимому, оно почему-то отменяет реальность музыки и невербализированных эмоций – указывает в сторону семиотики и постструктурализма.
[Закрыть]. А ниже дает писателю определение «человек, который, если не пишет, не может переживать жизнь»[249]249
Гинзбург 2002. С. 147. Ок. 1934.
[Закрыть]. Именно так она описывает себя в неопубликованной записи: «В итоге самонаблюдений давно установлено, что я способна не столько жить, сколько осознавать жизнь»[250]250
ОР РНБ. Ф. 1377. Гинзбург ЗК 1933–1935. С. 67. Этот пассаж она завершает словами, что вещи и эмоции замещаются у нее пустыми оболочками, если она об этих вещах и эмоциях не пишет. Он содержится в куске, опубликованная версия которого соответствует Гинзбург 2002. С. 147.
[Закрыть]. А в записи от 1935 года она говорит своему другу Григорию Гуковскому, что, оказавшись совершенно одна на необитаемом острове, писала бы на песке (Гуковский шутит, что то же самое она проделывает, когда пишет в стол)[251]251
Гинзбург 2002. С. 126. Другой взгляд на писательство как на неотъемлемую часть жизни Гинзбург см.: Sandomirskaia I. The Leviathan, or Language in Besiegement: Lydia Ginzburg’s Prolegomena to Critical Discourse Analysis // Lydia Ginzburg’s Alternative Literary Identities. Р. 193–234, в особенности р. 203–208.
[Закрыть].
Разумеется, это не означает, что Гинзбург никогда не посещало беспокойство: в нескольких местах она сообщает, что боится собственного равнодушия и «остановки желаний», в том числе «остановки» желания писать[252]252
Гинзбург Л. Возвращение домой // Гинзбург 2002. С. 528.
[Закрыть]. Однако желание возвращалось всегда, иногда с удвоенной силой, как во время Ленинградской блокады – самого плодотворного периода в творчестве Гинзбург. По-видимому, во многих случаях письмо становилось способом преодолеть чувство бессилия, вырабатывая осознанное отношение к общественному злу и к смерти. Пусть человек или «подопечный» не в силах контролировать то, как его станет использовать «Левиафан» (введенный Гоббсом термин, которым Гинзбург в блокадных записях обозначает государство), но он может решить, как станет к этому относиться[253]253
См., например: Гинзбург 2011. С. 431–432, особенно варианты в записях в записных книжках.
[Закрыть]. Борясь за выживание в условиях блокады, Гинзбург пишет: «Отношение – это броня»[254]254
Черновик «Теоретического раздела» // Гинзбург 2011. С. 295.
[Закрыть].
В черновиках «Мысли, описавшей круг» Гинзбург отмечает, что решение оправдывать жизненный опыт его творческим претворением в вещи, имеющие ценность только для художника, – «довольно декадентское»[255]255
ОР РНБ. Ф. 1377. Черновик «Мысли, описавшей круг».
[Закрыть]. Чтобы личная память обрела более глубокий смысл, она должна иметь «ценность» для других людей. Здесь мы переходим ко второму из основных оправданий искусства у Гинзбург, которое гласит, что искусство – акт общественно значимый. Она утверждает, что творческий порыв как таковой порождается интуитивной догадкой о том, что коллективное влияет на индивидуальное, желанием дать обществу что-то ценное. Эта мысль напоминает нам о Гюйо, но Гинзбург здесь ссылается на французского писателя Жюля Ромена и его доктрину унанимизма, согласно которой даже самые индивидуалистические идеи – на деле идеи общественные, а искусство – слияние с коллективным сознанием[256]256
Гинзбург упоминает имя Жюля Ромена в черновиках «Мысли, описавшей круг» (ОР РНБ. Ф. 1377).
[Закрыть]. Общественное происхождение всех ценностей дает искусству тот смысл, которым его никогда не могло бы наделить гедонистическое наслаждение. «Организовать поведение человека может только идеология, то есть система ценностей», – утверждает Гинзбург. Ценность, в отличие от наслаждения (оно мимолетно), сохраняется в памяти; более того, ценность – социальное явление, которое сохраняется, как вневременная и «как живая идеологическая реальность». Только ценность, утверждает Гинзбург, «разрешает вопрос о счастьи и о поведении человека» (и первое, и второе связаны с проблемой «оценки факторов жизни» – таких, как удовольствие и страдание). Но эта теория означает, что человек должен отбросить индивидуализм: «Ибо в единичном сознании можно обосновать гедонистический критерий наслаждения, но нельзя обосновать критерий ценности». От этого Гинзбург переходит к определению творческой деятельности и ее этическому оправданию: «Творческая память превращает в ценность нейтральные или отрицательные факты жизни. Творчество представляется наиболее субъективной, изнутри прорастающей ценностью. Но, собственно, это аберрация; для творчества необходимы предпосылки, хотя бы неосознанные, – социальной осмысленности этого акта»[257]257
ОР РНБ. Ф. 1377. Черновик «Мысли, описавшей круг» в записной книжке.
[Закрыть]. Ценности, как и произведения искусства, представляют собой «найденное время», но – и для Гинзбург это имеет ключевую важность – оно должно быть найдено неким неиндивидуалистическим способом.
Текст вбирает элементы пережитого и дарует им автономное социальное существование (особенно когда они становятся известны читательской аудитории). На самом базовом уровне человек в литературе превращается в другого человека с помощью языка, поскольку язык по своей природе социален[258]258
Гинзбург 2002. С. 730.
[Закрыть]. Далее Гинзбург постулирует, что художники способны изменять язык и вносить в коллективное сознание новые идеи. В конце 1930‐х она пишет: «Что такое самостийный человек? Пещерное существо. А духовная жизнь – это жизнь в слове, в языке, который нам дан социумом, с тем чтобы мы от себя вносили в него оттенки»[259]259
Там же. С. 132. Ср.: Там же. С. 730. Эта мысль также ярко выражена в записной книжке 1943 года (с записями за 1943–1946 гг.): «Творчество есть свободное, целенаправленное, индивидуальное воздействие человека на мир, „я“ на „не-я“; причем в итоге этого индивидуального воздействия в мире происходят целесообразные изменения, имеющие общие значения и принадлежащие общим связям». См.: Гинзбург 2011. С. 176.
[Закрыть]. Соглашаясь с теоретиками структурализма и постструктурализма в том, что касалось социальной сконструированности языка и общества, Гинзбург не разделяет их мнения, когда они возвещают о приближающейся «смерти автора»[260]260
Авторитетные высказывания, подхватывающие эту нить мысли, см.: Barthes R. The Death of the Author // Authorship: From Plato to the Postmodern / Ed. Sean Burke. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995. Р. 125–130; Foucault М. What Is an Author? // Ibid. P. 233–246. (Рус. изд.: Барт Р. Смерть автора // Барт Р. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994; Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.) Полемику Гинзбург с этой точкой зрения впервые рассмотрел Уильям Тодд: Between Marxism and Semiotics: Lidiia Ginzburg and Soviet Literary Sociology // Canadian-American Slavic Studies. 1985. 19, 2. Р. 178–186.
[Закрыть].
Третий из основных аргументов Гинзбург, связанный с первыми двумя, оправдывает искусство в силу того, что оно порождает осмысленные структуры. Гинзбург верит в понятие структуры: «Смысл – это и есть структурная связь, включенность явления в структуру высшего и более общего порядка. В произведении искусства, например, ни один элемент не равен себе, но вмещен в символическую связь расширяющихся представлений». Более того, искусство служит моделью для осмысленного упорядочивания переживаний. Для Гинзбург особенно важно слияние эстетического с этическим: «Структуры иерархического ряда жизнеосмысления, вмещаясь друг в друга, набирают высоту. Так что смысл и ценность образуют неразложимое переживание»[261]261
Гинзбург 2002. С. 568–569.
[Закрыть]. Ее логика движется по кругу: смысл приобретается, когда явление включено в структуру высшего порядка; следовательно, структуры наделены смыслом. В искусстве смысл возникает из взаимосвязей между элементами, имманентными для какого-то произведения. Вместе с тем «расширяющиеся представления», которые вмещают каждый элемент сообразно своим «символическим связям», тоже могут отсылать к смыслам, порожденным более широким литературным, историческим или общественным контекстом[262]262
Рассмотрение этой концепции продуцирования смыслов в имманентных стихах как «поэзии смыслов» в поэзии Веневитинова см.: Гинзбург Л. Опыт философской лирики // Гинзбург Л. Работы довоенного времени: Статьи. Рецензии. Монография / Сост. С. Савицкий. СПб.: Петрополис, 2007. С. 157. Первая публикация – в сборнике «Поэтика 5» (Л., 1929. С. 72–104).
[Закрыть].
Структура и смысл в жизни человека прирастают благодаря созданию биографии – либо написанной (в качестве художественного произведения), либо разыгрываемой в повседневной жизни (в качестве автоконцепции). Гинзбург пишет: «Понимание смерти возможно, когда жизнь осознается как факт истории и культуры. Как биография. А биография – структура законченная и потому по самой своей сути конечная». Как и ее современника Василия Гроссмана, Гинзбург привлекают положительные аспекты привнесения сюжета в жизнь: «Тогда жизнь не набор разорванных мгновений, но судьба человека, И каждое мгновение несет в себе бремя всего предыдущего и зачаток всего последующего»[263]263
Гинзбург 2002. С. 578.
[Закрыть]. И действительно, любой абзац биографии (как и любая строка стихотворения) не равен себе – он приобретает смысл через взаимосвязь с другими элементами, с целым, а также с «историей и культурой». Оправдать жизнь человека перед лицом смерти помогает восприятие даже пока не завершенной жизни как биографии.
Идея жизни как произведения искусства схожа с понятием «жизнетворчество» у русских символистов, трактуемым в ницшеанском духе – как абсолютная эстетизация повседневной жизни человека. Сама Гинзбург определяла жизнетворчество как «преднамеренное построение в жизни художественных образов и эстетически организованных сюжетов»[264]264
Гинзбург 1977. С. 27.
[Закрыть]. Но она (как и многие другие представители поколений, пришедших после символистов) скептически смотрела на эту особую разновидность «жизни как искусства»: «Беда в том, что жизнь в целом не поддается эстетизации»[265]265
Гинзбург 2002. С. 133.
[Закрыть]. Символисты сами понимали, отмечает она, что в конечном счете их жизнетворчество превратилось в «мистическое шутовство, буффонаду»[266]266
Там же. С. 261. Широко известно, что Владислав Ходасевич в эссе «Конец Ренаты» подверг практику «жизнетворчества» этическому анализу с позиций, которые учитывали опыт, приобретенный после Первой мировой войны и революции. Это эссе с авторской датировкой «Версаль, 1928» было опубликовано в Париже в 1939 году в сборнике мемуарных эссе «Некрополь». О понятии и практике жизнетворчества у символистов, а также о его критике, в том числе Ходасевичем, см.: Creating Life: The Aesthetic Utopia of Russian Modernism / I. Paperno and J. Grossman, eds. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994.
[Закрыть].
Пожалуй, на идеи Гинзбург можно взглянуть в ином контексте: заметно, что они очень близки к малоизвестной работе московского лингвиста и исследователя литературы Григория Винокура, который был лично знаком с некоторыми формалистами. В книге «Биография и культура» (1927), написанной под влиянием немецкой Lebensphilosophie («философии жизни». – Примеч. пер.), Винокур выдвигает далекоидущую концепцию биографии как структуры мышления или формы опыта, которая придает действиям людей исторический и общественный смысл. Храня верность лингвистическим основам своей теории, он сравнивает развитие личности с вербальной, а в особенности с синтаксической структурой, которая формируется постепенно, со временем. Он разграничивает синтаксис и хронологию: «Самая последовательность, в которой группирует биограф факты развития, а отсюда и все свои факты вообще, есть последовательность вовсе не хронологическая, а непременно синтаксическая»[267]267
Винокур Г. О. Биография и культура. Русское сценическое произношение. М.: Русские словари, 1997. С. 40. Ученым лишь предстоит исследовать эту часть научных трудов Винокура и их источников в области философии. Ирина Паперно (в устном разговоре) уверяет, что Гинзбург часто говорила о «Биографии и культуре», сетовала на то, что эта работа малоизвестна, и давала другим почитать экземпляр издания 1927 года, которое в то время было редкостью. Гинзбург цитирует эту книгу в «О психологической прозе» (см.: Гинзбург 1977. С. 22, сноска 2).
[Закрыть]. Гинзбург разделяет негативное отношение Винокура к хронологичности, называя ее «самым примитивным, что есть» в «идее структурности», поскольку хронологичность ведет к представлению, будто «единственно реальным для человека окажется последний день его жизни»[268]268
ОР РНБ. Ф. 1377. Гинзбург, черновик «Мысли, описавшей круг» в записной книжке.
[Закрыть]. На ее взгляд, чтобы прийти к «единству самосознания», аспекты жизни следует ранжировать по значимости (а не считать наиболее значимыми новейшие изменения).
Мысли Гинзбург (и Винокура) пересекаются с идеями одного из мыслителей, практиковавших философию жизни, – Вильгельма Дильтея – и с его герменевтикой искусства, когда она распространяется на понимание жизни (во многом вытекающее из его исследований психологии и литературы). Для целей нашего исследования особенно важна мысль Дильтея, согласно которой индивиды постепенно формируют «структурную связь» (нечто, имеющее отношение к самоосознанию индивидом его душевной жизни, ценностей, предназначения и творческих способностей) и в соответствии с ней действуют и развиваются. Исследователь, улавливающий «психическое единство» индивида, может не только постичь его прошлое, но и даже предсказать его развитие в будущем (то есть, выражаясь терминами Гинзбург, его судьбу). Дильтей рассматривает, как «структурная связь» развивается у индивида сообща со «своего рода структурой целого, с обществом». Для Дильтея «та жизнь была бы совершеннейшей, в которой всякий момент был бы исполнен чувства своей самодовлеющей ценности»[269]269
Я цитирую крайне лаконичное повторное изложение Дильтеем основных пунктов его теории в главе VIII «Описательной и аналитической психологии» (1894): см., например: Dilthey W. Descriptive Psychology and Historical Understanding / Trans. R. Zaner and K. Heiges. The Hague: Martinus Nijhoff, 1977. Р. 99. Рус. изд.: Дильтей В. Описательная психология. М.: Рипол-Классик, 2018.
[Закрыть].
В этом контексте можно понимать размышления Гинзбург об искусстве – его ценности, смысле и вкладе в этическое понимание жизни. Она пишет:
Вывести из тупика [субъективизма] может только руководящий принцип поведения. Представление о жизни человека, как о разрешении задачи, осуществлении назначения. Жизнь как становление, так что все пережитое имеет смысл опыта или этапа [процесса]. При становлении [то есть в процессе становления] последующее не снимает предыдущего; оно наращивается на предыдущее[270]270
ОР РНБ. Ф. 1377. Черновик «Мысли, описавшей круг» в записной книжке.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































