Текст книги "Время жить и время умирать"
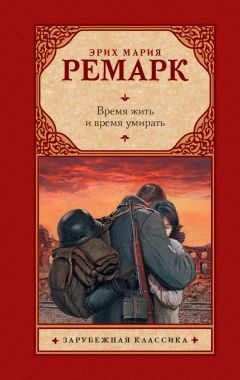
Автор книги: Эрих Мария Ремарк
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– У нас места нет, – быстро сказала госпожа Циглер и посмотрела на мужа. – Военная комендатура наверняка заботится об отпускниках, которые потеряли жилье.
– Бесспорно, – сказал Гребер.
– Он бы мог хотя бы ранец у нас оставить, пока что-нибудь найдет, – сказал Циглер. – Ранец-то тяжелый.
Гребер заметил взгляд женщины.
– Не беспокойтесь, – сказал он. – Я привык.
Он закрыл дверь и пошел вниз по лестнице. Воздух отдавал затхлостью. Циглеры чего-то боялись. Он не знал чего. Но после 1933-го можно много чего бояться.
Семью Лоозе разместили в большом зале клуба «Гармония». Он весь был заставлен походными койками и матрасами. На стенах висели несколько флагов, украшения со свастикой и броскими изречениями, а также портрет фюрера в широкой золоченой раме – остатки прежних патриотических торжеств. Зал кишмя кишел женщинами и детьми. Между койками стояли чемоданы, кастрюли, примусы, запасы съестного и кой-какая спасенная мебель.
Госпожа Лоозе апатично сидела на койке в середине зала. Бесцветная, расплывшаяся особа с неряшливой прической.
– Твои родители? – Она посмотрела на Гребера тусклыми глазами, надолго задумалась и наконец пробормотала: – Погибли они, Эрнст.
– Что?
– Погибли, – повторила она. – А как иначе?
Маленький мальчонка в форме с разбегу врезался в колено Гребера. Тот отодвинул его в сторону.
– Откуда вы знаете? – спросил он. Заметил, что голос пропал, и энергично сглотнул. – Вы их видели? Где?
Госпожа Лоозе устало покачала головой.
– Увидеть что-либо было невозможно, Эрнст, – пробормотала она. – Кругом огонь, крики, а потом…
Ее голос упал до шепота, да и шепот оборвался. Она молчала, только смотрела в пространство, подперев голову руками, совершенно отрешенная и неподвижная, словно была в этом зале одна-одинешенька. Гребер не сводил с нее глаз.
– Госпожа Лоозе, – проговорил он, медленно, с трудом. – Вспомните! Когда вы видели моих родителей? Откуда вам известно, что их нет в живых?
Женщина печально взглянула на него.
– Лены тоже нет в живых, – пробормотала она. – И Августа. Ты же знал их…
Гребер смутно вспомнил двух детей, которые постоянно жевали хлеб с медом.
– Госпожа Лоозе, – повторил он, с трудом сдерживаясь, так ему хотелось схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. – Пожалуйста, скажите мне, откуда вам известно, что моих родителей нет в живых! Постарайтесь вспомнить! Вы их видели?
Она словно уже не слышала его, только шептала:
– Лена… Ее я тоже не видела. Меня к ней не пустили, Эрнст. От нее мало что осталось. А она была такая маленькая. Почему они так делают? Ты должен знать, ты ведь солдат.
Гребер в отчаянии огляделся по сторонам. Какой-то мужчина протискивался к ним между койками. Лоозе. Он исхудал и состарился. Осторожно положил руку на плечо жены, которая сидела на койке, вновь погрузившись в свою скорбь, и сделал Греберу знак.
– Мать пока что не в силах это понять, Эрнст, – сказал он.
Женщина чуть покачивалась под его рукой. Медленно подняла глаза.
– А ты в силах?
– Лена…
– Ведь если ты можешь это понять, – вдруг произнесла она, четко и громко, как в школе, – значит, ты не лучше тех, кто это сделал.
Взгляд Лоозе быстро и испуганно скользнул по ближним койкам. Никто их не слышал. Среди чемоданов мальчонка в форме шумно играл с другими детьми в прятки.
– Не лучше, – повторила женщина. Потом опустила голову и вновь застыла воплощением безнадежной скорби.
Лоозе махнул Греберу рукой. Они отошли в сторонку.
– Что с моими родителями? – спросил Гребер. – Ваша жена говорит, они погибли.
Лоозе покачал головой.
– Она ничего не знает, Эрнст. Думает, все погибли, потому что погибли наши дети. Она не совсем… ты же видел… – Он сглотнул. Кадык на тонкой шее дернулся вверх-вниз. – Она много чего говорит… из-за этого на нас уже доносили… здешний народ…
В этом грязном, сером свете Лоозе на миг показался Греберу очень маленьким и далеким, но потом как бы вернулся и снова стал тем человеком, которого он знал, а все вокруг замерло.
– Значит, они не погибли? – спросил он.
– Этого я тебе сказать не могу, Эрнст. Ты не знаешь, каково здесь было весь последний год, когда дела обстояли хуже и хуже. Никто никому уже не доверял. Все боялись один другого. Вероятно, твои родители где-то в безопасности.
Гребер вздохнул спокойнее.
– Вы их видели? – спросил он.
– Один раз, на улице. Четыре-пять недель назад. Тогда еще лежал снег. До налетов.
– Как они выглядели? Были здоровы?
Лоозе ответил не сразу.
– Пожалуй. – Он сглотнул.
Гребер вдруг устыдился. Понял, что в этом окружении не спрашивают, был ли человек здоров четыре недели назад или нет, здесь спрашивают об уцелевших и погибших, а больше ни о чем.
– Простите, – смущенно сказал он.
Лоозе махнул рукой.
– Да ладно, Эрнст. Сейчас каждый думает только о себе. Слишком много бед на свете…
Гребер вышел на улицу. Она была мрачная, вымершая, когда он шел в клуб «Гармония», а теперь разом посветлела, и жизнь на ней пока что не замерла. Он уже не видел разрушенные дома, видел теперь и распускающиеся деревья, и двух играющих собак, и влажное синее небо. Родители не погибли, они только пропали. Час назад, когда он услышал эти слова от однорукого конторщика, они прозвучали безысходно и почти невыносимо, теперь же загадочным образом обернулись надеждой. Он понимал – все дело в том, что поначалу он на миг поверил, что родителей нет в живых, – но ведь надежде, чтобы ожить, нужно всего ничего, так?
9
Он остановился возле дома. Темно, номер не разглядишь.
– Что ищете? – спросил кто-то, стоявший у парадного.
– Это Мариенштрассе, двадцать два?
– Да. Кто вам нужен?
– Заслуженный врач Крузе.
– Крузе? А по какому делу?
Гребер посмотрел на человека в темноте. Сапоги, мундир штурмовика. Спесивый блокварт, подумал он, только этого мне и недоставало.
– Об этом я скажу доктору Крузе сам, – сказал он и вошел в дом.
Он очень устал. И усталость сидела глубоко, не просто в глазах и костях. Целый день поисков и расспросов, но узнал он мало. Родни у родителей в городе не было, а из соседей почти никого не осталось. Бёттхер прав – заколдованный круг. Люди молчали от страха перед гестапо или же только что-то слыхали и отсылали к другим, которые тоже ничего не знали.
Он поднялся по лестнице. В коридоре темно. Доктор жил на втором этаже. Гребер был с ним едва знаком, но он не раз лечил его мать. Может, она приходила к нему и оставила свой новый адрес.
Открыла немолодая женщина с невзрачным лицом.
– Крузе? – спросила она. – Вы к доктору Крузе?
– Да.
Женщина молча изучала его. Не посторонилась, чтобы пропустить в квартиру.
– Он дома? – нетерпеливо спросил Гребер.
Женщина не ответила. Казалось, прислушивалась к происходящему внизу. Потом спросила:
– Вы на прием?
– Нет. По личному делу.
– По личному?
– Да, по личному. Вы госпожа Крузе?
– Боже упаси!
Гребер посмотрел на нее. За этот день он всякое узнал про осторожность, ненависть и уклончивость, но тут было что-то новое.
– Послушайте, – сказал он. – Я не знаю, что здесь творится, да мне это и безразлично. Я хочу поговорить с доктором Крузе, и всё, понятно?
– Крузе здесь больше не живет, – вдруг объявила женщина, громко, резко и враждебно.
– Но здесь его фамилия. – Гребер показал на латунную табличку возле двери.
– Ее давно пора снять.
– Но она не снята. Кто-нибудь из семьи здесь живет?
Женщина молчала. Греберу надоело. Он уже хотел послать ее к черту, когда услышал, как в глубине квартиры открылась дверь. Косой луч света упал из комнаты в темную переднюю.
– Кто-то ко мне? – спросил голос.
– Да, – наудачу сказал Гребер. – Я хотел поговорить с кем-нибудь, кто знает доктора Крузе. Но, похоже, это нелегкое дело.
– Я – Элизабет Крузе.
Гребер посмотрел на женщину с невзрачным лицом. Она отошла от двери в глубь квартиры и напоследок буркнула в сторону открытой комнаты:
– Слишком много света! Палить столько света запрещено!
Гребер не двигался. Девушка лет двадцати шла по полоске света, как по реке. На миг он увидел высокие дуги бровей, темные глаза и волосы цвета красного дерева, беспокойной волной стекавшие на плечи, – потом она погрузилась в сумрак коридора и стала перед ним.
– Отец больше не практикует.
– Я не по поводу лечения. Спросить хотел кое о чем.
Лицо девушки изменилось.
Она оглянулась, словно хотела посмотреть, там ли еще та особа. Потом быстро распахнула дверь и шепотом сказала:
– Заходите.
Гребер прошел за нею в комнату, где горел свет. Она повернулась, испытующе, пристально посмотрела на него. Теперь ее глаза были уже не темными, а серыми и очень прозрачными.
– Я же знаю вас, – сказала она. – Вы ведь раньше учились в гимназии?
– Да. Меня зовут Эрнст Гребер.
Теперь и он вспомнил ее. Худенькая девочка с огромными глазами и массой пышных волос. Она рано потеряла мать, и ее отослали к родственникам в другой город.
– Господи, Элизабет, – сказал он. – Я тебя не узнал.
– Последний раз мы виделись лет семь-восемь назад. Ты очень изменился.
– Ты тоже.
Они стояли друг против друга.
– Что здесь, собственно, происходит? – спросил Гребер. – Тебя охраняют как генерала.
Элизабет Крузе рассмеялась, коротко и горько.
– Не как генерала. А как пленницу.
– Что? Почему? Твой отец…
Девушка быстро шевельнула рукой.
– Погоди! – прошептала она и мимо него прошла к столу, на котором стоял патефон. Покрутила ручку. Послышался «Хоэнфридбергский марш». – Вот так. Теперь можешь продолжать.
Гребер недоуменно посмотрел на нее. Похоже, Бёттхер прав, почти весь город сошел с ума.
– Что это значит? – спросил он. – Выключи эту штуку! Я по горло сыт маршами. Скажи лучше, что здесь происходит! Почему ты пленница?
Элизабет опять подошла к нему.
– Эта женщина, она подслушивает. Доносчица. Потому я и завела патефон. – Она стояла перед ним, внезапно учащенно дыша. – Что с моим отцом? Что ты о нем знаешь?
– Я? Ничего. Хотел только спросить его кое о чем. Что с ним случилось?
– Ты ничего о нем не знаешь?
– Нет. Я хотел спросить, не знает ли он адрес моей матери. Мои родители пропали.
– Это все?
Гребер не сводил глаз с Элизабет.
– Для меня достаточно, – помолчав, сказал он.
Напряжение в ее лице отпустило.
– В самом деле, – сказала она. – Я думала, ты принес весточку от него.
– Что случилось с твоим отцом?
– Он в концлагере. Уже четыре месяца. На него донесли. Когда ты сказал, что пришел кое-что узнать, я подумала, ты принес весточку от него.
– Я бы сразу тебе сказал.
Элизабет покачала головой:
– Нет, если бы весточку вынесли тайком. Ты бы наверняка соблюдал осторожность.
Осторожность, подумал Гребер. Целый день только и слышу одно это слово. Марш по-прежнему невыносимо гремел и дребезжал.
– Теперь-то можно выключить? – спросил он.
– Можно. А тебе лучше всего уйти. Я ведь сказала, что́ здесь случилось.
– Я не доносчик, – сердито сказал Гребер. – А что это за тетка? Она донесла на твоего отца?
Элизабет подняла патефонный звукосниматель. Но не выключила аппарат. Пластинка беззвучно крутилась. Тишину прорезал вопль сирены.
– Воздушная тревога, – прошептала девушка. – Снова!
Кто-то застучал в двери.
– Выключите свет! Все из-за этого! Вечно слишком много света!
Гребер распахнул дверь:
– Что из-за этого?
Тетка была уже в другом конце передней. Что-то выкрикнула и исчезла. Элизабет разжала руку Гребера и закрыла дверь.
– Что это за несносная чертовка? – спросил он. – Как она здесь оказалась?
– Жиличка по уплотнению. Ее тут поселили. Хорошо хоть, мне разрешили оставить себе одну комнату. И на том спасибо.
В передней вновь послышался шум, женские крики и плач ребенка. Вой сирен стал громче. Элизабет надела плащ.
– Надо идти в бомбоубежище.
– У нас еще много времени. Почему ты не съедешь отсюда? Жить с этой шпионкой наверняка сущий ад.
– Гасите свет! – снова крикнула женщина, уже с улицы. Элизабет обернулась, выключила свет. Потом в темноте скользнула к окну.
– Почему я не съеду? Потому что не хочу бежать!
Она открыла окно. Сию же секунду в комнату хлынул вой сирен, наполнил ее до краев. Девушка черным силуэтом стояла на фоне рассеянного света с улицы, закрепила крючками оконные створки – так больше шансов, что стекла не расколются от ударной волны разрывов. Потом вернулась к столу. Казалось, шум, словно бешеный поток, гнал ее перед собой.
– Я не хочу бежать, – крикнула она, перекрывая вой. – Неужели не понимаешь?
Гребер видел ее глаза. Они опять потемнели, как раньше у двери, и горели страстной силой. У него было такое чувство, будто он должен от чего-то обороняться, от этих глаз, от лица, от воя сирен и от хаоса, бушующего снаружи.
– Нет, – сказал он, – не понимаю. Ты только убиваешь себя. Если позицию нельзя удержать, ее оставляют. Солдаты быстро усваивают этот урок.
Неотрывно глядя на него, она запальчиво воскликнула:
– Вот и оставь ее! Оставь! И отцепись от меня!
Мимо него она попыталась добраться до двери. Он схватил ее за плечо. Она вырвалась. Оказалась сильнее, чем он ожидал.
– Подожди! – крикнул он. – Я пойду с тобой.
Вой гнал их перед собой. Он был повсюду – в комнате, в коридоре, в передней, на лестнице, отбивался от стен, гудел эхом, шел как бы со всех сторон, нигде от него не спастись, он не замирал в ушах и на коже, проникал внутрь, бурлил в крови, наполнял нервы и кости дрожью, гасил мысли.
– Где эта окаянная сирена? – крикнул Гребер на лестнице. – Она сводит с ума!
Входная дверь захлопнулась. На миг вой стал глуше.
– На соседней улице, – ответила Элизабет. – Нам надо в подвал на Карлсплац. Здешний, в доме, никуда не годится.
Тени бежали вниз по лестнице, с чемоданами и узлами. Вспыхнул карманный фонарик, осветил лицо Элизабет.
– Идемте с нами, если вы одна! – крикнул кто-то.
– Я не одна.
Мужчина поспешил дальше. Входная дверь опять распахнулась настежь. Повсюду из домов выбегали люди, словно оловянные солдатики, вытряхнутые из коробок. Дружинники гражданской обороны выкрикивали команды. Как амазонка, мимо промчалась женщина в красном шелковом халате, с развевающимися желтыми волосами. Несколько стариков плелись, держась за стены и разговаривая, но в раскатистом шуме расслышать их было невозможно, – увядшие рты словно разжевывали в кашу мертвые слова.
Наконец-то Карлсплац. У входа в бомбоубежище теснилась взбудораженная толпа. Дружинники, точно овчарки, метались вокруг, пытаясь навести порядок. Элизабет остановилась.
– Можно попробовать протиснуться сбоку, – сказал Гребер.
Она покачала головой:
– Давай подождем здесь.
Темная толпа сползала в потемках вниз по лестнице, исчезала под землей. Гребер взглянул на Элизабет. Надо же, она стояла совершенно спокойно, будто все это ее не касалось.
– А ты смелая, – сказал он.
Она подняла голову.
– Нет… просто боюсь подвала.
– Живо! Живо! – кричал один из дружинников. – Вниз! А вы что, ждете особого приглашения?
Подвал был большой, низкий, построенный на совесть, с подпорками, боковыми проходами и освещением. Кругом расставлены лавки, есть распорядители, некоторые прихватили с собой матрасы, одеяла, чемоданы, пакеты и раскладные стулья; жизнь под землей была уже вполне организована. Гребер огляделся. Впервые он вместе с гражданскими очутился в бомбоубежище. Впервые с женщинами и детьми. И впервые в Германии.
Блеклый голубоватый свет обесцвечивал лица, делал всех похожими на утопленников. Неподалеку Гребер заметил женщину в красном халате. Теперь халат стал фиолетовым, а волосы приобрели зеленоватый оттенок. Он посмотрел на Элизабет. Ее лицо тоже выглядело серым и осунувшимся, глаза тонули в тенях глазниц, волосы утратили блеск, казались мертвыми. Утопленники, подумал он. Утонувшие во лжи и страхе, загнанные под землю, в контрах со светом, с ясностью, с правдой.
Напротив него сидела женщина с двумя детьми. Дети жались к ее коленям. Лица у обоих плоские и невыразительные, как бы застывшие. Только глаза жили. Поблескивали в отсветах ламп, большие, широко открытые; когда вой и бешеный грохот зениток нарастали, усиливались, они смотрели на вход, потом скользили взглядом по низкому потолку, по стенам и снова к двери. Двигались небыстро, рывками, следовали за шумом, как глаза парализованных зверей, с трудом и все-таки свободно, проворно и вместе с тем в глубоком трансе, следовали и кружили, и в них отражался тусклый свет. Они не видели ни Гребера, ни даже матери; лишенные способности к узнаванию и выразительности, оба с безликой настороженностью следили за чем-то, чего не могли видеть: за грохотом, который мог оказаться смертью. Они были уже не настолько маленькие, чтобы не чуять опасность, и еще не настолько большие, чтобы разыгрывать бессмысленную храбрость. Сторожкие, беззащитные, отданные на произвол судьбы.
Гребер вдруг сообразил, что такими были не только дети, взгляды всех остальных проделывали тот же путь. Лица и тела замерли без движения, люди вслушивались, причем не только ушами, но и наклоненными вперед плечами, ляжками, коленями, локтями и ладонями. Вслушивались в оцепенении, только глаза следовали за шумом, будто повинуясь беззвучному приказу.
Потом он учуял страх.
В тягостной атмосфере что-то неуловимо переменилось. Грохот снаружи не утихал, но откуда-то как бы повеяло свежим ветерком. Оцепенение отпустило. Подвал наполняли уже не скорченные тела, а снова люди, причем не покорные и не тупые; они шевелились, двигались, смотрели друг на друга. У них снова были лица, а не маски.
– Дальше полетели, – сказал старик рядом с Элизабет.
– Могут и вернуться, – возразил кто-то. – Так тоже бывает. Сделают крюк и вернутся, когда все выйдут из убежищ.
Давешние дети тоже зашевелились. Какой-то мужчина зевнул. Невесть откуда выбежала такса, принялась обнюхивать все вокруг. Заплакал младенец. Люди развернули свои пакеты, начали закусывать.
– Арнольд! – громко вскрикнула женщина, похожая на валькирию. – Мы забыли выключить газ! Наверняка вся еда сгорела. Почему ты об этом не подумал?
– Успокойтесь, – сказал старик. – При воздушной тревоге город всюду отключает газ.
– Успокоишься тут, как же! Потом сызнова включат – и вся квартира полна газу! Это ведь еще хуже.
– Во время тревоги газ не отключают, – объявил педантичный, назидательный голос. – Только во время налета.
Элизабет достала из сумочки расческу и зеркальце, причесалась. В мертвенном свете расческа казалась черной, как высохшие чернила, а волосы под ней вздымались волной и словно бы потрескивали.
– Скорее бы выйти отсюда! – прошептала она. – Здесь можно задохнуться!
Еще полчаса ожидания – и двери наконец открылись. Они пошли к выходу. Над дверями помещались маленькие замаскированные лампочки. Снаружи ступени лестницы заливал лунный свет. С каждым шагом Элизабет менялась. Словно пробуждалась от летаргии. Тени в глазницах исчезли, свинцовая серость растаяла, медные искры заиграли в волосах, кожа вновь стала теплой, засветилась, жизнь вернулась – кипучая, полнокровная, сильнее прежнего, вновь обретенная, не утраченная, драгоценнее и ярче на то краткое время, когда ощущалась именно так.
Они стояли возле бомбоубежища. Элизабет глубоко дышала. Двигала плечами и головой, как животное, выпущенное из клетки.
– Эти массовые могилы под землей! – сказала она. – Как я их ненавижу! Там просто задыхаешься! – Она резко отбросила волосы назад. – Развалины по сравнению с ними – утешение. Над ними, по крайней мере, небо.
Гребер посмотрел на нее. От нее веяло чем-то необузданным, порывистым, когда она стояла вот так у огромной, голой бетонной громады, лестницы которой словно бы вели в ад, но ей только что удалось спастись оттуда.
– Пойдешь домой? – спросил он.
– Да. Куда же еще? Бродить по темным улицам? Хватит, набродилась.
Они пересекли Карлсплац. Ветер обнюхивал их, как огромная собака.
– Ты не можешь уехать? – спросил Гребер. – Несмотря на все, что говоришь?
– Куда? У тебя есть на примете комната?
– Нет.
– Вот и у меня тоже. Тысячи людей остались без крова. Как я уеду?
– Верно. Теперь уже поздно.
Элизабет остановилась.
– Я бы не уехала, даже если б могла. Ведь тогда я бы вроде как бросила отца в беде. Разве тебе непонятно?
– Понятно.
Они пошли дальше. Греберу она вдруг надоела. Пусть делает что хочет. Он устал, изнервничался, и внезапно ему показалось, что сейчас, в этот самый миг, родители ищут его на Хакенштрассе.
– Мне пора, – сказал он. – Встреча у меня, уже опаздываю. Доброй ночи, Элизабет.
– Доброй ночи, Эрнст.
Секунду он смотрел ей вслед. А она быстро исчезла в ночи. Надо было проводить ее до дома, подумал он. Правда, без угрызений совести. Вспомнил, что и в детстве терпеть ее не мог. Торопливо отвернулся и зашагал на Хакенштрассе. Но ничего там не нашел. Безлюдье. Только луна да странная, парализующая тишина свежих развалин, словно висящее в воздухе эхо безмолвного крика. В давних развалинах тишина совсем другая.
Бёттхер уже ждал на ступеньках ратуши. Над ним поблескивала в лунном свете бледная морда водостока.
– Что-нибудь выяснил? – еще издалека спросил он.
– Нет. А ты?
– Тоже ничего. В больницах их нет, фактически наверняка. Я почти все обошел. Ох, братишка, чего только там не увидишь! Женщин и детей все ж таки с солдатами не сравнить! Идем, тяпнем где-нибудь пивка.
Они пересекли Гитлерплац. Топот сапог гулко отбивался от стен.
– Опять днем меньше, – сказал Бёттхер. – Ну, что делать-то? Отпуск скоро кончится.
Он открыл дверь пивной. Сели они за столик у окна. Шторы были тщательно задернуты. Никелированные краны стойки поблескивали в сумраке. Судя по всему, Бёттхер здесь не впервые. Хозяйка, не задавая вопросов, принесла два стакана пива, а он проводил ее взглядом. Пышнотелая, так бедрами и покачивает.
– Сижу тут один, – сказал он. – А где-то в другом месте сидит моя жена. Тоже одна. По крайней мере, надеюсь! С ума ведь сойти можно, верно?
– Не знаю. Я бы уже рад был, если б знал, что родители где-то сидят. Все равно где.
– Н-да. Родители – это не то что жена. Без них можно обойтись. Здоровы – и хорошо, порядок. Но жена…
Они заказали еще по стакану пива, распаковали свой ужин. Хозяйка сновала возле столика. Смотрела на колбасу и на жир:
– Хорошо живете, ребята!
– Да, живем, – отозвался Бёттхер. – У нас есть полный отпускной пакет с мясом и сахаром! Не знаем, куда его деть. – Он отхлебнул пива и с горечью сказал Греберу: – Тебе-то легко. Сейчас вот заправишься, а потом выйдешь отсюда, снимешь шлюху и забудешь о своей беде!
– Ты тоже так можешь.
Бёттхер покачал головой. Гребер с удивлением взглянул на него. Столько верности он от старого солдата не ожидал.
– Слишком они тощие, приятель, – объяснил Бёттхер. – Весь ужас в том, что меня как магнитом тянет лишь к очень дебелым женщинам. На других мне прямо-таки смотреть тошно. Тошно – и все тут. С тем же успехом можно лечь в постель с вешалкой. Только очень дебелые женщины! Остальные не для меня.
– Так ведь вот одна такая. – Гребер кивнул на хозяйку.
– Ошибаешься! – Бёттхер оживился. – Тут есть еще большущая загвоздка, приятель. То, что ты видишь, этакий студень, мягкий жир, в котором можно потонуть. Дебелая особа, пышная, хороша, согласен – но сущая перина, а не двуспальный пружинный матрас, как моя жена. У ней-то все ровно из стали. Дом дрожал, словно кузница, когда она бралась за дело, штукатурка со стен сыпалась. Нет, приятель, такую на улице в два счета не найдешь.
Он задумался. Гребер вдруг почуял запах фиалок. Огляделся. Цветы стояли в горшке на окне и пахли бесконечно сладко, в этом аромате было сразу все – безопасность, родина, надежда и забытые мечты юности… налетело с огромной силой, шквалом, и тотчас пропало, но оставило его в таком смятении и усталости, будто ему пришлось с полной выкладкой бежать по глубокому снегу.
Он встал.
– Куда собираешься? – спросил Бёттхер.
– Не знаю. Куда-нибудь.
– В комендатуру ходил?
– Да. Получил направление в казарму.
– Хорошо. Не забудь, тебе надо в комнату сорок восемь.
– Ага.
Взгляд Бёттхера лениво следил за хозяйкой.
– Я пока тут побуду. Тяпну еще пивка.
Гребер медленно шел по улице в сторону казармы. Ночью захолодало. На одном перекрестке торчали из воронки блестящие трамвайные рельсы. Лунный свет в дверных проемах – словно металл. Каждый шаг отдавался гулким эхом, будто по мостовой шел кто-то еще. Кругом пусто, ясно, холодно.
Казарма располагалась на холме, на окраине города. Целехонькая. Учебный плац залит белым светом, словно засыпан снегом. Гребер прошел в ворота. С ощущением, что отпуск уже закончился. Прошлое лежало в развалинах, как родительский дом, и он снова уходил на фронт – в этот раз на другой, без орудий и винтовок, но не менее опасный.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































