Текст книги "Чувства и вещи"
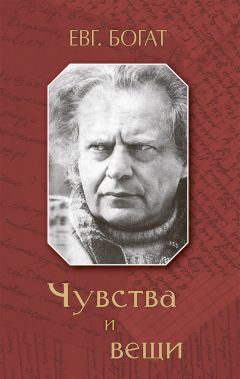
Автор книги: Евгений Богат
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Острая ситуация
В почте, которую я получаю, содержится немало живых человеческих историй. Они сюжетно разнообразны, но роднит их одна любопытная черта: изобретательность, с которой критикуемые находят у критикующих уязвимые места для нанесения ударов – иногда ниже пояса.
Вот достаточно распространенные ситуации. Заимствую их из трех разных писем.
«И тогда мне заявили, что поскольку я женат уже третий раз, то не мне рассуждать на моральные темы. Извините, ответил я, вам же была известна моя семейная биография, когда меня оформляли на кафедру…»
«“А ты, который с судимостью, молчи! – рассердился на меня прораб. – Честности захотел, ворюга!” А при чем здесь моя судимость, когда на нарядах жульничают?..»
«А в вашей жизни, если хорошо порыться, ничего нельзя найти? – ядовито парировал заместитель начальника мое замечание. – Будете рыться в наших делах, и в ваших пороемся».
А вот – из четвертого письма – целая новелла:
«…Идет по улице наше колхозное и районное начальство. Урожай добрый, настроение хорошее, шутят, были в поле, на животноводческой ферме, устали, можно и пообедать, и отдохнуть. И тут вырастает перед ними наш колхозный умелец, мастер на все руки, и жнец, и швец, и на дуде игрец Пантелей Иванович и говорит, запинаясь от обилия больших людей: “А коровник-то у Черного омута построили, а развалится”. – “У Черного?” – нахмурился самый большой районный руководитель. “Да вы не слушайте его, Сергей Иванович! – вознегодовал кто-то из наших. – Он на Пасху пьяный вон там валялся”. Тут умелец наш вовсе потерялся, онемел, потому что действительно лежал пьяный на том самом месте именно на Пасху. Сергей Иванович посмотрел на него с осуждением: “Эх, ты!” – покачал головой и пошел с остальными дальше. А коровник-то по новой весне, когда снега стами, развалился…
Вот я и думаю, хоть пьяных ненавижу люто: а не лучше ли было забыть в ту минуту, что он на улице в непотребном виде валялся, игнорировать этот факт, когда он совершенно трезво речь вел о деле? Да что там – и игнорировали бы, наверное, если бы он говорил об успехах, о том, что коровник будет стоять века. А тут – ударили человека ниже пояса. А коровник развалился…»
Чтобы быть понятым не превратно, уточню с самого начала, что и я лично ничего хорошего не вижу в том, чтобы на Пасху валяться на улице. Для меня совершенно бесспорно, что судимость человека не украшает. И я готов допустить, что быть женатым третий раз не самый оптимальный вариант семейной биографии. Но почему об этом надо напоминать людям тотчас же после того, как они говорят дело – о дурно построенном коровнике или о жульнически оформленных нарядах?! Поскольку без единого порока совершенно идеальная личность имела место лишь в романах отдельных писателей, в определенный период развития нашей литературы, то мало кто из живых, подлинных сегодняшних людей может быть в подобных коллизиях гарантирован от удара в «уязвимые места». Ибо если «хорошенько порыться», то что-то «отыскать можно»! Или же (бывают, черт побери, и трудные случаи!) – создать убедительную видимость подобной находки.
Вот история о загадочно убитой козе.
Жизнь ее оборвалась у дома одного сельского учителя.
Хозяйка козы решила, что он убил, и даже подала в соответствующие инстанции соответствующее заявление, но дело не возбудили за абсолютным отсутствием доказательств. Было это двадцать лет назад. И что вы думаете – порылись-порылись хорошенько и нашли дело о козе. Зачем надо было искать? Учитель уличил директора школы в финансовых махинациях.
«А ты козу убил!»
И начал доказывать тот, что не убивал, что «дела» не было, что и сама хозяйка поняла абсурдность обвинения и, если бы была жива, подтвердила бы. Но, как известно, стоит поставить человека в ситуацию, когда он вынужден доказывать, что не виновен, как в его невиновности перестают сомневаться даже самые непредвзятые люди. И тот, кто первый это открыл, был великим сердцеведом.
Пока учитель доказывал, что он двадцать лет назад козу не убивал, его «оппоненты», решив «порыться» дальше, углубились и нашли… на этот раз танк, фашистский танк, который учитель подбил, будучи солдатом, кинувшись под гусеницы, после чего долго лежал в госпитале и был награжден потом боевым орденом. Нашли – некстати! – и «забыли», рассказав подробно не о танке, а о ней, убиенной невинно козе, корреспонденту газеты, когда он выехал по письму выживаемого из школы учителя.
Ну, а если в подобной коллизии и козы не удается отыскать? Передо мной три письма – от агронома, врача и дирижера детского оркестра. Последний был освобожден от работы за, мягко выражаясь, отсутствие таланта. Первые два, агроном и врач, уволены по более тонким и гибким мотивировкам, окончательная суть которых, однако, в том же – в неспособности работать, а точнее, руководить, дирижировать собственными оркестрами.
Поскольку это выявилось после того, как они основательно покритиковали непосредственное руководство, я решил познакомиться с тремя историями. Но по мере углубления в них начал понимать, что люди, которые решали судьбы врача, агронома и дирижера, компетентнее меня в соответствующих областях. И только одно было абсолютно бесспорным: полностью лишенная каких-либо неприятностей жизнь трех до того, как они стали говорить и писать об имеющихся беспорядках, и их весьма беспокойное и неблагополучное существование после этого. Невольно напрашивался вывод: они утратили «талант дирижирования» именно тогда, когда поднялись на трибуну в качестве острых ораторов.
Но можно было бы посмотреть на дело и иначе: они никогда не обладали этим талантом, но если бы не речи и не письма, безмятежно достояли бы у дирижерского пульта до пенсии. Однако эта постановка вопроса не понравилась вершителям их судеб. «Нет!» Работали раньше творчески… «Тогда пострадали…» «Нет!» В философии подобная коллизия именуется кантовской антиномией.
В царстве умозрения антиномии неразрешимы. В живой, реальной действительности они решаются диалектически, с пониманием того, насколько сложен и непредсказуем человек. «Что поделаешь, и большие художники выдыхались», – объяснили мне судьбу дирижера детского оркестра. О том же, по существу, говорили и бывшие руководители агронома и врача. Существует ряд содержательных формул: «Выдохся», «Перестал расти» и – совершенно новая – «Не понимает духа НТР». Остается непонятным: выдохся ли человек из-за того, что растратил творческий пыл на критические речи и письма, или сами письма и речи компенсировали ему утрату «дирижерского дара»?
Ну а если нарушающий ведомственный покой человек занимает пост сугубо административный и возвышенно-творческие мотивировки освобождения-увольнения могут показаться неубедительными? И жена у него первая и единственная за тридцать лет семейной жизни. И ни одной судимости. И на Пасху не пьет. Казалось бы, положение у тех, кто хочет от него избавиться, безвыходное. Нет. Как мы уже заметили, человек – это человек. Не Бог с его немыслимым совершенством. И штатное расписание – это штатное расписание.
В одном солидном ведомстве работал в ответственной должности инженер С. В вышестоящие инстанции он написал о неблаговидных действиях отдельных руководящих товарищей. Не успели тех наказать, как интересы дела потребовали реорганизации и сокращения штатов в отделе, где работал С. Сократили штаты ровно на одну (!) инженерно-техническую руководящую должность, которую – бывают же удивительные совпадения – и занимал С. Осуществлено это было на высоком юридическом уровне, безупречно по форме. И, может быть, именно поэтому после ознакомления с документами захотелось не формальной, а чисто человеческой беседы с вершителями судьбы инженера С.: формально они были совершенно неуязвимы.
Надо отдать им должное: они охотно и искренне, без лукавства, пошли нам навстречу.
– Разве вы не заметили, что он заикается?
– Инженер С.?
– И это затрудняет его контакты с людьми…
– А раньше не заикался?
– Раньше нервы у людей были лучше.
Инженер С. ушел на пенсию.
«Критикобоязнь – явление сложное, достойное исследования социальных психологов», – написал мне один из читателей. Это бесспорно. Но пока социальные психологи в него углубятся, стоит разобраться самим в отдельных существенных чертах интересующего нас явления.
После Шукшина
Запомнилось из тяжкого лежания в больнице.
Стояли мы вечером на лестнице, тайно курили. Больница – мир особый, но в нем, как и в мире неособом, за стенами и окнами палат, живут, страдают и надеются самые разные люди. Их объединяет боль, тревога и страх и отъединяет та же особенность судеб и характеров, что и в обычной жизни.
Был между нами дебелый, одутловатый дядя неопределенного возраста, который называл себя торжественно: «персональный пенсионер республиканского масштаба». Логическое ударение в этой неканонической формуле он делал на «масштабе», тем самым утверждая собственную социальную исключительность. Была у него и вторая странность: о чем бы он ни толковал, хотя бы и излагал расхожую общежитейскую мудрость, добавлял строго и с тайным смыслом: «Как говорил Заратустра». Например, «Утро вечера мудренее, как говорил Заратустра», или «Домашний творог лавочному не ровня, как говорил Заратустра». И это поднимало банальные истины на головокружительные философские высоты.
Курил с нами и скромный библиотекарь из маленького города за Волгой, помнивший наизусть почти все стихи и поэмы Есенина. Когда он вечерами, при погашенной лампе, читал в больничной тишине, сердце замирало от печали и надежды. А днем он любил, чаще некстати, чем кстати, щегольнуть есенинской цитатой.
Был с нами и шофер такси, самый тихий, и самый послушный, и самый медлительный, несмотря на архидинамичную жизнь, которую оборвала болезнь. И был человек один с лицом настолько доверчиво-открытым, что при взгляде на него улыбнешься, как улыбнешься, когда перед тобой милый ребенок.
Докуривали уже, когда он тихо, как бы с собой говоря, заметил:
– Вот жизнь, не успеешь выкурить сигарету – день погас. – И обратился ко всем нам с вечным вопросом: – А душа с телом умирает?
Мы молчали, понимая, что ответить должен «пенсионер республиканского масштаба». По установившейся традиции на отвлеченные вопросы он отвечал первым – традицию эту узаконил самолично, сообщив однажды, что всю сознательную жизнь посещал те или иные лектории. И – третья странность его, – говорил он не «лектор», рассказывая о том, что услышал в тех залах мудрости, а «лекарь». Может быть, давно ощущал, что на склоне лет будет дело иметь именно с лекарями.
– Умирает ли душа с телом? – переспросил он. – Лекарь, помню, говорил «да».
– Что толковать о душе, – вернул нас на землю шофер такси. – Ты, – попросил он человека с милым, по-детски доверчивым лицом, – расскажи нам лучше, как ночевал на вокзале. Вот товарищ, – он головой показал на меня, – послушает первый раз.
– Ну получил я письмо – извещение из больницы, – начал рассказчик, – что, мол, очередь твоя подошла, можешь ехать, должон быть в Москве второго декабря. Я исхитрился быть именно второго, рассчитал все пересадки и часа в три с вещами вошел в регистратуру: вот, мол, по вашему вызову-разрешению, назвал имя, фамилию, отчество. Женщина попалась немолодая, суровая, но обстоятельная, посмотрела документы и говорит: «Все хорошо у вас, но ложим мы в палаты с десяти до двенадцати, а сейчас, уважаемый гражданин, начало четвертого». Я говорю: «Что же мне делать?» Она отвечает: «Ждите». Я говорю: «Где же мне ждать-то?» Она отвечает: «Где хотите». Я говорю: «А тут, в коридоре, на лавочке можно до утра посидеть?» А она отвечает: «Не можно, у меня рабочий день заканчивается, уйду и закрою помещение». Я говорю: «Куда же мне идти-то?» Она отвечает: «А куда хотите. – И успокоила: – Вы не волнуйтесь, документы у вас законные, утром положим».
Ну я и вышел, хорошо, что поехал налегке, идти не тяжко было. Иду и иду, вижу, тетка молодая дорогу для пешеходов песком посыпает, тогда как раз первый ледок был. Понимаю, дворничиха, подхожу. Рассказываю ей мою несуразицу, советуюсь, нет ли у вас в доме одинокой старушки, чтобы на ночь пустила за деньги. Она назвала мне, куда идти, я и пошел, поднялся не на лифту, пешком, на этаж, позвонил, действительно – старушка. Я ей растолковал мою ситуацию, а она мне в ответ: «А может, вы вор?» Я ей объясняю: «Я не вор, я больной, вы документы посмотрите». А она ухватилась за это «больной» и закричала: «Ах ты больной?! Сумасшедший, сумасшедший?!» – и пятится от меня в страхе. Жаль мне стало дуру старую, говорю: «Это вы сумасшедшая, если человеку больному не верите…»
Он помолчал, закурил опять, затянулся жадно, переживая ту минуту, и жестко заключил:
– Ночевал на вокзале. Ничего.
И тут «пенсионер республиканского масштаба» (или «республиканец», как я про себя его называл) вдруг ни с того ни с сего взорвался:
– Это она с тобой, та пожилая гражданка, еще хорошо обошлась, а я бы на ее месте выдернул дверь из петель и тебя тою дверью по башке.
– За что?! – опешил-растерялся рассказчик.
– А за то, что ты не в деревне у себя, ты в городе. Может, тот дом, куда ты сунулся, особый.
– Да он не особый, дядя, – отмахнулся Заночевавший На Вокзале, – он панельный, у нас и в деревне такие начали собирать.
– Нет, тебя, олуха, не дверью по башке надо, а панелью, чтобы не шастал попусту, не мешал людям работать и отдыхать.
– Да ты что на меня взъярился? – растерялся Заночевавший На Вокзале. – Я что, к тебе постучался, тебя оторвал от телевизора?!
Но «республиканца» уже невозможно было утихомирить, он был в состоянии той захлестывающей ум и сердце раздраженности – ученые называют ее сегодня немотивированной, – когда доводы не действуют. Он бушевал, называя рассказчика растяпой, взваливая на него большие и малые беды, которые переживает сегодня человечество.
– Из-за вас, растяп, из-за вас, шатунов… – захлебывался он в ярости.
Будто шаровая молния вкатилась на лестницу, усыпанную окурками, неухоженную, покрутилась меж нашими головами и уплыла, растворилась в оконном стекле.
А виновник этого взрыва растерянно потоптался, махнул рукой и, шаркая растоптанными больничными туфлями, побрел в больничный коридор.
Все молчали. Потом поклонник Есенина меланхолично заметил:
– Жизнь – обман с чарующей тоскою…
Но сурового «республиканца» явно не удовлетворял этот романтический вывод. Он заключил с утихающей яростью:
– Идиотизм деревенской жизни, как говорил Заратустра.
– Сельский житель… – вздохнул таксист.
А я, ошарашенный, почти в шоковом состоянии от этой разыгравшейся передо мной жизненной пьесы, вдруг подумал: «Да это же чисто шукшинская ситуация!»
Шукшинская не потому, что участвовал в ней «сельский житель», и даже не потому, что вдруг неожиданно развернулась она в стенах той самой больницы, где лежал когда-то Шукшин и откуда бежал вечером и в мороз, в тапочках и пижаме, о чем рассказал в одной из самых последних статей.
Она шукшинская по самой сути.
Обидели человека. Обидели незаслуженно, дико, немотивированно. Один из рассказов Шукшина называется «Обида». Он начинается строкой: «Сашку Ермолаева обидели». Герой его, доверчивый, склонный видеть в жизни больше добра, чем зла, тоже поднялся по лестнице к человеку с добром и доверием. И был унижен, избит, растоптан. И не мог понять: за что?
Эти немотивированные удары по доверию и добру, рождающиеся будто бы из ничего, на самом деле весьма даже мотивированы. Но мотивы не на поверхности ситуации, а в ее толще. Шукшин и взрыхлял пером эту толщу, как в детстве плугом взрыхлял суровую сибирскую землю. Я все чаще получаю письма, которые называю про себя «шукшинскими». Даже папку хочу завести особую, написав на ней: «шукшинские ситуации».
В одном из последних «шукшинских» писем изложена маленькая история. Автор письма, рабочий-железнодорожник, рассказывает, как в их маленьком книжном магазине разыгрывают подписки на собрания сочинений писателей. Стоят всю ночь, чтобы попасть в число разыгрывающих. Однажды разыгрывали Анатолия Софронова, Чингиза Айтматова, Василия Белова и четвертого писателя, которого я назову потом.
Теперь отрывок из письма:
«Самые большие страсти-мордасти разгорелись из-за Анатолия Софронова. Любят его пьесы и песни. Большущие баталии разыгрались, конечно, из-за Василия Белова и Чингиза Айтматова. Вот разыграли этих трех, а я, неудачник от рождения, ничего, как и раньше, не выиграл. И тогда хозяйка магазинчика говорит: остался и четвертый. “Кто?” – вяло зашумели мужики. Оно и понятно, последним обычно идет самый неходовой. “Платон”, – отвечает она. “Философ?” – вопрошаю я. И про себя решил: возьму философа. “Нет, – отвечает, – непохоже, чтобы философ. Тут, – вынула какую-то бумаженцию с печатными буквами, – указано: повести и рассказы”. – “Да ведь это же Платонов! – обрадовался я. – Андрей Платонов”. А про себя думаю: “Мой любимый писатель”.
“Будем разыгрывать? – ставит вопрос наша книжная царица. – Или желающих нет?” Потоптались, помялись, помолчали мужики. Никто из них никогда об Андрее Платонове не слыхал, и решили милосердно: отдай Аристарху, то есть мне. Она уже паспорт мой забрала, начала там что-то оформлять, и тут от меня потребовали: “А ты расскажи нам, что это за писатель, Платонов Андрей”.
Я без памяти его люблю. И стал им, дурак, рассказывать. Я им подробно изложил повесть “Фро”, о странной девушке, о ее любви и переживаниях… Рассказывал хорошо. Никто не шелохнулся. А когда рассказал, загалдели: раз хороший писатель, надо разыграть. И разыграли. И опять досталось не мне… А я взываю к их совести-рассудку: “Имейте душу, если бы не я, вы бы и умерли, не узнав об этом писателе”. – “А мне, – отвечает один, он-то и выиграл, – мне тоже охота про эту фру читать”. Я ему говорю: “Дурак, это у Вронского в «Анне Карениной» Толстого была лошадь Фру-Фру, а у Платонова Фро, сокращенное имя Фрося”. Он на меня за эту “фру-фру” настолько обиделся, что чуть не подрались. “Лучше, – говорит, – ты бы меня матом обложил. Обидел ты меня, обидел”…»
Но обидели, конечно, не новоявленного поклонника Андрея Платонова, а книгочея, автора письма.
Обидой дышат и все «шукшинские» письма. Это обида за себя. Но бывает и обида высшего, что ли, порядка, не за себя. В одном из «шукшинских» писем человек рассказывает не о себе, а о товарище, о Тимофее Исаевиче Н.
«…Родился в 1917 году в Омской области, рано потерял родителей, окончил только три класса начальной школы, устроился землекопом, потом в армии выучился на шофера, во время войны попал в окружение, потом в плен, умирал от голода в концлагере, бежал, воевал опять, был три раза тяжело ранен, получил боевые награды, после войны участвовал в освоении целины, потом более двадцати лет работал в автоколонне, вышел на пенсию, но работу не оставил».
И вот на склоне жизни с этим человеком нелегкой судьбы стряслась беда, которая лишила его покоя и радости. Всю жизнь, работая шофером, он мечтал о собственном автомобиле, жил скромно, не ленился, откладывал деньги и купил «Жигули». А поскольку он рыбак, то машина стала для него источником абсолютного блаженства, летом он ездил в ней на рыбалку и думал, что судьба наградила его за все удары и утраты. И вот тут-то, когда он успокоился, умиротворился, и нанесла ему она сокрушительный удар. Однажды утром, открыв гараж, он увидел, что тот пуст.
Надо ли описывать тяжелое потрясение, которое пережил Тимофей Исаевич. Первые дни он жил в каком-то кошмаре, не верилось, что это стряслось именно с ним, испытавшим, казалось бы, все беды. Может быть, это дурной сон, наваждение… В самых нечеловеческих условиях, умирая от голода, он не разрешал себе дотронуться до чужой крошки хлеба и не допускал мысли – милый, хороший человек, – что его могут обокрасть. Поэтому он и машину не застраховал.
Через месяц ее нашли, вернее, не ее, а жалкие, обгоревшие останки. Воры сняли с машины все, что можно было, остальное облили бензином и подожгли.
Почти через год их задержали. Их было трое – Л., Б., Л. Я не называю подлинных имен, потому что второе судебное разбирательство еще не закончено.
Первый суд не дал Тимофею Исаевичу ни морального, ни материального удовлетворения. Дело в том, что мать одного из юных подсудимых – заметный в городе человек, она занимает видный пост в тех самых органах, которые и должны бороться с хищениями. А кто Тимофей Исаевич, наш потерпевший?..
Узнаете сюжет?
Узнали.
Нет, не узнали. Это не Шукшин, это Гоголь. Его «Шинель». Та самая шинель, из которой – растем, растем, – а вырасти не можем. До галактик далеких, над мирных доросли (в романах фантастических), а все еще не мала нам, не тесна, не жмет. На большой вырост шил ее Николай Васильевич!..
Но и отличие с гоголевской шинелью немалое: за «маленького человека» Башмачкина, который жизнь положил ради шинели, заступились, после похищения ее, мистические силы, а за Тимофея Исаевича – реальный живой человек, не умеющий и не желающий терпеть несправедливость. А в остальном совпадение почти полное.
Да, это Гоголь. Но это и Шукшин, с его болью за страждущую человеческую душу.
Существует в хирургии одно обстоятельство, обладающее емкостью социально-литературной метафоры. Если не помогает терапия при непрерывных сигналах тревоги от головы к некоему утробному очагу страдания, надо перерезать нерв, и все успокоится, тихо, мирно заживет. Надо перерезать нерв боли.
Вот этим нервом боли и соединены Гоголь и Шукшин.
«Маленький человек» стал иным. Стала ли иной боль?
Личность мерят масштабами эпохи. Сегодняшний «маленький человек» не укладывается в гоголевские масштабы. Его опыт – опыт XX века, его сознание и память насыщены событиями, несопоставимыми с тишайшими моментами тусклой гоголевской канцелярии. Стала более емкой и ранимой душа. Именно поэтому возросла и степень боли при столкновении с лицами и обстоятельствами, которые ставят под сомнение чувство собственного достоинства и духовной независимости.
Вечные образы не обладают вневременным существованием. Они, как и люди, живые, существуют во времени, меняясь со временем. Для Акакия Акакиевича карета (эквивалент сегодняшнего автомобиля в понятиях начала XIX века) была даже и не мечтой, а чем-то настолько недостижимым, о чем и подумать кощунственно в его положении.
Даже у автора «Шинели», в отличие от сегодняшних авторов, кареты не было.
Но ведь дело не в том, что украли: пальто, автомобиль или персональный космический корабль (в будущем), а дело в том, что у человека похитили нечто, что было радостью и утешением жизни, а стало быть, и существенной частью ее смысла.
В сочинениях десятиклассников последних лет, которые я читал, гоголевского Башмачкина иногда называют жалким. Да что толковать о десятиклассниках, порой и от интеллектуалов тоже услышишь: жалкий Башмачкин. А для меня гоголевская «Шинель» – надежный тест на самое, пожалуй, высокое человеческое чувство: чувство жалости. Жалким называют того, кого не жалеют. И самое страшное: жалким называют для того, чтобы не жалеть.
Одна писательница рассказывала, что она боится перечитывать «Шинель», потому что когда-то, в юности, Акакий Акакиевич вызывал в ней острую жалость, а теперь она не понимает: за что же, собственно, его жалеть? Он ничтожен: и бумагу чуть посложнее составить не может, и перышки чинит. За что его жалеть? За то, что у него шинель старая? Это говорила большая писательница, и тем это больнее и печальнее.
У гоголевского Башмачкина была не шинель старая, а старое, бедное человеческое сердце, которое видело в этой шинели единственный укрыв от бурь и напастей мира. Для него эта шинель – что непроницаемые для ледяного космоса стены межзвездного корабля. Для него это не шинель – собственная кожа. А с ободранной кожей долго жить нельзя. Это понял не только умом, но и судьбой Шукшин.
Не жалеть удобно, потому что жалость совсем не пассивное состояние души, она – исток сострадательного действия. Для Гоголя этим сострадательным действием было создание «Шинели». Для Шукшина – вся его жизнь.
Жалость – это боль. Когда боль становится нестерпимой, человек умирает, это удостоверено наукой, в частности вышедшей недавно солидной монографией, именуемой «Наукой о боли».
Недавно я получил письмо от читателя из села Каменка – от С.Д.Штырева.
«Я понимаю, – пишет он, – как много хорошего уходит из нашей жизни: уходит сердечное благо, уходит тревога души, уходит взаимопонимание, уходит чистая сентиментальность, уходит дар великой русской речи, и сама жалость потеряла несравненное по красоте лицо. Уходят великодушие и милосердие. Я много читаю и русских писателей, и французов, например Эдгара Кине и Марка Дюфрес».
(Удивительный пошел нынче читатель, я, писатель, лишь из этого письма узнал о существовании французских авторов, названных сейчас.)
Порой мне хочется закричать: душа убывает!.. Душа живет не только памятью, но и болью памяти. Мы не только народ Аллы Пугачевой, но и народ Емельяна Пугачева. Мы народ декабристов, народ мыслителя и раздражителя души и сердца человеческого Герцена. Почему же бормочем, лепечем, беседуя меж собой, банальности или полуправду? Мы народ великих ораторов, почему же даже на маленьком торжестве, за семейным столом, разучились потрясать человеческие сердца? Мы народ Пушкина и бережно храним пушкинские места, пушкинские заповедники, но ведь заповедники быть должны не только на земле, но и в сердце. Траву вытопчешь – вырастет по весне новая. Вытопчешь сердце – в нем ничего уже может не вырасти…»
Я читал это «шукшинское» письмо и думал, что, пока рядом с нами живет хоть одна растревоженная душа, а их легион, мы можем повторить архаизм, которым назван один из рассказов Шукшина – «Верую»!
И не стоит ли вернуть это «верую» из архаических речений в сегодняшние будничные душу и речь? И вернуть без пышности и торжеств, потому что вера не терпит излишней торжественности, хотя и не лишена потаенной патетики. Это хорошо, хотя и несколько оригинально, понимал герой одного из последних шукшинских рассказов «Штрихи к портрету», денно и нощно размышляющий о личности и государстве. В сущности, его волновала величайшая философская тема: отчуждение личности от государства, но мыслил он не отвлеченными понятиями, а наглядными образами. Он вызывал умственным взглядом картину: как насыпают курганы. Идут люди один за одним, каждый берет горсть земли… засыпается яма, потом начинает расти холм. Важно, чтобы ни один человек не уклонился от этого, казалось бы, легкого усилия: кинуть горсть земли в общий холм. Потому что, уклонившись, личность «выходит из беспрерывной цепи человечества».
Этот типично шукшинский маленький большой человек со странностями, с завихрениями, с трагикомическими отклонениями от нормы и с живой болью в сердце. Его не понимают, высмеивают, даже бьют. Иногда чересчур «нормальные» люди в нем видят сумасшедшего. И он мог бы, наверное, повторить хрестоматийное, памятное: «Они не внемлют, не видят и не слушают меня».
Но он верит – верует, – что если все будут идти один за одним с горстью земли, то можно будет заасфальтировать весь земной шар или построить лестницу до Луны. Эти фантастические образы нужны ему, чтобы передать всю масштабность мысли о мощи соединенных усилий всех людей.
К нашей радости, он остается в живых. К радости, потому что хорошие люди в шукшинских рассказах часто умирают. Умирают они в «шукшинских сюжетах» и жизни. И Шукшин сам был героем этого «шукшинского сюжета».
Но не надо утрачивать надежды – этим дышат рассказы Шукшина и «шукшинские ситуации». Надежда больше, чем чувство. И больше, чем состояние души. Это сила, формирующая человеческие отношения и судьбу.
Человек не только обещание какого-то высшего существа (как действительно утверждал Заратустра у Ницше), человек (даже когда он кажется комичным) в тревоге за себя, за соседа, за Родину, за человечество – сам это высшее существо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































