Текст книги "Чувства и вещи"
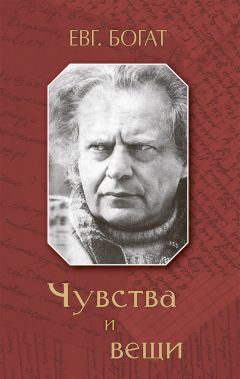
Автор книги: Евгений Богат
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Вторая посмертная судебно-медицинская экспертиза, куда вошли лучшие медики страны, полностью подтвердила выводы первой: «Интеллектуально активен, эмоционально адекватен, за собственные действия отвечает».
Словом, полный хеппи-энд: папу не удалось посмертно записать в безумцы, семейные узы посмертно не разорваны.
Мне неизвестно, что отойдет сейчас сыну, а что останется у вдовы. И окончится ли дело миром, или будет новый суд. Да и неинтересно это…
…А вот что интересно: заплачет ли сын когда-нибудь при воспоминании об этом суде? В том, что захочется ему заплакать, не сомневаюсь, а вот удастся ли?
Может, и не удастся, как не удалось душам, обманувшим любовь и доверие родных, которых Данте поместил на самое дно ада: они синели изо льда, хотели заплакать и не могли: «Веки им обледенил мороз».
Лики пошлости, или Чувства и вещи
В старинных залах картинных галерей, особенно когда они пустынны, в покое и тишине, мы отдаемся созерцанию: стоим перед полотнами, забываем о себе и становимся как бы частью картины – деревом, облаком или улыбкой молодой женщины, жившей в далекие века. Мы выпадаем из сегодняшней жизни.
В наши дни созерцание стало роскошью и, как любая роскошь, кажется излишним. Нам созерцать некогда – мы действуем. Созерцание бескорыстно, оно ничего не хочет, а мы постоянно хотим чего-то. Созерцая, мы отдыхаем от желаний и суеты. А выходя на улицу, чувствуем, что нас будят – для деятельной жизни.
Один старый философ говорил, что, созерцая, мы выходим в вечность. И вот из вечности мы возвращаемся в сегодняшнюю жизнь.
Мы возвращаемся из вечности, как возвращаются из дальнего путешествия, радуясь новизне старых вещей. Может быть, ценность созерцания в том и заключается, чтобы не утрачивать чувство новизны в повседневной деятельной жизни.
В бывшем Андрониковом монастыре в Москве в залах Музея имени Андрея Рублева – покой и тишина, не часты посетители, мерцает, меркнет золото икон; отрешенность от мира полная, неземная. И созерцание тут особое, отличное от того, что успокаивает, углубляет душу в залах живописи неиконной, – созерцание, обращенное не от себя, а к себе, – самосозерцание, созерцание как возвращение к себе, к чему-то забытому, цельному.
Выйдя из Музея имени Андрея Рублева, испытываешь чувство, будто наклонился к роднику, из которого вышла культура Родины, – потому и ожило в тебе истинное «я». В любой культуре есть такой родник, в нашей это Андрей Рублев. По легенде, он и похоронен в Андрониковом монастыре; он умер, унеся с собой некую тайну, – может быть, тайну духа, который лепит тело…
Побывав в Андрониковом монастыре, понимаешь полнее одухотворенность женщин на портретах Рокотова, мудрость и человечность Льва Толстого и Достоевского и даже сострадательность старинного русского романса, как лучше чувствуешь великую реку, испив из родника, откуда и началась она. А в самих залах не думаешь об этом и ни о чем не думаешь, созерцая, утешаясь и ликуя.
Но однажды, когда был я в Музее имени Рублева, в двух небольших зальцах стучали сапоги, мужские четкие голоса неуместно повелительно отдавали распоряжения, торопливо заходили и выходили люди в военном и штатском, устанавливалась аппаратура… Раздражаясь, недоумевая, я не мог понять, в чем дело; объяснение, которое услышал, ошеломило меня. Оказалось, что несколько месяцев назад была отсюда похищена икона и вот сейчас, когда ее нашли и арестовали виновных – их будто бы двое было, – юристы решили поставить эксперимент, чтобы установить, могли ли два человека похитить или были у них сообщники, которых они скрывают. Подобные эксперименты – для выяснения и уточнения подробностей расследуемого дела – нередки у криминалистов; человеку же стороннему это скрупулезное восстановление опасного для личности и общества деяния кажется диковинным, где бы он его ни наблюдал, даже на шумной улице, – что же говорить об эксперименте в этих «монастырских» залах с их отрешенностью от мира!
Узнав, что я журналист, устроители эксперимента разрешили мне остаться. И я остался по извечной страсти к новизне, по малодушию любопытства.
Обвиняемые должны были повторить то, что они тогда совершили, и в живом воспроизведении события доказать, что их могло быть действительно лишь двое.
Когда все было готово, эксперимент начался. Детина лет двадцати, уже по-тюремному остриженный, телесно мощный, как волжский бурлак, но с лицом инфантильным, полудетским, подошел к стене, быстро и ловко оторвал от нее маленькую икону, сунул ее под распахнутую рубаху, за пазуху и дальше – под мышку, быстро зашагал к выходу; женщины, дежурившей тут постоянно, не было в ту минуту, она отлучилась, не было ее и сейчас по условиям эксперимента, зал был будто бы пустынен, как был пустынен он и тогда, хотя сейчас, в действительности, людей в нем находилось немало. Когда детина так же быстро вошел в соседний зал, откуда открывалась дорога на лестницу, навстречу ему поднялась старая женщина, дежурившая тут. Она ничего не видела, но почуяла что-то недоброе, и поднялась, как объясняла потом, бессознательно, по наитию; поднялась она и сейчас, явно стараясь, чтобы это выглядело так же естественно, как тогда. В этом соседнем, тоже пустынном в те минуты зальце находился второй — он будто бы сосредоточенно рассматривал иконы; больше никого не было. Увидев, что женщина стоит на пути первого, который в растерянности оцепенел, он кинулся, – видимо, нервы не выдержали, выхватил из кармана нож, поднес его к лицу дежурной, зажав второй рукой ее рот; та, помертвев, опустилась опять на стул. Села она и сейчас при виде ножа, но уже не умирая от страха, а степенно, даже с оттенком достоинства, что делало, конечно, непонятным, почему она подняла шум лишь через несколько минут, когда воры уже заводили «Жигули» у ворот музея. Зальцы, откуда они похитили, и были выбраны не из-за особой ценности находившихся там икон, а по наибольшей близости – в укромном «монастырском» домике – к воротам.
Несмотря на то что женщина сыграла роль не по системе Станиславского, исход эксперимента был достаточно убедительным: он подтверждал показания обвиняемых – то, что они сделали, могло быть совершено лишь двумя.
Увели похитителей под конвоем, ушли все устроители эксперимента, разбрелись сотрудники музея, – в укромных залах, где разыгрывалось похожее на съемку кинодетектива действие, опять стало тихо, безлюдно. Вернули на место похищенную икону. Я подошел к ней. Богоматерь с лицом тонким, большеглазым, одной рукой держа по-взрослому серьезное большелобое дитя, вторую подняла, изогнув тончайшие пальцы, полураскрыв нежную ладонь, и жест этот показался мне отстраняющим, изумленно-гневным. А по сторонам ее ангелы склоняли головы к крыльям, печаловались скорбно-суровые старцы, ниспадали одежды неземных жен, синели будто бы нарисованные ребенком купола Иерусалима; камни пустыни высились, как фантастические города будущего.
То, что разыгралось тут несколько минут назад, казалось менее реальным, чем эти лица, эти одежды, эти камни.
Я опять был в залах один, в тишине живой поскрипывали уютно половицы, мирно подремывали на стульях старые женщины, наблюдая вполглаза за мною. И радость созерцания ширилась, как тишина.
Улица ошеломила меня сегодняшней жизнью, а потом напомнила об эксперименте, очевидцем которого я стал непредвиденно.
Я и раньше наслышан был, конечно, о похищении икон из церквей, о деревенских обманутых старухах, у которых новоявленные поклонники старины выманивали, вымаливали, выменивали бесценные, почерневшие от времени доски. И сейчас вся пестрота этих рассказов ожила в памяти и неожиданно соединилась с экзотикой стен в домах, где я иногда бывал. Все услышанное, увиденное, разрозненное обрело горькую сердцевину…
Когда от моего старого школьного товарища ушла жена, он решил умереть. По телефону, в непосредственном общении и даже письменно он оповещал наиболее симпатичных ему людей, что умрет непременно, потому что имеет несчастье быть именно той избранной натурой, которая не хочет и не может жить после ухода любимой женщины. И хотя в наш рассудочный век от любви умирают не часто, настойчивость, с которой он твердил про это, внушала тревогу. Ее углубляли и особенности его биографии. С детства он был на редкость увлекающимся человеком: в школьные годы обожал театр, читал восхищенным девочкам Ростана; потом поступил в медицинский институт и по окончании его потрошил усердно собак в аспирантуре; затем его качнуло на физмат – это была пора повального увлечения физикой, – но не успел он дотащиться до пятого курса, как выяснилось, что его работа с собаками весьма перспективна, и его убедили к ней вернуться. Он стал биологом, но в последние годы все чаще поговаривал о том, что устал от науки и опять тянет его к Ростану… Эти подробности его биографии почему-то убеждали нас в том, что он умереть от любви может. Опасаясь за его жизнь, мы, бывшие одноклассники, не видевшиеся до этого годами, теперь в течение нескольких недель не оставляли его одного по вечерам. Он читал нам Ростана и повествовал с отрешенным лицом о сегодняшней «царице наук» – биологии. Мы помнили его милым мальчиком и самоотверженно дежурили поэтому теперь у романтического одра покинутого мужа.
Но он не умер. Он женился опять. На женщине, владеющей пятью языками. Когда стало ясно, что ни кинжалом, ни ядом он не попытается ускорить уход из жизни, мы разбрелись, вернувшись к собственным делам.
Однажды он мне позвонил, сообщил, что хочет собрать «лицеистов» опять, на этот раз по радостному поводу: построил трехкомнатную кооперативную квартиру, в которой царит «она», его новая любовь. «Из незнакомых, – доверительно шепнул он в трубку, – будет родственник жены, психолог-лингвист – для определения характеров гостей по текстам». Я догадался, что это идея царицы дома.
Переступив порог новой его квартиры, я чуть растерялся: одна из стен коридора была густо-густо увешана иконами. Богоматери, спасы, архангелы, апостолы, жены-мироносицы сурово и скорбно наблюдали за тем, как хозяин, радостно суетясь, стаскивал с меня пальто. Он, конечно, заметил мое изумление, мою растерянность и, видимо, наслаждался ими. Устроив пальто, он обернулся к иконостасу, коснулся пальцем темной дощечки:
– Семнадцатый…
– Что – семнадцатый? – не понял я.
– Это икона, – начал он объяснять мне с утрированной серьезностью, как объясняют несмышленым детям, – икона псковской школы. А семнадцатый – век. Понимаешь: столе-тие.
– Послушай, – посмотрел я на него с состраданием, вдруг сообразив, что передо мной человек, перенесший недавно огромное потрясение в личной жизни, – ты стал верить в Бога?
– Моли Бога и архангела Гавриила, – чуть возвысил он голос, показав при этом на величаво распростертые над нами на высоте изящной люстры сумрачные крылья, – чтобы тебя не услышал психолог-лингвист. Из твоего текста он поймет, что ты завершенный кретин. И к тому же существо лунатическое, не от мира сего. Ну, рассуди: если бы я начал верить в Бога, неужели я повесил бы их в коридоре? Нет, старина, – доверительно обнял он меня, – тут иное… Это, – посмотрел с загадкой в лице на иконы, – стена… Понимаешь, – шепнул таинственно в ухо, – сте-на.
– Стена? – идиотически переспросил я, изумленный тем сокровенным, неведомым мне смыслом, который вложил он в это обычное слово.
– Я полагаю, тебе лучше помолчать при психологе-лингвисте, – посоветовал он мне уже серьезно и потащил в комнату, где к ужину был накрыт стол, за который хозяйка усаживала гостей. Тут на аскетически нагой стене царил портрет Пастернака. (В старом доме моего школьного товарища висел, помню, портрет Хемингуэя.)
– Ужинать будем, – возвестила Владеющая пятью языками, – под недреманным и мудрым оком науки.
Меня познакомили с психологом-лингвистом, высоким угловатым мужчиной неопределенного возраста. Он был похож и на стареющего юношу, и на молодящегося старика. А поскольку сегодня старики молодятся не менее искусно, чем юноши старятся, мне так и не удалось решить, за двадцать ему или под шестьдесят.
Ужинать начали в тяжелом молчании, – видимо, никому не хотелось стать объектом изучения «недреманного ока науки». Тексты умирали не родившись. Говорила за столом лишь Владеющая пятью языками. Она рассказала про московский Театр на Таганке («Гамлет, играющий на гитаре, – это гениально!»), о последнем фильме Феллини, который видела в Риме ее лучшая подруга («“Сатирикон” по роману Петрония, с ума можно сойти…»), и о том, что один некогда блистательный художник сегодня, увы, выдохся. Ни одно из этих сообщений за столом оживления не вызвало. И ей не оставалось ничего иного, как говорить дальше, говорить не умолкая. Поскольку характер ее был психологу-лингвисту известен, вероятно, достаточно хорошо, он меланхолично жевал телятину: старик-юноша явно томился без новых текстов. И тут она «вышла на тему», заинтересовавшую нас всех; в ее речи засверкала подлинность, живым, печальным и насмешливым стал голос. И нам становилось все труднее сохранять молчание. Хозяйка повела рассказ об иконах. Она начала его издалека – с элегического повествования о разрушающихся церквах и одиноких старушках в дряхлевших избах на Севере. На обильный, ломящийся стол легла на миг тень печали и тут же убралась восвояси.
– Однажды, – рассказывала Владеющая, – я разговорилась с Володей. Это сантехник из нашего ЖЭКа.
Каталось бы, что ему Гекуба! Ну вот… У нас засорилось, пардон, одно устройство, и он его налаживал целый день и рассказывал мне о том, что его товарищи странствовали по Северу и возвращаются сейчас с диковинными вещами. «И с иконами, с иконами?!» – стала я тянуть из него. «Да», – отвечает. «Старыми?» – «До шестнадцатого века. А бывает…» – «Что бывает, – трясу его, – что?!» А он: «Феофана Грека хочешь? Миниатюру?» Я шалею: «Неси!» Побежал, вернулся: «Нет Грека – академику одному обещано было, он заезжал в мое отсутствие». Я чувствую, у меня сейчас будет инфаркт. «Ну, не Феофана, молю, ну, хоть что-нибудь!» Опять побежал, вернулся с восемнадцатым веком. С серединой…
– А самовар он может достать? – выдавила из себя одна школьная наша подруга. – Северный, старинный?
– Может.
– А лапти вологодские? – оживился кто-то.
– И лапти может! – ликовала Владеющая. – Володя-сантехник личность фантастическая. Что лапти! Он недавно прялку раздобыл – любой музей лопнет от зависти. Два семейства из-за нее чуть не передрались, но потом, как люди интеллигентные, разошлись мирно: распилили надвое и жребий тянули – кому низ, кому верх.
– Те, кому выпал низ, сейчас разводятся, опять будут пилить… – с тонкой иронией заметил хозяин дома.
– А ты не пилил бы?! – быстро поставила его на место жена. – Ну конечно, – вернулась она к основной теме, – и самовар, и лапти – это вещи сопутствующие для Володи. Его коренное увлечение – иконы. Тут он бог. Но… – она понизила таинственно голос: – Есть человек и поважнее его. Сашка…
– Сашка?.. – выдохнули мы, как зачарованные.
– Да. По кличке Псих.
– Тот, – поморщился муж, – что ходит к нам по ночам?
– Сашка, – повествовала дальше жена, – собирает не через товарищей, он сам лазает по старым церквам, и после тишины соборов его угнетает шум города, потому и ходит ночами. Он ужасно нервный: когда достает икону, у него руки играют…
– А не кажется тебе, – подал, наконец, голос психолог-лингвист, – что Сашка с иконой сигматически то же самое, что Гамлет с гитарой? Шекспировский герой с расхожим символом наших дней и, извини меня, конокрад тоже с определенным…
– Зарабатывает он, – невежливо перебил его хозяин, – побольше, чем в минувшие века конокрады.
– Вечные типы с сегодняшними символами, – мудро вздохнул старик-юноша.
– Зарабатывает он, конечно, хорошо, – сердито согласилась жена, – но кто еще достанет вам икону школы Дионисия? Рублева и Черного? Псковскую, новгородскую, суздальскую? Византийскую? Кто, если не он?! Любые…
– …масти, – подсказал психолог-лингвист.
И тут она рассвирепела. От возбуждения лицо ее казалось покусанным пчелами.
– Это не твоя область – иконы. Их язык тебе не понятен.
– А что они вам говорят? – осмелел я.
– Они говорят мне, – торжественно возвысила она голос, – я – та ценность, которая существует независимо от тебя, от твоего дома, от времени, в которое ты живешь, я родилась в веках и уйду в века. Я стала на миг стеною в твоем доме, чтобы напоминать тебе о вечности. Лови же этот отблеск чистого золота… – И она, растроганная, умолкла.
И тогда я первый раз за вечер рискнул выдать при «недреманном оке» развернутый текст.
– Что же дороже, – обратился я к Владеющей, – золото или храм, освящающий золото?
– Это не ваши слова! – почему-то обрадовалась она.
И посмотрела с надеждой на юношу-старика. Тот молчал торжественно, углубясь про себя в текст.
– Андрей Белый? – жадно, точно затевая игру, допытывалась хозяйка. – Мережковский? Поздний Ходасевич? Ранний Бурлюк? Евгений Евтушенко?..
– Нет, – ожил психолог-лингвист, – не Евтушенко… и не Вознесенский… и не Ахмадулина… Нечто более раннее.
– Разумеется, – согласился я с ним. – Это Библия.
Когда настала пора расходиться, я заметил, одеваясь, что ножки старинного столика в коридоре, на котором чернел телефон, почти в точности повторяют изгиб тела одной из жен-мироносиц, склонившихся над опустевшим гробом Спасителя.
– Стена! – повторил с тем же загадочным выражением хозяин, перехватив мой взгляд на иконы. Он вышел со мной на лестницу, растроганно посмотрел мне в лицо. – А помнишь, у Ростана… нет, у Аполлинера: «Ты должен подняться. Дорогу тебе указали…» Да, – заключил он мужественно, – надо жить.
На нижних ступеньках лестницы я обернулся – он все еще стоял, лысеющий мальчик, создавший себе иллюзию стены, куда более толстой, чем стены современных домов: ведь иконы когда-то висели действительно на стенах крепостных, защищавших надежно от мира.
Он улыбнулся мне в последний раз, ушел к себе. И тут же раздался выстрел… второй… и третий. Через несколько секунд я сообразил, что это не пистолет, а замки, это их убойная сила, делающая дом неприступным.
По дороге домой я искренне пожалел, что он не умер от любви. И подумал, что он и в самом деле мог бы умереть, но при одном непременном условии: если бы это было сегодня модно. Но, как сказал поэт, «уже написан Вертер…».
Понятие моды, несомненно, шире фасона туфель или стиля мебели, – модными могут быть увлечения мистикой или животным магнетизмом, поклонение женщине и самоубийства от несчастной любви. Моды меняются, трагикомически или даже пародийно отражая рождение и уход подлинных ценностей. Моды меняются, неизменными остаются суть модников, мотивы их действий.
В написанном две тысячи лет назад «Сатириконе» римский писатель Петроний изобразил разбогатевшего вольноотпущенника Тримальхиона, который книг не читал, но тем не менее имел у себя в доме две библиотеки. Этот вольноотпущенник закатывал роскошные пиры, на которых, само собой разумеется, объедались и опивались до безобразия. Но хозяин не позволял гостям забывать о философии. В тот век модным было увлекаться идеями стоиков, рассуждать о морали Сенеки. И вот в разгар пира Тримальхион требует, чтобы в зал внесли… человеческий скелет. Не надо забывать, что жизнь, как учит Сенека, штука бренная. Мясо в доме Тримальхиона разрезали под музыку. Это было модно…
Тримальхион не умер – он появлялся в разные века под разными именами, усердно склоняясь к тому, что сообщало подобие социального или нравственного престижа, иллюзию значительности: к литературе, философии, религии, науке, точнее – к разговорам о них. И при этом играл в независимость, играл тем бесцеремоннее, чем глубже сидел в нем вчерашний раб.
Да, в то время, когда Тримальхион развязно культивировал его идеи, Сенека уже не пользовался расположением цезаря, но в поведении новоявленного «стоика» не было, разумеется, и тени социального бесстрашия. Вольноотпущенник хорошо понимал: к нему, как к Сенеке, император не пошлет центуриона с повелением убить себя. За что? За человеческий скелет? Разве что кто-нибудь высмеет (как и высмеял Петроний в «Сатириконе»). А большего он и не заслуживает, точнее – не хочет заслужить. Сама развязность, сама нарочитая пародийность его обращения к модным и в то же время неофициальным идеям заключала в себе нечто двойственное: позволяла играть в вольномыслие, не рискуя ничем существенным. Он тешил самолюбие шутовским вызовом. А высмеют – не страшно, даже хорошо: высмеяли – заметили, отвели определенную роль. Для актера же – все модники актеры! – нет большей беды, чем остаться без роли…
Тримальхион желал одного: не отстать от моды, но и не потерять в упоении ею роскошные поместья. Отсюда утрированно-пародийное вольномыслие, доходящее до фиглярства.
Задумаемся на минуту: почему в сегодняшних «интеллигентных домах» иконы висят в передних и кухнях и редко-редко – в комнатах? Почему новая мода с самого начала ушла под защиту легкой пародийности? Новоявленные «богоискатели» начали украшать жилища иконами, распятиями, лампадами, стараясь, чтобы «религиозный интерьер» не перешагнул ту черту, за которой символам веры и надлежит висеть, если хозяева дома верят в Бога открыто и честно.
Обилие чисто церковных вещей в не подобающих для них местах создает ряд тешащих самолюбие иллюзий, и в первую очередь – эксцентричности мышления и образа жизни…
Но, надо полагать, будущий историк мод, коснувшись этой, отметит, что, в отличие от самоубийств по образцу Вертера, она была отнюдь не бескорыстной в самом четком, сугубо материальном смысле слова…
Некий кандидат неких наук, человек не старый, лет тридцати, но заросший по нынешней моде бородой, во время летнего отпуска задумал посетить с товарищем и двумя очаровательными особами на «жигуленке» ряд деревень Горьковской, Ярославской областей, где живут староверы. Неподалеку от очередной деревеньки джинсы или шорты, в зависимости от погоды, яркая рубашка или замшевая куртка менялись на нечто старинное, домотканое и уже ветхое, раздобытое у столетнего московского дворника. И в селе появлялось странное, дико одетое, бородатое существо, объявлявшее себя старовером, которого община послала собирать иконы. Старики и старухи доверчиво выслушивали рассказ о церкви, уничтоженной «огненной бедой», и несли, несли иконы… В недальнем лесу, умирая от хохота, ожидала старовера веселая компания, и долго «жигуленок» колесил по дорогам двух областей, пока его не остановили!
В беседе с должностными лицами молодой бородач четко объяснил, что маскарад этот понадобился ему для того, чтобы окупить расширяющие кругозор поездки по родной стране. Я несколько огрубляю его текст: он говорил не «поездки», а «путешествия», «странствия», утоляющие жажду познания страны, ее истории, ее людей. Оставалось неясным, почему утоление интеллектуально-духовной жажды бородача должны оплачивать старухи и старики. Видимо, он полагал, что для людей набожных делать доброе дело естественно.
В мотивировке «окупить странствия» трезвый экономический расчет и возвышающая иллюзия наивно-цинически сжаты воедино. Это, так сказать, «чистый случай», где сквозь полупрозрачную личину хорошо видно подлинное лицо явления. Большинство же случаев отнюдь не столь чисты: порою маска наглухо, наподобие старинного забрала, закрывает лицо, порою же лицо выступает с бесстыдной откровенностью, без маски. И хотя для нас особенно интересен именно первый вариант, уделим – для более полного понимания ситуации, – известное внимание и второму.
При аресте члена Союза журналистов Н. у него было обнаружено около четырехсот икон, крестов, риз. Были у Н. и две автомашины, – видно часть икон он успел обратить в деньги. Теперь стояла на очереди кооперативная квартира, о чем он и поведал с подкупающей откровенностью, когда поинтересовались, почему в составленном им списке икон стоят возможные, ориентировочные цены: «Подсчитывал…»
Письменные показания Н. весьма любопытны. Вот он повествует:
«Икону “Образ Христа Спасителя” я раздобыл в деревне Пироговке, Шосткинского района, Сумской области. Я осматривал там местную церковь и познакомился со старостой церкви Кондратьем. Он подарил мне семь икон. Я купил ему в виде благодарности 1 литр водки, а его жене подарил шарф».
Читаем дальше:
«Икону “Иоанн Креститель” я нашел в городе Зубцове, Калининской области. Поп местной церкви отец Николай подарил мне шесть икон, за что я ему подарил импортную газовую зажигалку. Иконы ему были не нужны, а зажигалка попа очень заинтересовала».
Однако и самого Н. хорошая зажигалка интересовала отнюдь не меньше. Поэтому, читаем мы в его показаниях, в дальнейшем «одну икону я обменял на зажигалку у художника В.».
Путешественники минувших веков рассказывают, что у дикарей островов Океании были заветные вещи, которые они не обменивали даже на зеркальца и бусы, – это то, что имело отношение к их богам… И если сегодняшней безнравственности нужна эмблема, то ею может стать «импортная газовая зажигалка».
«Крест в металлическом окладе я получил от попа Ржевской церкви: я подарил ему отрывной настольный календарь и выслал ему из Москвы розовое масло для кадила».
В Московском городском суде нас познакомили с десятками томов уголовных дел, из которых явствует, что скупкой, обменом, перепродажей икон и крестов занимались в последнее время и журналист, и работник искусств, и сотрудник научно-исследовательского института наряду со слесарем-сантехником, грузчиком овощного магазина и лицом без определенных занятий. Я начал этот перечень с людей по видимости интеллигентных, но это вовсе не означает, что мы перешли к варианту «закрытого забрала», – нет, это то же ничем «возвышенным» не прикрытое, бессовестное лицо.
Иконоискатели двинулись на старые церкви и деревни Севера. Выламывают в соборах изображения апостолов, выклянчивают у старух черные доски, суя в столетние ладошки ассигнации трехрублевого достоинства, выменивают у попов и церковных старост.
Нравы «иконного Клондайка» хорошо обрисовывает «дело Миляева, Силина и Покровского», разбиравшееся в одном из районных судов столицы. Тут кража икон из молитвенного дома деревни Утечино, Горьковской области, лихие автомобильные налеты на села Калининской, Ивановской, Ярославской областей, кутежи, сопровождавшие перепродажу икон. Кто же они, Миляев, Силин, Покровский? Последнее место работы Миляева – годная станция «Хлебникове», инструктор-методист (до этого он успел побывать и в шоферах, и в лаборантах и получить четыре судимости за воровство и мошенничество). Силин подвизался в некоем комбинате в Серпухове мастером-технологом. Покровский был шофером.
Как явствует из этой краткой характеристики, никто из них непосредственного отношения ни к русскому искусству, ни к искусству вообще никогда не имел. Деньги, нажитые на «религиозном Клондайке», позволили Миляеву подарить любимой женщине кольцо с бриллиантом в пять каратов и шубку норковую, купленную на пушном аукционе за десять тысяч рублей. Женщинам менее любимым он дарил золотые кольца с камнями и самовары…
На «Клондайке» порой разыгрываются сцены, достойные детективных кинофильмов. Икона загадочна для непосвященного человека, поди догадайся, кто и когда ее писал и почем – самое существенное! – ее торговать. Ее несут к реставратору, а реставратор не дурак, он хорошо понимает ситуацию. Он убеждает: «Художественной ценности не имеет», – покупает, иногда действительно реставрирует и перепродает раз в десять дороже.
Ну вот хотя бы чем не «клондайковский» сюжет: реставратор К. покупает у Миляева и Силина икону, снимает верхние слои и обнаруживает, что это подлинный мастер «круга Дионисия». Восторг его велик, он оповещает об открытии, и через несколько дней к нему в мастерскую входят те же Миляев и Силин с третьим дюжим молодцом, валят реставратора наземь, бьют по голове, отбирают икону, и исчезает подлинный мастер «круга Дионисия» бесследно, будто увиден был во сне.
В суде – слушалось подобное же дело – наблюдал я за двумя «золотоискателями»: они находились за деревянным барьером, под охраной. Один был постарше, видно, бывалый, в лице полнота покоя и потаенная жестокость. Второй – молодой, даже юный, нескладный, с несчастными глазами дрессированной обезьяны. И вот бесстрастное лицо первого исказила гримаса, застывшая на минуту, отчего показалось, что надели на него деревянную маску, когда из показаний экспертов стало ясно, что икона, которую у него купил юный соратник за пятьсот, стоит на самом деле раз в десять дороже. Он попытался успокоиться, не сумел и начал душить второго. И тому посчастливилось, что рядом, повторяю, была охрана.
Крупные самородки, конечно, на «Клондайке» редкость, обыкновенно иконоискатели довольствуются и золотыми песчинками. (Это не метафора, подсчитано, что на сегодняшнем «черном рынке» «обычная» икона ценится в десять граммов золота.)
Песчинки эти, как мы видели, дельцы обращают в живые деньги, в сиюминутные ценности – автомашины, дачи, норковые шубы, кооперативное жилье, – торгуя иконы иностранцам и соотечественникам, тем из них, кто полагает для себя несолидным выламывать, вымаливать, выменивать и в то же время хочет иметь. Ибо стена, которой коснулось наше повествование в самом начале, не только создает иллюзию эксцентричности мышления и образа жизни или является шутовским вызовом чему-то, – нет, суть ее более реальна. Это – золото, которое можно у себя безбоязненно держать и умножать потому, что, по известному закону метаморфоз, оно не подпадает под статьи Уголовного кодекса, толкующие об ухищрениях с ценными металлами. Это – золото, которое можно окружить меланхолической дымкой этических и эстетических иллюзий. Это нечто имеющее ценность абсолютную, не зависимую от капризов быстротекущего мира. Это – золото даже тогда, когда перед нами иконы, не обладающие художественной ценностью.
Как узнал я, уже работая над этой статьей, ряд «респектабельных» семейств взволнован сейчас потрясающей новостью: под городом Горьким в одной из церквей сохранились древние – XVI век! – иконы, и сторож, вечно пьяный, разрешает войти ночью тем, кто найдет ключ к его душе… Конечно, ни один из солидных иконоискателей не пойдет в осеннюю ненастную ночь объясняться со сторожем, а потом в пустой и темной церкви что-то нашаривать и совать под пальто. И тут появится Сашка по кличке Псих, нервное дитя века, играющий в юродивого бандит; он не побоится и поедет, и найдет ключ к душе, и выломает, и унесет, а потом тоже ночью поднимется бесшумно в лифте и быстро позвонит, и в ту минуту, когда в тишине и уюте уже уснувшей квартиры перед восхищенными очами хозяина он из-под полы вытащит ЭТО, – мир «Гамлета с гитарой», «позднего Ходасевича и раннего Бурлюка», возвышенных речений о «любви к старине» соединится с его, Сашкиным, окаянным миром, пахнущим водочным перегаром и тюремной парашей.









































