Текст книги "Чувства и вещи"
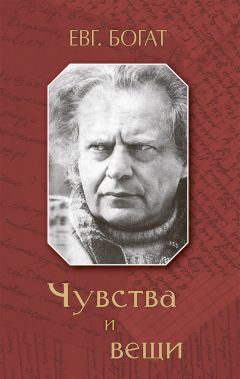
Автор книги: Евгений Богат
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Линд и его поисковый отряд решили восстановить имена и судьбы всех восьмидесяти музыкантов, исполнявших в первый раз в Ленинграде, во время блокады, Седьмую симфонию Шостаковича. Если учесть, что уничтожены были все документы с перечнем театральных и музыкальных коллективов; что большинство имен, а тем более адресов были забыты и сохранились в памяти старожилов и любителей музыки лишь отрывочно – туманные воспоминания («Помню, что первая скрипка жила в доме с аркой, окна которого имели оригинальную форму»); если учесть, что с тех пор миновало более тридцати пяти лет и большинство музыкантов умерло, а оставшиеся были разметаны жизнью (триста писем было послано тем, кто мог кого-либо и что-либо помнить), – вот если учесть все это, то и можно будет оценить по достоинству результат. Имена и судьбы всех восьмидесяти музыкантов, участвовавших в исполнении Седьмой в Ленинграде, были восстановлены.
А поиск углубился: теперь Линду и его воспитанникам захотелось восстановить имена и судьбы тех, кто хотя и не участвовал непосредственно в исполнении симфонии, но имел к этому событию какое-то отношение.
После исполнения Седьмой к дирижеру Карлу Ильичу Элиасбергу подбежала из зала девочка с живым букетом (это в осажденном голодном городе!). Она? Ее имя? Судьба? Искали и нашли. Любовь Вадимовна Жакова. Живет в Вологде; художник, мать четверых детей.
Пока оркестр исполнял симфонию, 14-й контрударный полк вызывал на себя огонь фашистских батарей, чтобы они оставили на это время город в покое. Стали искать имена артиллеристов. Собрали разнообразный материал о людях этого соединения.
Восемь лет искали летчика, который доставил в Ленинград партитуру Седьмой симфонии из Куйбышева, где, как известно, она исполнялась в самый первый раз. Нашли: Василий Семенович Литвинов, живет сейчас в Москве, пенсионер.
Сегодня в музее тридцать семь тысяч нот, афиш, театральных костюмов, рукописей, фотодокументов. В этом музее стоит рояль Дмитрия Шостаковича – тот самый, который был у композитора, когда он писал симфонию.
Поздней осенью в Институте физической культуры имени Лесгафта собрались выпускники 1959 года, чтобы отметить двадцатилетие его окончания.
Вечер удался.
Состояние души Линда было не только веселым и легким, но и высоким; делали высоким его немолчавшие музы, он переступил порог института в двадцатилетний юбилей окончания не с пустыми руками, не с пустой душой – в его жизни был музей, вобравший в себя мощь человечности.
И музы в тот вечер не молчали и в его сердце. Когда настала пора расходиться, уже за полночь, он был утомлен и возвышенно-радостен. Новая, незнакомая радость исходила из сознания, что жизнь удалась. Он был больше, чем учитель физкультуры, он был Учителем. Он учил детей помнить, потому что без памяти нет культуры.
Незадолго до этого вечера они нашли в архивах армейской печати стихи, написанные одним из тех артиллеристов, которые и отвлекали на себя огонь фашистских батарей. Кажется, и без стихов этих ясно все, нужна ли новая «музейная» единица? И без того музей переполнен документами. Да, музею как собранию экспонатов, и даже как экспозиции не мертвой, живой, и даже как «зернохранилищу добра» это лишнее зернышко не особенно нужно. Оно бесконечно важно как результат воскрешения, ибо большего чуда, чем воскрешение, нет, и непосредственное участие в этом чуде, даже отдаленная сопричастность ему, наверное, высшее благо. Чувствуешь бесценность жизни, когда воскрешаешь что-то.
Его полуночно-эйфорические размышления – Линд, возвращаясь домой, шел по уснувшему городу – разбились, как автомашина, налетевшая сослепу, на бегу на дерево или фонарный столб. Он остановился, пораженный тем, что увидел, выйдя на перекресток двух пустынных улиц, забыв моментально о стихах артиллериста и чуде воскрешения.
Несколько человек, окружив молодую женщину, молча теснили ее на соседний пустырь, она тоже молча озиралась с выражением муки, мольбы и отчаяния на каком-то неправдоподобно белом, будто мукой обсыпанном лице с полуоткрытым черным ртом. Об это лицо Линд и разбился. Увидев его, женщина закричала, она закричала негромко, по-детски беспомощно, из-за того, вероятно, что горло ее было перехвачено ужасом неотвратимо надвигавшегося несчастья, и один из мужчин быстро, почти синхронно зажал ей рот рукой, а второй стал заламывать руки.
Линд, не помня себя, кинулся, с силой оторвал чью-то пятерню от женского лица, и… исчезла женщина, как во сне, он не заметил даже, как убежала она. Ему ясно стало, что убежала она, лишь тогда, когда кольцо сомкнулось вокруг него и он увидел, понял, что он в этом кольце один. Он не почувствовал страха, потому что в этот вечер не было страха в его душе.
Но были для бесстрашия и более разумные, трезвые основания, чем окрыленность духа. Линд был лесгафтовцем, штангистом, тяжелоатлетом. И он не раз уже бывал в подобных ситуациях: один на один с воинствующими молодчиками, защищая от их нападения женщин. Он в шутку – без ложной скромности – называл себя «одним из последних рыцарей».
До рукопашной дело не доходило ни разу. Молодчики, видимо, чувствовали, угадывали его телесную виртуозность, и потом он шестым чувством педагога умел находить верный тон с ними. Верный тон, настраивающий обе стороны, без урона для самолюбия, на мировую.
Попытался Линд найти этот тон и сейчас. Ему показалось, что уместна тут мужская, с льдинкой, ирония супермена. Потому что он успел мгновенно увидеть, понять, что перед ним были не великовозрастные желторотые юнцы, понимающие лишь логику физической силы, и не шалые, забубенные, хмелем затуманенные головы, которые можно задобрить, расположить, сыграв тоже услаждающего себя вином битого и ломанного жизнью человека; не похожи были они и на матерых волков. Перед ним было шестеро молодых мужчин, лет двадцати пяти, с какими-то незапоминающимися, рыхлыми, инфантильными лицами. Лишь у одного выступало в челюсти что-то собачье, тяжко-бульдожье. Они по виду не обладали особой телесной силой и были трезвы.
Линд уже почти четверть века – со студенческих лет – воспитывал, лепил, испытывал ребят, ему достаточно было нескольких секунд, чтобы все это увидеть, понять. Но их было шестеро, шестеро молодых инфантильных мужчин.
– Ну что, – безмятежно улыбнулся Линд, – как говорили разбойники, кошелек или жизнь? Могу вывернуть карманы…
Они молчали.
Линд решил было уже действительно полушутливо-полущегольски вывернуть карманы – вот, мол, я весь, душа нараспашку, – подобной, не лишенной человечности шуткой дело, как ему казалось, могло закончиться. Но вдруг сообразил, что в одном из карманов лежат стихи артиллериста – стихи, даже не переписанные от руки, а выкроенные из армейской многотиражки, оставшейся, возможно, в единственном числе.
– Не надо, – не повышая голоса, выдавила бульдожья челюсть. – Нам нужна жизнь.
– Шутка, – все еще играя, уточнил характер этого высказывания Линд.
И тотчас же почувствовал, что лицо его стало мокрым – зарядил дождь. Его дом был виден отсюда – рядом, шагах в двухстах, за небольшим, но показавшимся теперь обширным пустырем.
И он, стараясь унять волнение, которое нарастало, пошел к дому… Кольцо распалось, они шли рядом молча, окружая его полукольцом, он ускорил шаг – и они быстрее пошли. Надо было что-то делать. Но что? Попытаться опять найти верный тон? Ошеломить ударом? Убежать? Подъезд рядом. Они уплотнили кольцо. Он увидел перед собой бульдожью челюсть и почувствовал сильный, расплющивающий губы удар. Он ударил сам в эту челюсть, тоже сильно, но поскользнулся на мокрой земле, упал навзничь, хотел быстро подняться, но на нем уже увесисто сидели трое. Ему удалось лишь оторвать от земли голову – он увидел, как двое побежали куда-то, потом все заслонила бульдожья морда.
– Мы будем убивать тебя медленно, – сообщил ему бульдог буднично, как говорят мужики между собой о куреве или о водке.
И тут Линд увидел опять тех двоих, куда-то убежавших: они возвращались, обхватив руками бетонную уличную урну для мусора и окурков. Они тащили ее, перекатывая, как бочку, по земле, потому что нести ее им было, видимо, не под силу.
Потом они подняли урну втроем – с бульдогом – и, держа по-прежнему на весу, опустили на голову Линда. Он потерял сознание, потом опять увидел над собой урну, потерял сознание – и увидел опять закрывшее весь мир широкое бетонное основание. Он понял шестым, последним из сохранившихся у него чувств, что они подняли ее в последний раз, и застонал:
– У меня двое детей.
Они опустили урну ему на голову. И – убежали, потому что послышалась (Линд ее уже не услышал) веселая песня: возвращалась полуночная компания в студенческое общежитие, расположенное по соседству.
Студенты увидели лежащего человека, подошли, ужаснулись… Кто-то побежал к телефону-автомату.
Думаю, будет лучше, если о дальнейшем расскажут ленинградская журналистка Серафима Матвеевна Драбкина и поэт Всеволод Борисович Азаров.
«…И как в Седьмой симфонии после жестокого марша, воплощающего тему зла, победно и торжественно возникает тема добра, так и тут, в истории с воскрешением нашего товарища. Да, это именно воскрешение. Студентам-полуночникам, которые вызвали по телефону медиков, было заявлено: “Тут нужен иной транспорт, он убит”. После уникальной нейрохирургической операции (череп был расколот как орех, и все основные сосуды и центры повреждены) медицинские сестры вынесли жене пучок его волос как печальную память – ведь надежды на то, что он выживет, почти не было. А когда после первых суток борьбы за его жизнь эта жизнь затеплилась, сердобольные люди жене говорили: “Лучше бы умер”.
Он был полностью парализован, абсолютно неподвижен…
Штаб по организации вечера воспитанников Института имени Лесгафта выпуска 1959 года узнал о несчастье наутро и решил стать штабом помощи Линду. Уже в самые первые, безнадежные дни и ночи у постели его дежурили товарищи, с которыми он отмечал юбилей 17 ноября. Когда стало ясно, что жить он будет, но обречен на неподвижность, были выделены лучшие массажисты-лесгафтовцы в надежде совершить невозможное. Они массировали его по восемнадцать часов в сутки, установив “конвейер” массажа, они забыли о сне и об отдыхе, потому что никто не освобождал их при этом от основной работы – руководителей кабинетов лечебной физкультуры, кафедр, амбулаторий и т. д.
Возглавили все это супруги Лебедевы – организаторы вечера, ведь у них в руках были все адреса и все телефоны. Линда массировали, массировали, массировали, массажисты-реабилитаторы работали как волы. И вот вздрогнула фаланга мизинца. Пошли в штаб телефонные доклады: пошевелил ступней, ожила еще одна мышца, согнулось колено. Все консилиумы не оправдали себя. Компетентные люди говорят, что подобной реабилитации никто после поражения сосудов головного мозга не помнит.
Но торжествовать было рано. Его выписали домой, но не только ходить, но и подняться в постели без посторонней помощи он не мог. И тогда массажисты уступили место “поводырям”, то есть мастерам лечебной физкультуры, тоже лесгафтовцам, участникам того юбилейного торжества. Они начали его носить, потом водить по комнате восемнадцать часов ежедневно, оживляли, как бы создавали заново его тело.
Линд сам себе помогал: по три часа в день играл на рояле, на гитаре, лесгафтовцы-психологи внушали ему уверенность, оптимизм. И все же долгое время передвигаться он не мог, его водили, водили, водили – и вот уже начали водить по улице и стали подниматься с ним по лестницам. Двадцать пять реабилитаторов-поводырей работали до седьмого пота. Были дни, когда они осиливали с ним до 50 этажей, до 5–7 километров. Их целью стало: Линд должен жить не только без костылей, но и без палки.
И они идут к этой цели. А у каждого семья, быт, работа. И до несчастья с Линдом каждому казалось, что сутки заполнены настолько, что и лишней минуты не остается на какое-либо незапланированное дело: ведь все это люди семейные, занятые и уже не первой молодости.
Они воскресили его. Вчера, сидя в кресле, – впервые после несчастья – он читал лекцию в музее “А музы не молчали”.
Мы хотим назвать имена этих людей. Елена Сергеевна Никитина, Вера Викторовна Красикова, Лариса Прокофьевна Трофимова, Мета Генриховна Саар, Михаил Григорьевич Гусев, ну и, конечно, супруги Лебедевы – Николай Алексеевич и Наталья Николаевна. Но мы еще не всех назвали. Это и супруги Пинчуки Вадим Платонович и Ирина Михайловна, и Юрий Юрьевич Снитовский, и Татьяна Павловна Громова, и Борис Петрович Кашуро, и Борис Иосифович Гендельман, и Виктор Константинович Пантелеев. Но мы еще опять не всех назвали. Чтобы назвать всех, надо, наверное, перечислить всех, кто участвовал в торжестве двадцатилетия. Это они воскресили Линда – если не лично, то посылая лекарства и письма.
Уникальную нейрохирургическую операцию выполнил заведующий нейротравматическим отделением Феликс Александрович Гурчин.
Мы не называем имен тех шестерых, которые медленно убивали нашего товарища, не только потому, что их имена недостойны того, чтобы стоять рядом с именами людей, но и потому, что они пока не известны, не найдены.
Мы можем назвать поименно только добро. Назвать поименно зло лишены возможности».
Письмо двух участников обороны Ленинграда, перенесших блокаду, журналистки С.Драбкиной и поэта В.Азарова, помогло мне рассказать о том, что убедительно как живое, достоверное, эмоционально насыщенное свидетельство и малоубедительно и иногда фальшиво как пересказ.
В самом деле, водят двое уже немолодых мужчин третьего по улицам, по лестницам каких-то неизвестных домов, установив норму пятьдесят этажей в день и пять, например, километров. Ну что об этом расскажешь? Или после рабочего дня массируют часами. И делают это день за днем, неделя за неделей.
Можно назвать это подвигом. А можно – нормой. Все зависит от точки отсчета. Если точка отсчета – отчуждение человека от человека, как в той очереди субботней к такси, это подвиг. Если иная, высокая человечность, это норма.
Назовем это нормой.
Мы видим, что быть добрым – это тяжело, в данной истории и чисто физически, это тяжело, как быть шахтером или пахарем. Это работа. Это труд, в самом непосредственном, буквальном смысле слова – труд души и труд тела. Труд до седьмого пота.
Воспевая и романтизируя доброту как нечто отвлеченно-возвышенно-красивое, как «чистую платонику», мы часто об этом забываем. Но так же, как от земной, неплатонической любви рождаются дети, так и от этой доброты может родиться – воскреснуть из мертвых – человек. Она тоже обладает рождающей силой.
Настоящая, воскрешающая (или человека, или что-то в человеке) доброта непременно сопряжена с неким не одним душевным, но и физическим усилием. Оно нужно не только для того, чтобы поднять беспомощно лежащую в арыке женщину, но даже чтобы отойти в сторону, уступить кому-нибудь маленькое и тем не менее долгожданное место. (Быть недобрым по большей части легко, даже физически; поэтому самый щедрый источник недоброты – лень души и тела.)
Путь доброты – путь наибольшего сопротивления.
Торг
1
Дело было во время летних каникул.
Володя Щербаков, студент второго курса Авиационного института, отдыхал у матери в родных Меленках, на Владимирщине. Меленки – не поймешь, небольшой город или большая деревня; административно это районный центр.
Володя вечером пошел на танцы, познакомился там с девушкой и с нею возвращался. А девушка жила не в самих Меленках, а рядом, в рабочем поселке; на дороге к поселку все и разыгралось.
Их догнали незнакомые ребята, которые тоже были на танцах: шесть человек, буйные и пьяные. Обложили тяжелым матом. Никто из них во время танцев ни к Щербакову, ни к девушке не подходил, но сейчас, на пустынной дороге, они потребовали, чтобы Володя возвращался в Меленки, убирался подальше и больше с «чужими» не гулял. Особенно хамил Алексей Маркин, шестнадцатилетний, но тянущий на зрелого мужика, с похабной речью и крупным телом. Собственно говоря, он был единственный в компании, кого девушка знала как соседа по улице, остальных, тоже беснующихся, она встретила первый раз в жизни.
Эти остальные, пятеро, окружили ее, оторвали от Щербакова, и она увидела, как Маркин сильно ударил Володю в лицо.
Щербаков не ответил. Хотя если посмотреть иначе, истинно человечески, то он именно ответил. Он не ответил ударом на удар, но ответил попыткой остановить разумом безрассудное бешенство.
– Хотя ты меня и ударил, – ответил он Маркину, упрямо шевеля разбитыми губами, – но я не трону тебя и пальцем. – Он поднял и показал не палец, конечно, а большие руки, – потому что не хочу изломать наши жизни…
В общем, как говорится в Писании, подставил и левую щеку. Маркин и по левой ударил. С еще большей силой.
Нет, Володя Щербаков баптистом не был. Но кулачной удали не любил с детства и с возрастом в нелюбви этой утверждался все убежденнее. Хотя и вырос он в деревне, где нередко дерутся не только в сердцах, но и потехи ради, особенно дети, и не обидел его Бог телесной силой, и с отрочества мечталось ему стать военным летчиком, что мало соответствует доктрине непротивления злу насилием, но вот жило в нем необоримое отвращение к кулачным делам.
Маркин ударил и по левой. Девушка закричала, кинулась с силой к Щербакову; за ней, обгоняя, побежал один из компании, Самойлов.
Последнее, что помнит Щербаков, – молниеносное движение Маркина, расстегивающего, выхватывающего, наматывающего на руку ремень, и потом нестерпимую острую боль в затылке… Девушка помнит себя, заслоняющую Щербакова. Самойлов помнит, что он отшвырнул Щербакова и тот упал навзничь…
Компания уходила, и девушка склонилась над ним. Он лежал лицом вверх, неподвижно, без сознания, потом очнулся, попытался улыбнуться, поднялся с большим усилием, и уже не он с нею, а она с ним пошли обратно в Меленки. По дороге он успокаивал девушку, даже шутил. Она довела его до дома только к ночи, а утром ему стало хуже, болела голова, тошнило. Володя пошел с матерью в больницу, там его оставили. В истории болезни записали: рваная рана (2 см на 1), сотрясение мозга – и определили повреждение как легкое, пообещав Володе, что через несколько дней он выздоровеет.
Но из больницы он выписался только через месяц, и после выписки стало ему совсем худо: шатало, мутило, не жилось… Володя обратился в областную больницу, его осмотрели, уложили опять и повреждение определили уже не как легкое, а как менее тяжкое (да извинит меня читатель за несколько неуклюжий юридический термин), установив ушиб головного мозга.
Выйдя из больницы, Володя начал усердно лечиться, потому что хотел жить, летать. Зачастил в аптеки… Лишь поздней осенью с усилием выбрался в лес и долго не мог понять, почему в лесу ему не по себе. Будто недостает чего-то истинно лесного. А когда стал догадываться – не поверил, опять пошел в больницу. Там установили: он навсегда утратил обоняние.
К тому времени подоспел и суд. Меленковский судья Казаков вел дело к тому, что случилась ссора на почве неприязненных отношений, в этой ссоре Маркин из чувства ревности два раза ударил Щербакова, а Самойлов, разнимая дерущихся, нечаянно толкнул одного из них и тот упал, ударившись «затылочной частью об асфальтовое покрытие». Мне неизвестно, чем руководствовался судья, игнорируя то, что не может быть неприязненных отношений между людьми, совершенно незнакомыми и нельзя назвать дерущимися двоих, из которых один избивает, а второй увещевает.
В Меленках говорят разное о мотивах судьи. Я же не буду опускаться до районных пересудов, а остановлюсь на собственной версии: сердечная доброта и жалость к этим ребятам, которых он видел с их ранних лет на улице, на реке, в лесу, одержали, возможно, верх над юридическими соображениями и доводами. Судье не хотелось посылать их в тюрьму, в колонию, отрывать от семьи, от родных мест, не хотелось, чтобы шалый час на шоссе изломал их судьбу.
Я избираю эту несколько романтическую версию как рабочую по двум соображениям. Первое: я не могу оставить без объяснений наказание, которое было назначено Маркину и Самойлову, настолько оно несоразмерно их деянию, а объяснить его иначе, чем гуманистически возвышенно, я тоже не могу, не имею для этого оснований. Второе же соображение основано на том, что как раз к моменту суда у нас наметилась тенденция, направленная на смягчение наказаний, в особенности по отношению к несовершеннолетним, а также к тем, кто нарушил закон первый раз в жизни. Моя несколько романтическая версия состоит в том, что эти гуманистические тенденции меленковский судья воплощал в жизнь из лучших побуждений, но, увы, некомпетентно, на низком юридическом уровне.
Алексей Маркин был оштрафован на пятьдесят рублей (за «неосторожное» – опять юридический термин – нанесение менее тяжких телесных повреждений).
Что же касается Самойлова, то он от наказания был освобожден полностью (с ним побеседовали в комиссии по делам несовершеннолетних, осуществив, как написано в документах, «меры общественного воздействия»).
(И дальше жизнь обоих шла нормально. Они кончили техникум, отслужили в армии, вернулись в Меленки, начали работать: один – в дорожном управлении, второй – в совхозе. Работали нормально и веселились нормально – в меру, закона ни разу не нарушив, и в этом полностью оправдали доверие судьи.)
А вот Щербакову становилось хуже и хуже, он не мог учиться, ему дали большой академический отпуск. И началась унылая, медленная, ненормальная для молодого человека больничная жизнь. Доктора теперь определяли полученное им повреждение как тяжкое. В их заключении появились безрадостные фразы: «органическое повреждение черепно-мозговых нервов», «астенизация личности», «расстройство обоняния». Он утратил работоспособность больше чем наполовину. Начал получать от государства пенсию как инвалид.
Он узнал – сосед по палате рассказал, а потом и медики подтвердили, – что в одном из неближних санаториев хорошо лечат подобные нарушения центральной нервной системы иглоукалыванием. Написал в родной Авиационный институт, и ему помогли достать путевку. Он поехал, ему стало лучше, доктора посоветовали повторить, он поехал опять.
Получал пенсию Володя, получала пенсию, чуть побольше и уже по возрасту, мать, и самую большую пенсию в этой семье получала бабушка. Но и трех пенсий при самой непритязательной жизни на бесчисленные лекарства и лечение в неближнем санатории не хватало, чем дальше, тем острее. Юристы и медики давно говорили Володе, что, согласно закону, расходы на лечение должны возместить ему люди, виновные в том, что он стал инвалидом. Судиться в его состоянии было тяжело, но выхода не было, и он составил иск, включив в него стоимость лекарств и железнодорожных и автобусных билетов (за путевки он заплатил только третью часть стоимости, поэтому в иск их не включил – совесть не позволила).
К меленковскому судье Казакову у Щербакова доверия – что поделаешь! – не было, и он попросил в области, чтобы иск рассматривал суд соседний – Муромский. Получив согласие, передал туда документы.
Недалеко до Мурома, но и не близко – несколько часов езды на автобусе. Щербаков, поехав туда первый раз с матерью (без матери ему врачи не советовали и даже не разрешали ездить), не думал и не гадал, во что сложатся эти часы за долгие-долгие месяцы, пока дело будет тянуться.
2
Муромский судья, получив иск, вызвал Маркина и Самойлова. Вместо Маркина, без пяти минут совершеннолетнего, явились его родители. Судья познакомил ответчиков с делом – те долго, искренне не могли понять, чего от них хотят. Судья терпеливо объяснил суть закона, обязывающего виновную сторону возместить в полном объеме ущерб, нанесенный личности или имуществу потерпевшего. Его выслушали тоже терпеливо и ответили: «Побили-то давно, а обеспечивать сегодня!» И тут только до собеседников муромского судьи дошла сумма – более трехсот рублей.
– Это что же, – возмутились они, – штраф был пятьдесят рублей, а на лечение триста?!
– А если бы штраф был триста, а на лечение пятьдесят, – заметил судья, – поняли бы?
– Это куда ни шло: вина больше расхода…
– А сейчас вы не чувствуете себя виноватыми?
– Были бы виноваты… – замялись они.
– Посадили бы в тюрьму, – закончил за них судья, – а раз не посадили – не виноваты! Иск будем разбирать по закону, рассмотрим билеты, рецепты…
– Да уж рассмотрим, – пообещали ответчики. – Триста рублей!
Вернулись в Меленки и наняли адвоката, чтобы защищал их законные интересы.
И начался мучительный, как лечение, долгий разбор иска. Поначалу Щербакову казалось самым тягостным то, что разбор все откладывается и откладывается: он ездил с матерью в Муром, а ответчики не являлись, и возвращались Щербаковы в Меленки ни с чем. Болела голова, было стыдно.
Наконец суд… Самойлов явился лично, а вместо Маркина – опять родители (видно, берегли сына!). А с родителями – родственники, кумовья, добрые соседи. Они и составили «публику», а «публика», ее настроение, определила атмосферу зала, в котором и рассматривался иск о возмещении…
Это настроение («Дармоед, курортник, кусок от работяг отрывает») выразил до начала заседания большой сердитый дядя, одетый уже по-зимнему, хотя стояла осень (третья осень после той, когда пьяная компания нагнала Володю Щербакова с девушкой на дороге к поселку).
Сами виновные работягами пока не были, но родители их действительно работали: отец Маркина – на руководящей должности в районном автодорожном управлении, мать – в булочной, родители Самойлова – в совхозе.
Первое, что взорвало ответчиков, – рубль в день за дополнительное питание в больнице (не за все лежание, конечно, а за те немногие недели, когда стало чуть лучше и аппетит появился).
– Надо доказать, что он нуждался в дополнительном питании! – шумел могучий молодой Самойлов. – Пусть добудет подписи, удостоверяющие, что он нуждался. Пусть докажет!
– Ты заслужи его, заслужи делом перед обществом, – строго, обстоятельно советовал дядя в зимнем.
– Дополнительное питание!.. – с тихой яростью шумел зал.
– А что, избаловался на курортах, – заключал дядя, которого судья пригрозил удалить.
– Нужны солидные подтверждения, – заявил адвокат, защищавший интересы Маркина и Самойлова. – В больницах кормят хорошо, тянет, конечно, выздоравливающего к деликатесам, но документы-то не оформлены… – Он склонен был тут уступить: и сумма небольшая, и тема щекотливая. Он склонен был тут уступить, чтобы дать генеральный, победоносный бой при рассмотрении рецептов и билетов, железнодорожных и автобусных.
Щербаков стоял, как тогда, на шоссе, стараясь воздействовать разумом, разъяснить, доказать, и понимал уже, что снова, как и в ту ночь на шоссе, получит еще и по левой щеке…
Наименования лекарств были написаны на рецептах, как и полагается, по-латыни. Адвокат потребовал, чтобы их перевели на русский, переводчика с латинского языка в Муромском суде, естественно, не оказалось, и судья ходатайство отклонил. Тогда адвокат объявил большинство рецептов недействительными на том основании, что на них поставлен лишь штамп лечебного учреждения, а не печать.
Щербаков терпеливо объяснил, что рецепты с печатями остаются в аптеке, потому что выписываются для получения лекарств, содержащих наркотические вещества. В иске есть документ, подтверждающий, что аптеки эти лекарства отпускали, их тоже надо будет оплатить, несмотря на то, что рецепты отобраны… Судья зачитал справку, выданную аптекой. В этом документе стояли лекарства дорогие, и когда судья дошел до одного, стоимостью 3 руб. 90 коп. дядя в зимнем опять не выдержал. «Это что же, – помертвел он большим лицом, – дороже водки? За что?!»
Его удалили из зала, и суд дальше разбирал рецепты, железнодорожные и автобусные билеты, и то, почему Щербаков ездил на консультации не один, а с матерью, и почему он был в санатории два раза, а есть люди, ни разу и не отведавшие санаторного лечения, и почему, и зачем, и почему… Наконец ответчики заявили, что Щербаков вообще никуда не ездил, а мать его на вокзалах и автобусных станциях собирала билеты.
Суд удовлетворил иск Щербакова и вынес решение: взыскать с Маркина и Самойлова солидарно триста рублей в его пользу. Но пользы от этого Щербакову не было никакой, а были лишь новое унижение и новая мука. Маркины и Самойловы начали жаловаться во все инстанции, что Муромский суд не «исследовал реальность и достоверность документов»; настроены они были воинственно и зло, называли Щербакова «симулянтом» и «любителем курортной жизни», а сумму в триста рублей – просто фантастической, ни с чем несообразной.
Наверное, – я пытаюсь понять две эти семьи, Маркина и Самойлова, в их борьбе с Щербаковым, – наверное, дело в том, что они собственную вину измеряют штрафом в пятьдесят рублей. Не изломанной человеческой судьбой, не тем, что мы в этой судьбе потеряли, а строго и четко размером назначенного им наказания. То великодушие и милосердие, с которыми отнесся к ним суд, наказав мягко, не поняты ими. Совершенно не поняты, может быть, потому, что осуществлено это было юридически некомпетентно, осудили, в сущности, не по той статье, которой они заслуживали. Но лично я думаю, что судья, обладающий более четким юридическим мышлением, чем Казаков, тоже мог, разумеется, по статье более строгой, избрать мягкое наказание, самое мягкое, не отрывающее несовершеннолетних ни от семьи, ни от родного города, ни от нормальной жизни. И лично я одобрил бы подобную гуманную меру в отношении их, одобрил бы даже сейчас, когда мне известно все дальнейшее их поведение. Потому что перевоспитывать их и в самом деле надо не в колониях общего, а тем более усиленного режима (куда первоначально клонило обвинение), а в нормальной жизни. Они не повторили ни разу и, уверен, не повторят того, что произошло тогда, на дороге в поселок. Но они остались нравственно не разбужены.
Любитель жестких мер, вероятно, мне возразит: тюрьма бы их разбудила. Нет, разбудить их надо именно в нормальной жизни, потому что они социально не опасны. Но разбудить достаточно реально. То, что жестокие меры наказания уступают место менее жестоким, даже мягким, отрадно. Но жестокие – реальны, а нежестокие часто оказываются нереальными. Нереальными не потому, что, как в нашей истории, это только штраф в пятьдесят рублей, а не, например, два года условно, а потому, что человеку, нарушившему закон, не раскрыли ни на суде, ни после суда всю меру вины перед обществом и всю меру великодушия общества к нему.
Уменьшая наказание, общество отнюдь не уменьшает вину.
Ни на первом суде, в Меленках, ни даже на втором, при разборе иска в Муроме, ни в тех вышестоящих инстанциях, куда писали ответчики, не желая платить, им не раскрыли их вины полностью. Даже в финансовом, в чисто финансовом отношении, что тоже убеждает, не показали, как эта вина велика…









































