Текст книги "Чувства и вещи"
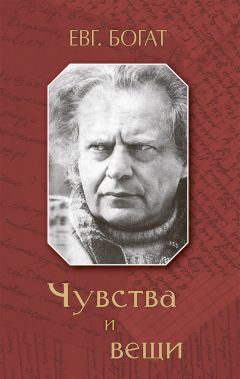
Автор книги: Евгений Богат
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
– А вас-то, – не удержался я вдруг, – лечили когда-нибудь?
– Меня? – повеселела она даже. – Зачем же? Я ничем не болела. Однажды от рева надорвалась, но то давным-давно было. Жили мы тогда в тайге, в Сибири, папочка мой любил по земле шастать. Моряк он… С морем у него любовь не вытанцевалась. Корабль алкашей не жалует. Вот он и перенес на землю, видно, эту страсть – по морям, по волнам… Сегодня – на Чукотку, завтра – на Сахалин. А мы за папочкой… плывем! А тогда он то ли золото мыл, то ли мех добывал дорогой, а мы с мамой оставались одни в поселке. И пошла мама на почту за десять верст, писем от папочки ждала, любила. А тут буран, носу не высунешь. Она и осталась на почте. А я одна надрывалась от рева, трех лет не было мне. Кто ж мог услышать? Кто ж мог утешить? Три дня и три ночи… В буран и собственного голоса не услышишь, не то чтоб чужого…
(С матерью Наташи я познакомился не до, а после посещения колонии. Она жила одна в двух комнатах, поражавших какой-то больничной чистотой. Поскольку меня не ждали, было ясно, что это не мимолетность после генеральной уборки, а стиль, черта уклада, стерильность одиночества. Сын, унаследовав, видимо, «охоту к перемене мест», начал убегать из дому с восьми лет и сейчас работал в Сибири, часто менял стройки, писал матери редкие письма; дочь была в колонии; муж канул в безвестность…
Мы сидели за столом, на котором быстро появились конфеты и апельсины. Женщина выглядела совсем не старой, и чувствовалось в ней суровое достоинство, гордость замкнутой души, мужественно и скрытно боровшейся с жизненными невзгодами, ставшими повседневностью. Она рассказывала, что раньше работала в мастерских швеей две смены, с утра до полуночи, чтобы дети не нуждались ни в чем, были сыты и одеты неплохо. А сейчас устала и тянет лишь полторы смены, а больше и не надо, можно было и до одной сократиться, «жизнь-то богаче стала!». Да, дома не мед. У окна, в углу, стоял дорогой, огромный, новейшей модели телевизор, он царил в комнате, похожий на роскошное надгробье…
Мы говорили долго, и меня удивило, что мать не помнит тех трех дней и ночей, когда буран задержал ее в тайге на почте и Наташа от рева надорвалась до синевы, до потери сознания. «Может быть, – печально качала она головой, – может быть». А когда я передал просьбу от Наташи, чтобы мать переслала ей туда тушь для ресниц, лицо женщины передо мной стало непроницаемым, отчужденным, и у меня недостало духу досказать, что, помимо туши, Наташе нужна и хна для волос. Я чувствовал: это вне понимания нестарой, но суровой женщины. Вот в комнате этой и сидит часами Андрей. «Молчит, как неживой», – подтверждает с сумрачным удивлением мать…)
Я чувствую, Наташе хочется уйти от себя, вернуться к «Войне и миру» – и помогаю в этом ей.
– А не скучно перечитывать через три года? Ведь память-то у вас…
– А понимаю я по-новому, – перебивает она меня нетерпеливо-радостно. – Вот когда первый раз в ПТУ для трудных подростков читала, ужасно хотелось, чтобы Анатоль Курагин Наташу похитил, чтобы на тройках они, на тройках, да в тайную церковь! Чуть не заплакала от досады, что им помешали. А сейчас почему-то хотелось, чтобы с самого начала она, Наташа, на него не оглядывалась. Или чтобы помешали им раньше, до тройки. Почему это?
Я не отвечал, но, восстанавливая лихорадочно в памяти бессмертные страницы, подумал: может быть, дело в понимании ценности нравственного барьера? Ведь для Наташи Ростовой Анатоль был единственным человеком, вызывающим странное, волнующее чувство отсутствия этого барьера между нею и им. А может быть, дело в том, что и тут тоже Наташа и тоже Андрей. В настоящем повествовании я ряд имен изменил, но эти, Наташа и Андрей, оставил в неприкосновенности.
– И новое то, – рассказывала она дальше, – что теперь я иногда не соглашаюсь со Львом Толстым. – Лицо мое, видимо, выразило удивление, столь искреннее, непосредственное, что она рассмеялась. – Вот помните у него: «Можно зарезать, украсть и все-таки быть счастливым…» В первый раз, в ПТУ, я тоже поверила: можно. А тут поняла… – Она понизила голос до шепота, будто сообщая мне что-то особенно важное и тайное: – Поняла, что нельзя украсть, зарезать и быть счастливым. Это только кажется, что можно. А тут, в колонии, понимаешь: нет, нет…
Она опять напряглась, как струна, голос ее опять зазвенел. А успокоившись, посмотрела на меня с каким-то новым, размягченным лицом.
– А кто, по-вашему, в мировой литературе чаще опускался на колени – мужчины перед женщинами или женщины перед мужчинами?
– Никогда об этом не думал, – сознался я честно.
– Тут у нас, – показала на окно, – учительница одна, не в школе, а тоже заключенная, по ревности наглупила, она-то и рассказала однажды, что в мировой литературе женщины чаще опускались на колени перед мужчинами. Наши девчонки не поверили, конечно, даже рассмеялись: ваша, говорят, мировая жизни не нюхала. А учительница начала именами сыпать, кто стоял и перед кем. А по-вашему, действительно мы чаще стояли, чем они?
– А вам хотелось перед кем-нибудь встать на колени?
– Да, – ответила она, посуровев; это была единственная минута, как понял я потом, когда в ней выступило что-то от матери. – Перед Андреем. Тогда, в комнате у следователя… Я не хотела его видеть. Он вошел – кинулась бежать, удержали. А он подошел к столу, положил на него те часы и обратился ко мне торжественно: «Я люблю тебя». Вот тогда… – Помолчала. – Я ему те часы подарила, когда ни его, ни себя не понимала, а потом хотела отобрать, разбить, но не могла, не умела объяснить, почему. Нельзя украсть, зарезать и быть счастливым. Я это до колонии даже, в последние недели перед арестом, понимать начала. Из-за него… Ну, – посмотрела на «дело» на столе передо мной, – вам про меня все, конечно, известно: и про драки, и про кражи, и про тот ноябрьский вечер. Да?
В этом ее «да?» почудилась мне странная надежда, что, может быть, известно не все, а в убийственные подробности того ноябрьского вечера я не углублялся, не рассматривал их через линзу. Но я не хотел сейчас с ней лукавить и ответил честно:
– Да, известно все.
– Ну, – тряхнула головой, – расскажу, чего нет в «деле», иначе не поймете про те часы. Ну, вышла я из ПТУ для трудных, меня туда учителя услали через комиссию для несовершеннолетних, мамочка тоже постаралась, решила, что там мне будет лучше. Вышла и стала работать на радиозаводе, выращивать кактусы, я в ПТУ на садовода училась… – выговорила она на одном дыхании, с непрерывностью разбега. – Потом надоели мне кактусы, затосковала, перешла на монтаж, опять затосковала, познакомилась с Викторией. Я и рублем не обогатилась в ее хореографическом училище, хотелось чего-то небудничного, острого… Но об этом вы можете из «дела» узнать.
А я вам расскажу про вечера танцев в Академии художеств. Вот стоишь, он, кто-то, подойдет: «Потанцуем, малышка?» – «Потанцуем». Он улыбается, и ты улыбаешься. И удивительное чувство: тебе хорошо, хорошо потому, что от тебя ничего не берут и тебе ничего не дают, и не надо думать о завтра. А повсюду иначе: непременно что-то дают и что-то берут. А тут – освобождение. И было, – наморщила лоб, – нет, казалось, что было хорошо. До Андрея… – Она опять задумалась, улыбнулась. – Вот вы о фантастике меня спросили в самом начале. Рассказать вам об «острове обратного времени»? Было это тоже до Андрея. Однажды и его я туда завела. И там хозяин «острова», художник – его мастерская и называлась «островом», – устроил Андрею испытание. Показал ему репродукцию интересной картины, изображена на ней обнаженная – ну совершенно! – молодая женщина, изображена со спины, лица не видно, но можно его и различить, потому что мальчик Амур держит перед ней зеркало.
Андрей мой рассматривал это долго, а потом художник шепнул мне: «Несовременный он у тебя, он не тело, а лицо в туманном зеркале изучал». Это испытание называлось на «острове» тестом на современность. Больше с Андреем мы туда не ходили. Андрей шутил: «Будем устраивать себе тесты в лесу, на берегу моря». Он и в самом деле загадывал мне: на что похоже облако, закат, что слышно в шуме волн? Я отвечала, он определял мой характер и мою жизнь, иногда точно-точно. Я даже устрашалась: узнает в самом деле. Но не узнал, что жила я в те дни в страхе перед арестом. Ничего нового не было, понятно, но ведь старое-то оставалось. Я мечтала: если бы можно было в самом деле найти остров обратного времени, чтобы не было ни хореографического училища, ни того ноябрьского вечера… Но старое оставалось, и я старалась не видеть у него те часы.
Она умолкла, потом опять достала портсигар, но не закурила, а отодвинула в сторону сигареты, показала мне за ними маленькую фотографию Андрея.
«Училась плохо, рано начала употреблять алкогольные напитки, в поведении наблюдались элементы цинизма, дурно влияла на окружающих, была лжива…»
Из характеристики, выданной школой при решении вопроса о направлении в ПТУ для трудновоспитуемых
«…Была лживая, эгоистичная, имела много замечаний за недисциплинированность на уроках, на линейке, в столовой. Очень нервозна, часто меняет взгляды, настроения; но также показала себя с положительной стороны: очень способная в учебе, с хорошими организаторскими способностями в подготовке карнавалов, вечеров, любит много читать, интересуется театром. Очень ласковая, добрая, отзывчивая…»
Из характеристики, подписанной воспитателем ПТУ Сухопаровой
«Наташа вела себя на суде с большим достоинством, она ничего не скрывала и не просила снисхождения. Была искренна и мужественна. Мне кажется, в ней началась тогда, а может быть и раньше, большая духовная работа».
Из высказываний судьи А. Шаговой
«Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить?..»
Лев Толстой, «Война и мир»
4
После ознакомления с документальной основой дела, после разнообразных встреч в женской колонии и вне ее я решил подробно побеседовать с судьей Антониной Павловной Шаговой. Первые разговоры наши были официально-мимолетны: я обращался к ней за разрешением получить в архиве суда интересующее меня «дело», затем за различными разъяснениями по поводу тех или иных документов, но уже тогда она поразила меня. Хотя, разумеется, формула тех впечатлений выкристаллизовалась лишь после подробной беседы, от сочетания милой женственности, ясного ума и того не поддающегося четкому определению качества, которое я назвал бы удивлением перед злом. Если бы я почувствовал это качество не в ней, опытном, с почти двадцатилетним стажем судье, а в инженере или агрономе, оно показалось бы мне, пожалуй, чуть наивным, даже, быть может, ребячливым. Но тут, в сочетании с богатыми наблюдениями над разнообразными уродствами и сосредоточенными раздумьями о жизни, это качество утрачивало наивность, воспринималось как напряженный нравственный поиск какой-то все время ускользающей истины.
Объясняя мне что-то, она скрупулезно-точно излагала бесспорно установленный факт, но то была точность не «умной машины», а живого, глубоко чувствующего, сострадающего человека, именно со-страдающего, особая точность – при безупречной верности факту возвышающаяся над ним.
Вот и сейчас, в первые минуты нашей подробной беседы, Шагова начала суховато-корректно излагать подробности дела и в то же время – я это чувствовал – думала про себя о чем-то, что не имело к ним формального отношения. И в какую-то минуту оторвалась почти неуловимо от фактов, как отрывается от земли при взлете реактивный самолет, открывая по-новому, с новых уровней нарастающей высоты, местность, в которой мы только что надежно обитали.
– Вы видели Викторию и Наташу. Не менее интересны Лаура и Мила. Первая скрылась тотчас же, когда возбудили уголовное дело; кстати, она участвовала лишь в одном из разнообразных эпизодов – в краже вещей из балетного училища. Вторая, Мила, судима была с Викторией и Наташей, она участвовала в двух самых уникальных, диких эпизодах. Отбывала Мила наказание в колонии для несовершеннолетних в соседней республике.
Несколько слов о Лауре. Она из семьи интеллигентов далеко не в первом поколении – семьи адвокатов, врачей, в доме у нее одна из лучших в нашем городе частных библиотек, есть старинные книги, даже времен Екатерины Второй. Сама Лаура – сейчас ей двадцать – владеет английским, польским, итальянским и шведским языками, ведет дневник, пишет стихи. Я ни разу в жизни ее не видела, сужу по рассказам окружавших ее людей, которые выступали на суде.
Окончив школу, она больше нигде не училась, участвовала в массовках на киностудии, работала экскурсоводом. Накануне возбуждения уголовного дела вышла замуж за того самого молодого человека, который ожидал ее и Наташу у театра, когда они там, наученные Викторией, обворовывали учениц хореографического училища. Вот его показания; возможно, вы не обратили на них внимания: «Я ожидал Лауру в том месте, которое она мне назначила, – у Театра оперы и балета. Она вышла с Наташей и с сумкой, которую нес не помню кто. Я подошел к ним и, как джентльмен, взял сумку, которая была наполнена и тяжела. Из их разговора я понял, что в сумке украденные вещи. Я был удивлен этим, но решил удивления не высказывать. Из этих вещей потом Лаура передала мне часы марки “Восток” № 2209. Я их возвращаю. Судьба остальных вещей мне неизвестна…» Потом они поженились.
Если помните, Наташа тоже подарила жениху похищенные часы. Можно подумать, – бегло улыбнулась Шагова, – они воровали, чтобы одаривать женихов. К этому мы с вами еще вернемся.
А теперь несколько слов о Миле, Милочке, как называли ее в этой компании. Она из семьи рабочих в первом поколении – ее родители перебрались в ранней юности в город из деревни. Поначалу жили весьма бедно, выполняя разные малоквалифицированные работы. Тогда-то они и познакомились. Потом поступили на высокомеханизированный завод, учились, стали рабочими редкой квалификации, заработок их в общей сложности начал достигать четырехсот рублей в месяц. В этой обстановке резко растущего благосостояния росла Милочка. Воспитание ее, если хотите, заключает целую философию. Суть ее в том, что родители, набедствовавшись в послевоенные годы, хотели, чтобы дочь была осыпана земными благами как бы втрое – за себя и за них, не получивших их когда-то. Они и хлеба-то, было время, досыта не ели, а она одевалась по последним парижским моделям. Они и теперь, при заработке в четыреста рублей, были, в сущности, людьми аскетического склада, не позволяющими себе ничего, что выходило бы за рамки скромных потребностей. Зато щедро унавоживали почву, на которой и рос этот экзотический цветок. Оригинальность этого растения определилась четко в тот ноябрьский вечер…
Но вернемся к переломам – исследовать их нужно, чтобы лечить и вылечивать.
Особенность «дела», которое вас заинтересовало, в том, что подсудимые незаурядны как личности и в то же время эта их одаренность, даже талант оказываются бесплодными, потому что лишены нравственной основы. Это люди, у которых начисто отсутствует чувство этической ответственности за себя, за собственный внутренний мир. Это люди, которых все время надо держать за волосы, чтобы они не утонули: их не научили, и они сами не научились плавать…
– И тут, – рассказывала дальше Антонина Павловна, – возникает порой некая фигура, я бы назвала ее условно «творцом антиидеалов». Возможно, мы найдем ее с вами и в деле, которое исследуем. Они в колонии не рассказывали вам об этом? На суде были скрытны… Идеалы формировались в течение веков. Ради них шли на костры, в каторгу. И вот некто «опровергает» их с помощью нехитрой логики, по которой отсутствие белого означает торжество непроницаемо черного. И нет великих истин истории, а есть эффектные «истины момента». Обнаружив вакуум, он заполняет его антиидеалами. Если нет абсолютной доброты, будьте злы, если сию минуту были к вам несправедливы, отвечайте тем же всю жизнь. В общем, нравственный, а точнее, безнравственный словесный ширпотреб. Почему бы после «сеанса развенчания» не сорвать в переулке меховую шапку с головы старой женщины, издевательски объяснив ей, что это наказание за то, что она первой не поклонилась незнакомым молодым людям? Я возвращаюсь к реальным подробностям нашего дела.
Подробности эти, дополнял я мысленно мою собеседницу, сопряжены с особым пониманием вещей, с особой «философией вещей». Та же самая меховая шапка, которая, наверное, была дорога не только как шапка…
Вещи, то есть непосредственное окружение человека, то, что у нас постоянно под руками, лишенные «человеческого измерения», нравственного содержания, становятся вещами в самом вульгарно-бездуховном смысле. И в этом качестве они уже не служат общению людей между собой, не обогащают их взаимоотношений. В них перестают видеть историю. В них перестают видеть резкую индивидуальность…
– В старину любая вещь – шкатулка, стул, ожерелье – была действительно резко индивидуальна даже для самого невзыскательного человеческого сознания: ее делали, точнее, не делали, а вынашивали руки. Этими руками мастер думал и оставлял на вещи отпечаток собственных мыслей о мире. Сегодня вещи несут на себе не отпечаток личности мастера, а монотонную печать машины – часы, косынки, мужские портфели (Виктория и Наташа воровали их тоже), но обслуживают они – согревают, радуют, тешат – не машины, а людей. Вот и надо в любой, в любой вещи видеть отпечаток личности, пусть не создателя, не творца…
– …а вас, меня, кого угодно, – закончила мысль мою Шагова. – Сейчас, – сокрушенно вздохнула, – это умеют делать только криминалисты. Им-то хорошо известно, что любая вещь заключает в себе нечто сугубо интимное. Отчасти поэтому и раскрываются самые загадочные кражи, убийства… – И в лице ее, посуровевшем, опять мелькнуло то удивление перед злом, которое будто бы и несовместимо с опытом и мудростью судьи.
– Если вещь – часы – лишена человеческого содержания, – говорила она, – какая разница, украсть или любовно выбрать для подарка? Ведь число камней в механизме, точность, ценностная стоимость от этого не изменяется. «Маяк» и есть «Маяк», «Заря» и есть «Заря».
Но вещь – в этом ее тайна – не может быть «ничейной», она может быть или человечной, или циничной. А цинизм вещей опасен. Мы попадаем в расчеловеченный мир. В этом мире человек к человеку тоже начинает относиться как к вещи. И тогда становится возможной и даже закономерной драма, которая разыгралась в вечер тринадцатого ноября…
И мы еще долго говорим о вещах – об их могуществе и бессилии, об их доверчивости и коварстве.
– Ну а если вернуться к нашим «героиням», – закончила Антонина Павловна, – то, помните, я говорила вам, что уже на суде началась у них, у Наташи в особенности, какая-то серьезная внутренняя работа, и я верю…
Тут я подумал о воспитательнице ПТУ Сухопаровой, увидевшей в Наташе рядом с эгоистичностью отзывчивость и ласковость, о педагоге хореографического училища Евстигнеевой, которая до последнего мига боролась за театральную будущность Виктории, и о той надзирательнице, что сейчас, в колонии, ставит компрессы на ее расшибленные ноги, и открыл вдруг, что рядом с девушками, которых судила Шагова, были и остаются хорошие, добрые люди и это делает торжество зла в их судьбах далеко не окончательным. Да и сама Шагова вызывала уверенность: тяжести болезни соответствует мудрость врачей. И это обещало исцеление.
Но чтобы оно было полным, надо рассмотреть до мельчайших подробностей рентгенограммы «переломов судьбы».
«Мы живем с вами в век научно-технической революции. А это не только новые идеи, новые машины, новый ритм жизни, но и новый стиль отношений между мужчиной и женщиной, новые моды, новые удовольствия… Посмотрите, в моих шкафах полным-полно модных вещей. Висят как мертвые. Не наденешь, засмеют на нашей улице. Надо учить людей понимать и ценить современность не только в технике, но и в музыке, даже фасоне юбки!»
Из высказываний Лауры после ее возвращения в родной город с «повинной», последовавшего за опубликованием указа об амнистии
«А что, война в самом деле была такой страшной, какой ее показывают в кино? Один мальчик в колонии у нас говорил, что она не была такой страшной, это в кино сейчас показывают ее такой, чтобы поволновать нервы. Кино у нас показывали часто…»
Из высказываний Милочки, возвратившейся после амнистии в родной город
«У нас будут великолепные, выпускаемые сериями музыкальные инструменты. Но где взять музыкантов?»
Сент-Экзюпери
5
События ноябрьского вечера играют исключительно важную роль в понимании душевного склада и судеб молодых людей, о которых я повествую. Именно они выводят эту историю из разряда обычных, «банальных» уголовных историй и делают ее достойной сосредоточенного рассмотрения.
Казалось бы, этих событий ничто не обещало, потому жестокость спонтанная. Что было раньше? «Рядовое», «заурядное», бесконечное сидение в кафе, наркотическое увлечение поп-музыкой, «обыкновенные» кражи и «обыкновенные» хулиганские действия… И вот взрыв!
События ноябрьского вечера заняли особое место и в обвинительном заключении, и в судебном разбирательстве, и был у меня соблазн именно с их описания этот очерк и начать – для большего эффекта. Но я понял, что неизбежен взрыв, чисто эмоциональный, со стороны читателя и после этого спонтанного, ослепляющего гнева трудно ему будет соразмышлять со мной, исследуя совместно непростую историю. Поэтому лучше показать героинь уже после суда, после первых тяжких – может быть, самых тяжких – месяцев жизни в колонии и лишь потом, когда будут очерчены, хотя бы и бегло, их ощутившие что-то новое, живые, ищущие выхода души, рассказать это…
Днем они сидели в кафе, потом зашли к одному юноше по имени Альбертик, у него были отличные записи поп-музыки, послушали, подвигались в такт, вышли. Вечер был темный, ненастный, с моря тянуло сырым холодом. Пошатались немного по малолюдным улицам, встретили нескольких человек из родственных компаний, вышли к собору…
Собор, завершенный в XVI веке, господствовал в старой части города, делал очерк его четко-торжественным и даже в эти ненастные осенние вечера сообщал ему размыто-величавое очарование. На ступенях собора весной и летом любили бесцельно сидеть часами Виктория, Наташа, Милочка, «мальчики» и «девочки» из родственных компаний, но сейчас, в ненастье, они быстро нырнули в узкую и темную, как ущелье, улочку, убегающую к новому району, и, вынырнув из нее, увидели Киру П. с толстой папкой под мышкой. В папке были рисунки, Кира шла на вечернее занятие в Академию художеств.
– Вот и она! – воскликнула Виктория. – Давно не виделись.
– Вот и она! – повторили Наташа с Милочкой.
Познакомились Виктория с Кирой летом на киносъемках. Беспорядочная суета массовок соединила их на две-три недели, в течение которых Кира встречалась несколько раз с Наташей и Милой, затем, узнав их всех поближе, порвала с ними резко и высказала однажды кому-то более чем неодобрительное мнение об их образе жизни и поведении, особо отметив неожиданное для нее нравственное уродство Виктории, к которой она поначалу относилась с особым почтением, как к балерине, актрисе. «Кто-то» услужливо передал это Виктории, а она рассказала о «высокомерии Киры» Наташе и Миле.
– Вот и она!
Дорога к Академии художеств ведет через парк. Они окружили Киру – безмолвно, не тратя времени на объяснения, будто совершая нечто само собой разумеющееся.
Первой нанесла удары Наташа, массированно, обеими руками по голове, потом по-боксерски в лицо, в одну из самых сокровенных «точек», удар в которые важен тем, что резко нарушает кровообращение. Кира пошатнулась, но не упала. Рука у Наташи точная, но не сильная, нежная. Она ударила опять и опять… Кира побежала, выронила папку, рисунки рассыпались по мокрой земле, она остановилась, растерянная, не понимая, что творится и что делать ей дальше.
Виктория подбежала к ней, посоветовала вернуться за рисунками. Кира обреченно вернулась, собрала рисунки, и тут Наташа стала бить ее по лицу и била долго, не отрываясь, пока не устала, потом, утомившись, стянула с руки перчатку, и Кира, уже терявшая сознание, заметила на ее пальцах тяжкие кольца. Подошла Виктория и тоже ударила по лицу – раз, два, три… А Милочка подбежала и ногой – по ногам ее, по ногам… Альбертик отвернулся. «Не мужское это дело – бить, – объяснял он потом. – Для этого нужны хорошие женские нервы».
Они избивали ее, как явствует из обвинительного заключения, сорок минут и, конечно, устали. Можно было, разумеется, немного отдохнуть, а потом бить дальше, но чувствовалось, что Кира вот-вот упадет, а надо было в полном сознании поставить ее на колени. Иначе торжество было бы неполным. Виктория ударила в последний раз и потребовала, чтобы Кира теперь опустилась перед ней на колени и извинилась за те слова.
Но оказалось, к удивлению Виктории, что поставить на колени человека, если он сам этого не хочет, непросто. Можно его повалить на землю, избить до потери сознания, но не поставить на колени, потому что в этом акте непременно должен наличествовать элемент, пусть неосознанный, добровольности. А Кира, наоборот, последним усилием сознания заставляла себя не опуститься на колени. И Виктория, Наташа, Милочка ощутили вдруг беспомощность перед этой жестоко избитой ими девушкой. Они начали суетиться и делали то, что в иной ситуации показалось бы, пожалуй, комичным: например, стали тянуть Киру к земле за пальто. Потом Милочка опять ударила ногой по ногам Киры, но тут в пустом осеннем парке явственно послышались шаги: в Академию художеств шли студенты, и компания быстро ретировалась, а Кира опустилась на землю…
Выйдя из парка, они дальше пошли не спеша, успокоенные, в состоянии легкой усталости. И одной лишь Милочке было не по себе, она не унималась, мучительно завидуя Наташе.
– Научи и меня бить, – требовала она, – я тоже хочу так, как ты…
– Научу, – добродушно улыбалась Наташа, – но для этого нужно, – она поискала определение, рассмеялась, – живое пособие.
– Живое учебное пособие, – улыбнулся Альбертик.
Он уже отошел от тех тошнотворных минут и хотел показать себя мужественным, ироничным.
– Найдем, научим, – решила Виктория, – да и мне покажи, Наташа, ловко это у тебя…
Наташа смеялась:
– Хотите, устроим «контору» первому, кто появится сейчас на улице, кто бы это ни был? Хотите?
Первой появилась Д., тоже восемнадцати лет, тоже ровесница Виктории и Наташи; она возвращалась из театра и шла в том рассеянно-праздничном состоянии, когда ничего не видишь вокруг.
Виктория ударила ее по лицу. Д. выронила сумку, кинулась бежать, но ее нагнала Наташа, а потом Милочка…
Альбертик отвернулся.
Немотивированные (то есть необъяснимые и бесцельные) жестокие действия по отношению к совершенно, разумеется, неизвестному лицу, как и спонтанная жестокость, рассматриваются рядом криминалистов и социологов в качестве типического явления XX века, которое не имеет аналога в минувших столетиях. Суждение, разумеется, далеко не бесспорное, но совершенно бесспорно, что суды сталкиваются с подобными явлениями все чаще. Это подтверждается обилием соответствующих уголовных дел.
Чувствуя себя дилетантом в этой области, я, не углубляясь в существо явления, хочу лишь поделиться одним наблюдением. Жертвами безмотивных действий весьма часто оказываются удивительно хорошие люди, духовно одаренные, творческие личности. Возможно, именно мне попадались подобные дела, и мой вывод субъективен. Тем не менее не могу умолчать о том, что мотив безмотивных действий открывался мне часто в личности потерпевших. Создавалось впечатление агонии зла, наносящего последние, слепые, беспорядочные удары по добру.
И Кира – ее избили хотя и «мотивированно», но спонтанно, – и Д., ставшая жертвой чисто безмотивных действий, духовно богаты и нравственно чисты.
Киру можно назвать антиподом Виктории, это – то, чем Виктория могла бы стать, но не стала, не развив в себе духовное, нравственное существо. Кира – художница, музыкант, это личность, несмотря на те же восемнадцать лет, с хорошо развитым чувством человеческого достоинства и ясным моральным сознанием. Ее можно избить до физической потери человеческого облика, но нельзя заставить встать на колени, то есть утратить этот облик нравственно. Она держала себя и на суде с восхитившими Антонину Павловну Шагову великодушием и человечностью – не жаждала мести, а жалела. По существу, лицом к лицу – Виктория и Кира – столкнулись два мира, два мировоззрения.
«…Как показывала Кира П., во время избиения за этим наблюдали человек десять неизвестных ей людей».
Из материалов судебного дела
6
Эти «десять неизвестных» мелькают в материалах судебного дела несколько раз. Они сопровождали Викторию, Наташу и Милочку в тот ноябрьский вечер, они наблюдали за их действиями, укрывая, заслоняя живой стеной. Ни до, ни во время судебного разбирательства эти таинственные «десять неизвестных» известности не получили, за исключением Альбертика, безвольного, женственно-восторженного поклонника «нового матриархата». И в колонии, когда я заговаривал с Викторией и Наташей о «десяти», они бормотали почти невнятно о том, что то были люди посторонние, им действительно неизвестные. Мол, мы действовали на подмостках, а те, расположившись в зале, наблюдали за нами… Но «зал»-то был мокрым, холодным осенним парком или угрюмой, безлюдной вечерней улицей, и действие «на подмостках» мало было похоже на милую игривость кукольного театра. Нет, не верилось в посторонних. Я досадовал, что при расследовании, осуществленном вообще добросовестно и достаточно дотошно, это обстоятельство осталось нерасшифрованным, ускользнуло… И порой, забредая в кафе или на танцевальные вечера или попросту шатаясь по улицам, ловил себя на том, что пытаюсь найти, узнать этих «десятерых».
В подобные минуты я сам себе казался травматологом, который настолько сосредоточен на исследовании структур «переломов» и особенностей шоковых состояний, что уже не в силах отвлечься и различать вокруг нормальную, без ущерба, жизнь, и лишь потом отчетливо понял: именно эту нормальную жизнь и надо увидеть в разнообразии ее и полноте, чтобы суметь по-настоящему осмыслить и устранить патологию.
А пока я вглядывался в лица молодых людей, которые могли быть, по-моему, теми «неизвестными»: в женственно-безвольные или пародийно-аскетические лица юношей и в сомнамбулически-сонные или иронические, с каплей хмеля, лица девушек.
В поисках «десяти неизвестных» я не забывал и об одиннадцатом человеке – о художнике, хозяине «острова обратного времени», где бывали не раз Виктория и Наташа. Не утомляя читателя подробностями, сообщу лишь, что этот «остров» я нашел и с «островитянином» познакомился.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































