Текст книги "Собрание сочинений. Том 4"
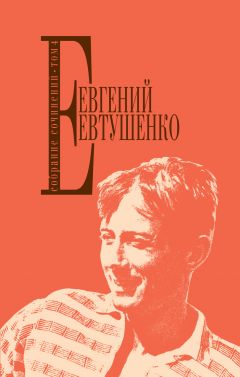
Автор книги: Евгений Евтушенко
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Она
Ты – не его и не моя.
Свобода – вот закон твой жесткий.
Ты просто-напросто ничья,
как дерево на перекрестке.
Среди жары и духоты
ты и для тени непригодна,
и запыленные листы
глядят мертво и неприродно.
Вот разве тронет кто рукой,
но кто – рассеянный подросток,
да ночью пьяница какой
щекою о кору потрется…
Ты не унизилась, чтоб стать
влюбленной, безраздельно чьей-то.
Считаешь ты, что это честно,
хоть честность и не благодать.
Но так ли уж горда собой,
без сна, младенчески святого,
твоя надменная свобода
ночами плачет над собой?!
1962
Три минуты правды
Она?
Не может быть,
чтобы она…
Но нет, —
она!
Нет, —
не она!
Как странно
с ней говорить
учтиво и пространно,
упоминая чьи-то имена,
касаться мимоходом
общих тем
и вместе возмущаться
чем-то искренне,
поверхностно шутить,
а между тем
следить за нею,
но не прямо —
искоса.
Сменилась ее толстая коса
прическою с продуманной чудинкою,
и на руке —
продуманность кольца,
где было только пятнышко чернильное.
Передает привет моим друзьям.
Передаю привет ее подругам.
Продумана во всем.
Да я и сам,
ей помогая,
тщательно продуман.
Прощаемся.
Ссылаемся
(зачем?)
на дел каких-то неотложных
важность.
Ее ладони
неживую влажность
я чувствую в руке,
ну а затем
расходимся…
Ни я
и ни она
не обернемся.
Мы друзья.
Мы квиты.
Но ей, как мне, наверно,
мысль страшна,
что, может, в нас
еще не все убито.
И так же, —
чтоб друг друга пощадить,
при новой встрече
в этом веке сложном
мы сможем поболтать
и пошутить
и снова разойтись…
А вдруг не сможем?!
1962
Посвящается памяти кубинского национального героя Хосе Антонио Эчеварилья. Подпольная кличка его была Мансана, что по-испански означает «яблоко»
«Когда, плеща невоплощенно…»
Жил паренек по имени Мансана
с глазами родниковой чистоты,
с душой такой же шумной,
как мансарда,
где голуби, гитары и холсты.
Любил он кукурузные початки,
любил бейсбол,
детей,
деревья,
птиц
и в бешеном качании пачанги
нечаянность двух чуд из-под ресниц!
Но в пареньке
по имени Мансана,
который на мальчишку был похож,
суровость отчужденная мерцала,
когда он видел
ханжество и ложь.
А ложь была на Кубе разодета.
Она по всем паркетам разлилась.
Она в автомобиле президента
сидела,
по-хозяйски развалясь.
Она во всех газетах чушь порола
и, начиная яростно с утра,
порой
перемежаясь
рок-н-роллом,
по радио
орала —
в рупора.
И паренек по имени Мансана
не ради славы —
просто ради всех,
чтоб Куба правду все-таки узнала,
решил с друзьями взять радиоцентр.
И вот,
туда ворвавшись с револьвером,
у шансонетки вырвав микрофон,
как голос Кубы,
мужество и вера,
стал говорить народу правду он.
Лишь три минуты!
Три минуты только!
И – выстрел.
И – не слышно ничего.
Батистовская пуля стала точкой
в той речи незаконченной его.
И снова рок-н-ролл завыл исправно…
А он,
теперь уже непобедим,
отдавший жизнь
за три минуты правды,
лежал с лицом счастливо-молодым…
Я обращаюсь к молодежи мира!
Когда страной какой-то правит ложь,
когда газеты врут неутомимо, —
ты помни про Мансану,
молодежь.
Так надо жить —
не развлекаться праздно!
Идти на смерть,
забыв покой, уют,
но говорить —
хоть три минуты —
правду!
Хоть три минуты!
Пусть потом убьют!
1962
Наследники Сталина
Когда, плеща невоплощенно,
себе эпоха ищет ритм,
пусть у плеча невсполошенно
свеча раздумия горит.
Каким угодно тешься пиром,
лукавствуй, смейся и пляши,
но за своим столом – ты Пимен,
скрипящий перышком в тиши.
Не убоись руки царёвой,
когда ты в келье этой скрыт,
и, как циклопа глаз лиловый,
в упор
чернильница
глядит!
1962
Твоя рука
Безмолвствовал мрамор.
Безмолвно мерцало стекло.
Безмолвно стоял караул,
на ветру бронзовея.
А гроб чуть дымился.
Дыханье из гроба текло,
когда выносили его
из дверей Мавзолея.
Гроб медленно плыл,
задевая краями штыки.
Он тоже безмолвным был —
тоже! —
но грозно безмолвным.
Угрюмо сжимая набальзамированные кулаки,
в нем к щели глазами приник
человек, притворившийся мертвым.
Хотел он запомнить всех тех,
кто его выносил —
рязанских и курских молоденьких новобранцев,
чтоб как-нибудь после
набраться для вылазки сил,
и встать из земли,
и до них, неразумных, добраться.
Он что-то задумал.
Он лишь отдохнуть прикорнул.
И я обращаюсь
к правительству нашему с просьбою:
удвоить,
утроить у этой стены караул,
чтоб Сталин не встал
и со Сталиным – прошлое.
Мы сеяли честно.
Мы честно варили металл,
и честно шагали мы,
строясь в солдатские цепи.
А он нас боялся. Он, верящий в цель, не считал,
что средства должны быть достойными цели.
Он был дальновиден.
В законах борьбы умудрен,
наследников многих
на шаре земном он оставил.
Мне чудится,
будто поставлен в гробу телефон.
Кому-то опять сообщает свои указания Сталин.
Куда еще тянется провод из гроба того?
Нет, Сталин не сдался.
Считает он смерть поправимостью.
Мы вынесли
из Мавзолея
его.
Но как из наследников Сталина
Сталина вынести?
Иные наследники розы в отставке стригут,
а втайне считают,
что временна эта отставка.
Иные
и Сталина даже ругают с трибун,
а сами
ночами
тоскуют о времени старом.
Наследников Сталина, видно, сегодня не зря
хватают инфаркты.
Им, бывшим когда-то опорами,
не нравится время,
в котором пусты лагеря,
а залы,
где слушают люди стихи,
переполнены.
Велела не быть успокоенным Родина мне.
Пусть мне говорят: «Успокойся…» —
спокойным я быть не сумею.
Покуда наследники Сталина живы еще на земле,
мне будет казаться,
что Сталин еще в Мавзолее.
1962Это стихотворение было написано сразу после выноса Сталина из Мавзолея. Однако наследники Сталина были еще сильны. Даже редактор «Нового мира» Твардовский сказал мне с мрачной иронией: «Спрячьте куда-нибудь подальше эту антисоветчину от греха подальше…» Я начал читать его на своих выступлениях – часть зрителей возмущенно покидала зал. Председатель Союза писателей РСФСР Л. Соболев обвинил меня в том, что использую общественную трибуну для антисоветских вылазок. По совету В. Косолапова я передал стихотворение помощнику Хрущева В. Лебедеву. Он потребовал от меня некоторых поправок, и я уехал на Кубу. Прошло несколько месяцев, и вдруг во время Карибского кризиса Микоян привез с собой номер «Правды», где стихотворение успело появиться. Лебедев подсунул его Хрущеву в Абхазии, когда тому рассказывали о сталинском терроре на Кавказе. Хрущев послал стихи в «Правду» на военном самолете, и оно было опубликовано 21 октября, став сенсацией. Группа партработников, не зная, что сам Хрущев дал указание печатать эти стихи, написала ему письмо с обвинениями редактора «Правды» Сатюкова в антипартийном поступке. В библиографический справочник 1984 года не разрешили включить даже название стихотворения – найти его можно было только по первой строке. Впервые было напечатано в книге лишь в 1989 году – через 27 лет! (Прим. автора.)
Мертвая рука
Ты гордая.
Ты смотришь независимо.
Твои слова надменны и жестки.
И женщины всегда глядят завистливо,
как хмуро сводишь брови по-мужски.
А у тебя такая маленькая рука
с царапинками,
с жилками прозрачными,
как будто бы участия просящими…
Она,
твоя рука,
хрупка-хрупка.
Я эту руку взял однажды в грубую,
не слишком размышлявшую мою
и ощутил всю твою робость грустную —
и вдруг подумал,
что помочь могу.
Помог ли я?
Я слишком в жизни жадничал…
На сплетниц ты глядела свысока
среди слушков и слухов,
больно жалящих…
А у тебя такая маленькая рука…
Я уезжал куда-то в страны дальние,
грустя —
сказать по правде —
лишь слегка,
и оставлял тебе твои страдания…
А у тебя такая маленькая рука…
Я возвращался…
Снова делал глупости
и буду делать их наверняка
в какой-то странной беспощадной лютости…
А у тебя такая маленькая рука…
И ненависть к себе невыносимая
гнетет меня,
угрюма и тяжка.
Мне страшно.
Все надеюсь я —
ты сильная.
А у тебя такая маленькая рука…
Ноябрь 1962, Гавана
Второе рождение
Кое-кто живет еще по-старому,
в новое всадить пытаясь нож.
Кое-кто глядит еще по-сталински,
сумрачно косясь на молодежь.
Кое-кто, еще не укротившийся,
оттянуть ее пытаясь вниз,
намертво за стрелку ухватившийся,
на часах истории повис.
Кое-кто бессильной злобой мается
и сжимает оба кулака.
Мертвая рука не разжимается,
ибо это мертвая рука.
Мертвая рука прошлого,
крепко ты еще вцепилась в нас.
Мертвая рука прошлого
ничего без боя не отдаст.
Но раздавят временное в крошево
тяжкою пятой своей века.
Мертвая рука прошлого,
все-таки ты – мертвая рука.
Декабрь 1962, Гавана
Д. Шостаковичу
Нет, музыка была не виновата,
ютясь, как в ссылке, в дебрях партитур,
из-за того, что про нее когда-то
надменно было буркнуто: «Сумбур…»
И тридцать лет почти пылились ноты,
и музыка средь мертвой полутьмы,
распятая на них, металась ночью,
желая быть услышанной людьми.
Но автор ее знал, наверно, все же,
что музыку запретом не запрешь,
что правда верх возьмет еще над ложью,
взиравшей подозрительно из лож,
что, понимая музыку, всю муку,
ей, осужденной на небытие,
народ еще протянет свою руку
и вновь на сцену выведет ее.
Но обратимся к опере. На сцене
худой очкастый человек – не бог.
Неловкость в пальцев судорожной сцепке
и в галстуке, торчащем как-то вбок.
Неловко он стоит, дыша неровно.
Как мальчик, взгляд смущенно опустил
и кланяется тоже так неловко…
Не научился. Этим победил.
Декабрь 1962
1963
Юрию НикулинуПаноптикум в Гамбурге
Всю жизнь свою мучительно итожа
и взвешивая правду и вранье,
я знаю: ложь в искусстве – это лонжа.
Труднее, но почетней без нее.
3 марта 1963, цирк на Трубной
Третья память
Полны величья грузного,
надменны и кургузы,
здесь, на поэта русского
уставились курфюрсты.
Все президенты,
канцлеры
в многообразной пошлости
глядят угрюмо,
кастово,
и кастовость их – в подлости.
За то, что жизнь увечили,
корежили,
давили,
их здесь увековечили,
верней,
увосковили.
В среду заплывших,
жирных
и тощих злобных монстров
как вы попали,
Шиллер,
как вы попали,
Моцарт?
Вам бы —
в луга светающие,
вам бы —
в цветы лесные…
Вы здесь —
мои товарищи.
Враги —
все остальные.
Враги глядят убийственно,
а для меня не гибельно,
что я не нравлюсь Бисмарку
и, уж конечно, Гитлеру.
Но вижу среди них, как тени роковые,
врагов,
еще живых,
фигуры восковые.
Вон там —
один премьер,
вон там —
другой премьер,
и этот – не пример,
и этот – не пример.
Верней, примеры,
да,
но подлого,
фальшивого.
Самих бы их сюда,
в паноптикум,
за шиворот!
Расставить по местам —
пускай их обвоскуют.
По стольким подлецам
паноптикум тоскует!
Обрыдла их игра.
Довольно врать прохвостам!
Давно пришла пора
живых
залить их воском.
Пусть он им склеит рты,
пусть он скует им руки.
И пусть замрут,
мертвы,
как паиньки,
по струнке.
Я объявляю бунт.
Я призываю всех
их стаскивать с трибун
под общий свист и смех.
Побольше,
люди,
злости!
Пора всю сволочь с маху
из кресел,
словно гвозди,
выдергивать со смаком.
Коллекцию их рож
пора под резкий луч
выуживать из лож,
что карасей из луж.
Пора в конце концов
избавиться от хлама.
В паноптикум
лжецов —
жрецов из храма срама!
Подайте,
люди,
глас —
не будьте же безгласны!
В паноптикум —
всех глав,
которые безглавы!
И если кто-то врет —
пусть даже и по-новому,
вы
воском ему в рот:
в паноптикум!
В паноптикум!
Еще полно дерьма,
лжецов на свете —
войска.
Эй, пчелы,
за дела! —
нам столько надо воска!
10 марта 1963
Смеялись люди за стеной
У всех такой бывает час:
тоска липучая пристанет,
и, догола разоблачась,
вся жизнь бессмысленной предстанет.
Подступит мертвый хлад к нутру.
И чтоб себя переупрямить,
как милосердную сестру,
зовем, почти бессильно, память.
Но в нас порой такая ночь,
такая в нас порой разруха,
когда не могут нам помочь
ни память сердца, ни рассудка.
Уходит блеск живой из глаз.
Движенья, речь – все помертвело.
Но третья память есть у нас,
и эта память – память тела.
Пусть ноги вспомнят наяву
и теплоту дорожной пыли,
и холодящую траву,
когда они босыми были.
Пусть вспомнит бережно щека,
как утешала после драки
доброшершавость языка
всепонимающей собаки.
Пусть виновато вспомнит лоб,
как на него, благословляя,
лег поцелуй, чуть слышно лег,
всю нежность матери являя.
Пусть вспомнят пальцы хвою, рожь,
и дождь, почти неощутимый,
и дрожь воробышка, и дрожь
по нервной холке лошадиной.
И жизни скажешь ты: «Прости!
Я обвинял тебя вслепую.
Как тяжкий грех, мне отпусти
мою озлобленность тупую.
И если надобно платить
за то, что этот мир прекрасен,
ценой жестокой – так и быть,
на эту плату я согласен.
Но и превратности в судьбе,
и наша каждая утрата,
жизнь, за прекрасное в тебе
такая ли большая плата?!»
3 апреля 1963, Коктебель
Е. Ласкиной
Экскаваторщик
Смеялись люди за стеной,
а я глядел на эту стену
с душой, как с девочкой больной
в руках, пустевших постепенно.
Смеялись люди за стеной.
Они как будто измывались.
Они смеялись надо мной,
и как бессовестно смеялись!
На самом деле там, в гостях,
устав кружиться по паркету,
они смеялись просто так, —
не надо мной и не над кем-то.
Смеялись люди за стеной,
себя вином подогревали,
и обо мне с моей больной,
смеясь, и не подозревали.
Смеялись люди… Сколько раз
я тоже, тоже так смеялся,
а за стеною кто-то гас
и с этим горестно смирялся!
И думал он, бедой гоним
и ей почти уже сдаваясь,
что это я смеюсь над ним
и, может, даже издеваюсь.
Да, так устроен шар земной
и так устроен будет вечно:
рыдает кто-то за стеной,
когда смеемся мы беспечно.
Но так устроен шар земной
и тем вовек неувядаем:
смеется кто-то за стеной,
когда мы чуть ли не рыдаем.
И не прими на душу грех,
когда ты мрачный и разбитый,
там, за стеною, чей-то смех
сочесть завистливо обидой.
Как равновесье – бытие.
В нем зависть – самооскорбленье.
Ведь за несчастие твое
чужое счастье – искупленье.
Желай, чтоб в час последний твой,
когда замрут глаза, смыкаясь,
смеялись люди за стеной,
смеялись, все-таки смеялись!
5 апреля 1963, Коктебель
Л. Марчуку
«Нет, мне ни в чем не надо половины…»
Ах, как работал экскаваторщик!
Зеваки вздрагивали робко.
От зубьев, землю искарябавших,
им было празднично и знобко.
Вселяя трепет, онемение,
в ковше из грозного металла
земля с корнями и каменьями
над головами их взлетала.
И экскаваторщик, таранивший
отвал у самого обрыва,
не замечал, что для товарищей
настало время перерыва.
С тяжелыми от пыли веками
он был неистов, как в атаке,
и что творилось в нем, не ведали
все эти праздные зеваки.
Случилось горе неминучее,
но только это ли случилось?
Все то, что раньше порознь мучило,
сегодня вместе вдруг сложилось.
В нем воскресились все страдания.
В нем – великане этом крохотном —
была невысказанность давняя,
и он высказывался грохотом!
С глазами странными, незрячими
он, бормоча, летел в кабине
над ивами, еще прозрачными,
над льдами бледно-голубыми,
над голубями, кем-то выпущенными,
над пестротою крыш без счета,
и над собой, с глазами выпученными
застывшим на доске Почета.
Как будто бы гармошке в клапаны,
когда околица томила,
он в рычаги и кнопки вкладывал
свою тоску, летя над миром.
Летел он…
Прядь упрямо выбилась.
Летел он…
Зубы сжал до боли.
Ну, а зевакам это виделось
красивым зрелищем – не боле.
6 апреля 1963, Коктебель
Вздох
Нет, мне ни в чем не надо половины!
Мне – дай все небо! Землю всю положь!
Моря и реки, горные лавины
мои – не соглашаюсь на дележ!
Нет, жизнь, меня ты не заластишь частью.
Все полностью! Мне это по плечу!
Я не хочу ни половины счастья,
ни половины горя не хочу!
Хочу лишь половину той подушки,
где, бережно прижатое к щеке,
беспомощной звездой, звездой падучей,
кольцо мерцает на твоей руке…
6 апреля 1963
«Очарованья ранние прекрасны…»
Он замкнут, друг мой,
страшно замкнут —
он внутрь себя собою загнан.
Закрыл он крышкой, как колодец,
глубины темные тоски,
и мысли в крышку ту колотят
и разбивают кулаки.
Он никому их не расскажет,
он их не выплачет навзрыд,
и все в нем глухо нарастает,
и я боюсь,
что будет взрыв.
Но взрыва нет,
а только вздох,
и вздох,
как слезы бабьи – в стог,
как моря судорожный всхлип
у мокрых сумеречных глыб.
Я раньше был открыт-открыт,
ни в чем себя не сдерживал,
за что и был судьбой отбрит,
как женщиной насмешливой.
И я устал.
Я замкнут стал.
Я улыбаться перестал.
Внутри такая боль живет!
Взорвусь – мне кажется – вот-вот,
но взрыва нет,
а только вздох,
и вздох,
как слезы бабьи – в стог,
как моря судорожный всхлип
у мокрых сумеречных глыб…
Мой старый друг,
мой нелюдим,
давай, как прежде, посидим.
Давай по чарочке нальем,
давай вздохнем —
уже вдвоем.
19 апреля 1963, Коктебель
Картинка детства
Очарованья ранние прекрасны.
Очарованья ранами опасны…
Но что с того – ведь мы над суетой
к познанью наивысшему причастны,
спасенные счастливой слепотой.
И мы, не опасаясь оступиться,
со зрячей точки зрения глупы,
проносим очарованные лица
среди разочарованной толпы.
От быта, от житейского расчета,
от бледных скептиков и розовых проныр
нас тянет вдаль мерцающее что-то,
преображая отсветами мир.
Но неизбежность разочарований
дает прозренье. Все по сторонам
приобретает разом очертанья,
до этого неведомые нам.
Мир предстает не брезжа, не туманясь,
особенным ничем не осиян,
но чудится, что эта безобманность —
обман, а то, что было, – не обман.
Ведь не способность быть премудрым змием,
не опыта сомнительная честь,
а свойство очаровываться миром
нам открывает мир, какой он есть.
Вдруг некто с очарованным лицом
мелькнет, спеша на дальнее мерцанье,
и вовсе нам не кажется слепцом —
самим себе мы кажемся слепцами…
11–19 апреля 1963, Коктебель
Работая локтями, мы бежали, —
кого-то люди били на базаре.
Как можно было это просмотреть!
Спеша на гвалт, мы прибавляли ходу,
зачерпывали валенками воду
и сопли забывали утереть.
И замерли. В сердчишках что-то сжалось,
когда мы увидали, как сужалось
кольцо тулупов, дох и капелюх,
как он стоял у овощного ряда,
вобравши в плечи голову от града
тычков, пинков, плевков и оплеух.
Вдруг справа кто-то в санки дал с оттяжкой.
Вдруг слева залепили в лоб ледяшкой.
Кровь появилась. И пошло всерьез.
Все вздыбились. Все скопом завизжали,
обрушившись дрекольем и вожжами,
железными штырями от колес.
Зря он хрипел им: «Братцы, что вы, братцы…» —
толпа сполна хотела рассчитаться,
толпа глухою стала, разъярясь.
Толпа на тех, кто плохо бил, роптала,
и нечто, с телом схожее, топтала
в снегу весеннем, превращенном в грязь.
Со вкусом били. С выдумкою. Сочно.
Я видел, как сноровисто и точно
лежачему под самый-самый дых,
извожены в грязи, в навозной жиже,
все добавляли чьи-то сапожищи
с засаленными ушками на них.
Их обладатель – парень с честной мордой
и честностью своею страшно гордый —
все бил да приговаривал: «Шалишь!..»
Бил с правотой уверенной, весомой,
и, взмокший, раскрасневшийся, веселый,
он крикнул мне: «Добавь и ты, малыш!»
Не помню, сколько их, галдевших, било.
Быть может, сто, быть может, больше было,
но я, мальчишка, плакал от стыда.
И если сотня, воя оголтело,
кого-то бьет, – пусть даже и за дело! —
сто первым я не буду никогда!
20 апреля 1963, Коктебель
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































