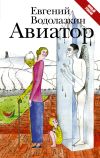Текст книги "Брисбен"
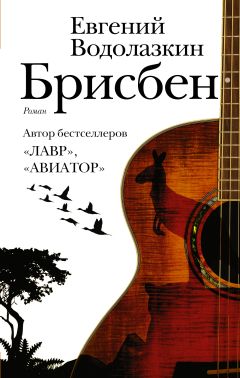
Автор книги: Евгений Водолазкин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
1977
Стоял изумительный киевский июнь – с теплыми вечерами, лодочными прогулками по Днепру и первыми купаниями. Так случилось, что, уезжая в отпуск, знакомые попросили Антонину Павловну пожить в их квартире на Русановке – новом районе на левом берегу Днепра. Причиной просьбы были кот, рыбы и растения, о которых надлежало заботиться. Причина согласия Антонины Павловны состояла в желании вывезти Глеба на реку: дом располагался на набережной, у одного из рукавов Днепра. Набережная, вопреки обыкновению, шла не у самой воды, а на некотором расстоянии – минутах в пяти ходьбы. Эти пять минут приходилось идти сквозь заросли ивняка, маленькие джунгли с умопомрачительной смесью запахов. В этот букет входили листья (свежие и прошлогодние), песок, вода и пустые ракушки речных улиток. Ракушки придавали букету особую терпкость. То был полный оптимизма аромат смерти, рождающей новую жизнь. Каждое утро Глеб и бабушка шли на пляж, и запах был первым, чем их встречала река. На полпути к пляжу, когда уже начинался песок, они снимали обувь и шли босиком. Песок был нечист, то и дело в нем что-то царапало и кололо, но это не уменьшало удовольствия от погружения ступней в теплую сыпучую стихию. В какой-то момент сквозь ивовые ветви начинала блестеть река. Увидеть танцующее на воде солнце было главной утренней радостью Глеба. Большей даже, чем купание, потому что прикосновение часто оказывается менее значимым, чем мечта о нем. Но ведь и купание было, вообще говоря, прекрасно. Пусть речная вода держала не так, как морская, была непрозрачной, зато она не образовывала больших волн (небольшие шли от моторных лодок). Это была домашняя вода, к ней не нужно было ехать сотни километров, она протекала в городе. Да и пляж, в отличие от юга, был другим. На нем не было тентов и шезлонгов, расставленных с геометрической точностью, – там расстилалась тень ив. Вились, с усилием отрываясь от земли, стволы и корни, на которых можно было повесить одежду. Пляжники лежали на полотенцах и подстилках, передвигая их из тени на солнце и наоборот. Речная эта жизнь продолжалась даже дома, потому что окна их квартиры выходили на Днепр. Глеб засыпал под звуки моторок. Вечером они были редкими и оттого драгоценными. Мальчик ловил шум мотора на дальних подступах и мысленно следовал за ним до тех пор, пока не исчезало его эхо. Если лодка шла вверх по течению, он представлял себе ее конечную цель – никогда не виденную, но любимую им Россию. Эту землю с прекрасным женственным именем любили мама и бабушка, так как же было не любить ее Глебу? Если лодка шла по течению вниз, Глеб понимал, что ждет ее Черное море, в котором он не раз купался и которое любил не меньше России. Ему нравился тогда и Днепр, но чувство это длилось недолго – до одного утра, которое навсегда врезалось в память Глеба. Они с бабушкой шли сквозь ивняк на пляж. Прохладный по-утреннему воздух, резкие тени на песке. На одной из дорожек перед ними вынырнула девушка. Очень, ох, неподходящее слово, но на этих дорожках, петлявших сквозь кусты, время от времени кто-то именно что выныривал. Девушка. Видимая со спины: с рассыпавшимися по плечам русыми волосами, в красно-черном купальнике, с завязанным на поясе длинным просвечивающим платком. На правой руке – плетеный браслет из голубой проволоки. Глеб с Антониной Павловной шли босиком, держа в руках сандалии. Девушка тоже шла босиком. Несла на плече соломенную пляжную сумку – может быть, сандалии лежали там. Шагала широко, как-то даже по-балетному, а Глеб копировал ее походку и старался попадать своими ступнями в ее следы. Попадая, чувствовал волнение. На ближайшей развилке она свернула на правую тропинку, а Глеб с бабушкой пошли по левой. Дойдя до воды, они расстелили подстилку – старую штору, часть ее в тени (Антонина Павловна предпочитала тень), а часть на солнце. Загорая, Глеб задремал. Проснулся от криков. Кого-то выносили из воды, кого – не видно, потому что выносящих было много. Глеб видел лишь безвольно качавшуюся руку, скорее всего женскую, но даже этого нельзя было сказать наверняка, поскольку рука то и дело скрывалась за прибывавшими людьми. Вдруг он заметил на запястье голубую плетенку – это была девушка, которую они видели по дороге на пляж! Ее осторожно положили на песок, и один из мужчин начал ритмично нажимать ей на грудь. Делал искусственное дыхание – рот в рот. Несколько мгновений Глеб ему завидовал. А потом увидел ее глаза – они были открыты. В них не было жизни. Тело девушки все еще сотрясалось под руками спасавшего, но было почему-то ясно, что жизнь ее покинула. И никогда уже не вернется. Через какое-то время из-за кустов показались врачи. Резкими движениями стали разводить девушке руки и сводить их на груди, но делали это недолго. Пощупали пульс. Отошли в сторону и о чем-то тихо говорили. Наблюдали, как тот же человек вновь пытался ее реанимировать. Никто не заметил, как они исчезли. Постепенно толпа вокруг утопленницы стала редеть. Антонина Павловна хотела увести внука, но он воспротивился. Не отрываясь смотрел на девушку, которой, казалось, уже больше никто не интересовался. Те, что еще оставались, говорили больше о своем. Чиркая на утреннем ветру спичками, закуривали, с преувеличенной осторожностью сбрасывали пепел, ввинчивали окурки в песок. Утро, думалось Глебу, утро еще не кончилось, а той, которую этим утром видел, нет – как же это? Она успела ощутить тот же ветер, видела те же облака по краям небес – их ведь даже не разметало еще. Отныне она уже никогда не почувствует ветра, дождя, снега. Снег будет разный – медленно слетающий с небес, колючий, бьющий в лицо. Никакого не почувствует. Не увидит, что река будет разной – подо льдом будет, осенней – в листьях, или такой, как сейчас. Не найдет тапок у кровати. За завтрак не сядет. Не войдет в помещение с холода. Как страшно. Когда Антонина Павловна… Когда Антонина Павловна сказала, что надо уходить, Глеб внезапно закричал на нее – на весь пляж. Тогда она, не говоря ни слова, собрала вещи и ушла, по-медвежьи переваливаясь с ноги на ногу. Старая дура, прошипел Глеб. На мгновение он почувствовал к бабушке ненависть. Потому что она (казалось ему) не способна была постичь глубины разыгравшейся драмы. Ее не трогали красота и смерть. А он не мог понять, как только что можно было быть живым, а через час – мертвым. Как? Бабушка вернулась, чтобы все-таки его забрать, и тогда он закричал: пошла вон! Крик перешел в визг. Она ушла и больше уже не возвращалась. Кто-то принес вещи девушки, накрыл ее лицо платком. Этот платок Глеб видел повязанным вокруг ее бедер. Пляж опустел – не весь, а та его часть, с которой была видна утопленница. Рядом с ней оставался лишь Глеб. Ему казалось, что надо еще что-то сделать, чтобы спасти ее. Что в сделанном недостаточно любви. Со стороны окружающих нужно было какое-то усилие души, но окружающих не было. Они предпочли оставить девушку наедине с ее бедой. С ее смертью. Легкий платок порывом ветра сдуло с лица. Глеб рассматривал его и находил прекрасным. Прямой нос. Тонкие полураскрытые губы. Только в изменившемся цвете губ была смерть, да еще в остановившемся взгляде. Больше ни в чем. Но глаза совершенно определенно говорили, что жизнь кончилась. Почему никто их не закрыл? Глеб никогда не видел это лицо живым, потому что шел позади девушки. Всего-то нужно было – забежать вперед и посмотреть. Она бы выразила удивление. Засмеялась бы, махнула рукой. Может быть, даже фыркнула – мало ли на что способен человек, когда к нему проявляют внимание. Сейчас удивлять ее бесполезно: она начисто лишена мимики. Всё надо было делать при ее жизни. Возвращаясь домой, Глеб ожидал трудного разговора с бабушкой. Но этого не произошло. Бабушка молча обняла его, и Глебу стало ясно, что она понимает его как никто другой. Переход из жизни в смерть для нее – вопрос недалекого будущего. В Глебовых ушах еще стояли его злобные крики на пляже. Злость его переплавилась в щемящее чувство к бабушке и в страх скорой ее смерти. И, лежа уже в постели, Глеб заплакал. Слёзы текли из его глаз, пока он не заснул. Перед самым рассветом проснулся от скрипа паркета: у его кровати стояла та, о которой он плакал. Сказала, что ее зовут Арина. Он понимал, что в таких случаях речь может идти только о сне, но мокрые волосы Арины и то, как неуверенно она держалась, убедили его, что он имеет дело с реальностью. Арина думала о том, как хрупка жизнь и как легко она может прерваться. Это было видно по ее лицу, которое вновь обрело мимику. А Глеб думал о том, как мало любви получает человек при жизни. Арина кивнула: может, ничего бы со мной не случилось, если бы меня любили по-настоящему. Может, вода затягивает тех, кого не держит ничье чувство. Наверное, так всё и происходит, согласился Глеб. Надо было обнять тебя, лежащую на песке, и ударами своего сердца завести твое остановившееся. Чтобы одно сердце отозвалось на ритм другого. За окном светало, и Глебу показалось, что это свет сбывающейся надежды. Арина прижалась лбом к его лбу. Он чувствовал, как вода с ее волос стекает по его лицу, шее, груди. Душа Глеба, наполнившись счастьем, стала легкой. Полетела над пляжем, объявляя загорающим о грядущем бракосочетании Глеба с Ариной или просто о каком-то таком сочетании, которое крепче брака. О чем именно объявляла душа Глеба, не казалось столь уж значимым. Аринино возвращение к жизни было в тысячу раз важнее этих подробностей. Пляжники махали в ответ ивовыми ветвями, но как-то неуверенно. До Глеба доносились голоса, считавшие информацию преждевременной. Его это смешило. Он проснулся с улыбкой и сердцем, полным света. Поняв, что радость ему приснилась, помрачнел. Несколько дней, остававшихся до возвращения хозяев квартиры, бабушка и внук провели в подавленном настроении. Спускались временами во двор, но на пляж больше не ходили. Когда, уезжая с Русановки, в вагоне метро пересекали Днепр, Глеб отвернулся от окна. Он уставился в потолок и сидел неподвижно, пока вдруг не увидел на нем игру отраженного от воды солнца. Он опустил голову на руки, ладони его закрыли лицо, и никаких признаков реки больше не ощущалось. Вернувшись домой, Глеб вроде бы забыл о смерти на реке. Так, по крайней мере, казалось Антонине Павловне. Но когда спустя месяц она предложила ему вместе поехать в Крым, он отказался. Дело было не в самом отказе, а в его категоричности. Антонина Павловна поняла, что посещение любых пляжей ее внуку на время противопоказано. Остаток лета Глеб провел в городе. Немного читал, но бóльшую часть времени проводил на улице. Начал курить. Вечерами на опустевших детских площадках невозможно было не закурить: там курили все. Сидели на спинках низких лавочек и пенящейся слюной сплевывали сквозь зубы на землю. На сиденьях выжигали сигаретами свои имена. Или, туго закручивая цепи, вращались вокруг своей оси на качелях. От выжигавших и вращавшихся Глеб не услышал ни одной законченной фразы, их речь, по большому счету, была мычанием. Они ходили с открытым ртом и бессмысленно выкатывали глаза. Поступал ли таким же образом Глеб? Видимо, да. Посещать детскую площадку можно было лишь на этих условиях. Зачем он так поступал – в точности Глеб не знал и сам. Скорее всего, это было подсознательное желание оказаться среди таких же, как он, потерянных и несчастных. Потому что подростки обычно несчастны.
15.02.13, Мюнхен
Нестор снова у нас в гостях – на этот раз он приехал на две недели.
Утро. Мы с ним работаем над книгой в зимнем саду. Это огромная пристроенная к дому оранжерея. Собственно говоря, это часть дома, потому что стена между жилым помещением и оранжереей – стеклянная. У стены художественно обрываются огромные потемневшие балки. Помимо диктофона перед Нестором – блокнот с вопросами. Первый из них он зачитывает механическим голосом. Напоминает корреспондента районной газеты.
– В своих воспоминаниях ты часто упоминаешь о реках. Реки занимают какое-то особое место в твоей жизни?
– Реки – это движение, они что-то приносят, что-то уносят. Чаще – уносят.
Нестор отрывает глаза от блокнота.
– Лета? Стикс?
– Пожалуй… Ну, может быть, еще Днепр, Нева.
– Очень, мне кажется, разные реки.
– Очень. Нева – некупальная, во всех смыслах холодная. А Днепр – теплый, если хочешь, радостный.
Нестор поднимает голову.
– Даже после гибели Арины?
– Ну да… Понимаешь, в жизни одни события уравновешиваются другими. Одна и та же мелодия может прозвучать вначале в миноре, а затем в мажоре. Или наоборот.
Дирижируя, напеваю оба варианта. Нестор кивает в такт. Не без удивления.
– Тогда расскажи про мажор.
– Хорошо, мажор. Представь себе: ту квартиру на набережной, о которой я тебе рассказывал, мы с маминым братом Колей ремонтировали. Это было за год-два до гибели Арины. Коля для этого приехал из Вологды… – Вижу вежливую улыбку Нестора, и меня разбирает смех. – Тьфу, звучит как-то по-дурацки. Спроси что-нибудь!
– Я даже не знаю, что здесь можно спросить. Ну, хорошо: почему вы эту квартиру ремонтировали, точнее, почему ее ремонтировали именно вы?
– Не помню. Есть на свете события без начала и конца… Помню лишь, что ни я, ни, подозреваю, Коля до этого не ремонтировали в своей жизни ни-че-го. Чтобы не было жарко, мы открываем окна и старательно клеим обои.
– Но ведь обои не клеят при открытых окнах.
Уважительно смотрю на Нестора.
– Не имея твоего, Нестор, опыта, мы разводим клейстер. Он весь в комках. Теряющей волоски щеткой наносим его на обойные листы. Коля тоном бывалого призывает выгонять из-под приклеенных обоев пузырьки воздуха. Мы делаем это при помощи тряпок.
– Можно щетками. Мощные движения от центральной оси обоев к их краям. – Нестор демонстрирует мне эти движения. – Чуть вниз. Напоминает рисование елки. И что дальше?
– Дальше Коля обращает мое внимание на то, что главное в обойном деле – тщательная оклейка углов стен.
– Точно. Если где и следует прижимать обои по-настоящему, то именно в углах. Именно там клейщика обоев и может подстерегать опасность.
– Обои в углах мы прижимаем самозабвенно. Бумага рвется… Слушай, откуда ты всё знаешь про обои?
– В студенчестве я подрабатывал маляром. Но ты остановился на самом интересном…
– К вечеру мы заканчиваем с оклейкой гостиной и спускаемся на улицу купить бочкового кваса. Бочка закрыта. Коля говорит, что у него есть идея. Мы заходим в гастроном и покупаем несколько пачек концентрата кваса. Вернувшись домой, включаем футбольную трансляцию. Чемпионат мира 1978 года. С первым ударом по мячу в комнате раздается треск.
– Закономерно.
– Коля высказывает догадку, что так, должно быть, свойственно сохнуть обоям. Через некоторое время первый обойный лист отделяется от стены…
Входит Геральдина с минеральной водой и разливает ее по фужерам.
– …отделяется и сворачивается на полу. Массовый падёж обоев – и в этом Коля оказался прав – начинается именно с углов. Мы не унываем и решаем выпить квасу. Увы. Концентрат кваса в воде не растворяется.
Нестор хохочет:
– Он никогда не растворялся! Точнее, растворялся, но не до конца. Получалась безвкусная мутная жижа с осевшими на дне крупинками.
Геральдина спрашивает, нужно ли что-то еще, но вопрос остается без ответа.
– В этот момент Коле приходит в голову замечательная мысль: есть концентрат сухим. Удивительным образом вкус, уходивший при разведении брикетов, в сухом виде присутствовал в полной мере.
Нестор кивает Геральдине и поднимает фужер:
– Его можно было есть и запивать водой!
– На Русановской набережной мы прожили примерно неделю и почти каждый вечер ели этот концентрат – брикет за брикетом. Каждый вечер по телевизору показывали футбол, а за окнами качались пирамидальные тополя. И еще: с Днепра доносились звуки моторных лодок.
Даю сигнал Геральдине: нет, больше ничего не нужно. Геральдина выходит медленно и грустно. Всем становится ясно, что нет ничего горше невнимания. Паузу прерывает Нестор.
– Темнота в Киеве наступала поздно?
– Да, но даже когда становилось темно, какое-то время еще светился крутой правый берег. За него закатывалось солнце.
Я хочу еще добавить, что с ночными бабочками в окна влетало чувство беспредельного счастья, но боюсь, что ничего не объясню в словах. Замолкаю. Мне кажется, что я слышу музыку, способную это выразить. Ля минор, две четверти: счастье возникало от запаха реки, от осознания того, что впереди – целая жизнь, и, как понимаю теперь, от отсутствия представления о смерти.
1978
Накануне нового учебного года, в самом конце августа, было несколько репетиций концерта в честь первого сентября. На второй репетиции Глеб сидел рядом с виолончелисткой Анной Лебедь, готовившейся сыграть – что же еще? – Лебедя Сен-Санса. Было понятно, что сейчас прозвучит шуточная песенка директора школы о двух лебедях, одним из которых оказывалась Анна. Мелодия и слова были откровенно ориентированы на песню Два кольори. Песенка возникла полтора года назад, когда Анна взялась за Сен-Санса, и всякий раз (так бывает, когда шутит начальство) все смеялись ей как в первый. Смеялись и сейчас. Носившая обычно школьную форму, Анна была на репетиции в короткой юбке. И в короткой майке. Сидя сбоку, Глеб наблюдал, как от деланого смеха содрогается ее живот. Майка приподнималась, отчего открывалась полоска кожи, а у наблюдателя начала кружиться голова. Наливаться кровью, и кружиться, и становиться чужой. Где-то я уже этот шедевр слышал, неожиданно и громко произнесли Глебовы губы, раз примерно сто двадцать. Никто уже не смеялся. В полной тишине директор подошел к Глебу, и Глеб без волнения подумал, что тот его сейчас ударит. Но директор не ударил. Помолчав, сказал: много на себя берешь, Яновский. Глеб спокойно смотрел ему в глаза. Он думал об Анне и о содроганиях ее живота. Сопровождаемый взглядом Глеба, директор быстро вышел. Анна обхватила виолончель ногами и заиграла Лебедя. Глеб перевел взгляд на Анну – за лето она стала другой. Дело было не только в телесных изменениях (они не вызывали сомнений) – у нее был новый взгляд, взрослый и женский. А главное, она по-другому играла. Так играют, тихо сказал Глеб Клещуку, только потеряв невинность. Ты имеешь в виду движение рук, растерянно спросил Клещук. Ног, прошипел Глеб. Отвернувшись, он смотрел, как голые ноги Анны то отпускали инструмент, то сжимали его с новой силой, и Лебедь входил с наблюдателем в странный, прежде им не испытывавшийся резонанс. Глеб уже знал, что не уйдет, не дождавшись Анны. Темное и влажное чувство, заставившее его нагрубить директору, теперь лишало Глеба воли и влекло за ней. И Анна знала об этом. Подчеркнуто неторопливо собирала ноты, клала виолончель в футляр. Даже не глядя на Глеба, чувствовала всю прочность связавшей их нити. Анна не удивилась тому, что Глеб ушел не прощаясь, как не удивилась и тому, что наткнулась на него, завернув за угол музыкальной школы. Молча – в руке гитара – смотрел на Анну. Свободной рукой взял ее виолончель (электрический разряд при соприкосновении пальцев). Человек-оркестр, пошутила Анна, но Глеб не засмеялся. Он шел за ней, отставая на полшага, и в такт их движению скрипела ручка виолончельного футляра. Анна жила в новом уродливом доме на Владимирской, прямо против оперного театра. Ее родители были музыкантами. Они сегодня выступают в Москве, пояснила Анна, закрыв входную дверь изнутри. Понятно, что в Москве. Тот вихрь, которым Глеба повлекло за Анной, выдул бы из квартиры любых родителей. Когда они вошли в комнату Анны, она достала виолончель и устроила ее между ног. Небрежным движением откинула юбку и заиграла Лебедя. Улыбнулась: только для тебя. Играла нечисто, не всегда точно брала ноты. Возможно, все силы ее ушли на выступление в музыкальной школе, а может, она просто волновалась. Только для Глеба ведь играла. И ноги ее снова сжимали виолончель, и под отважно откинутой юбкой мерцала полоска трусиков. Ты обнимаешь виолончель, как мужчину, произнес его механический голос. Анна отложила виолончель, встала и, развернувшись к Глебу, села ему на колени: могу обнимать тебя… Ее грудь оказалась у самого Глебова лица. Натянутая ткань вполне отражала ее достоинства, но Анна стянула и футболку. Глеб коснулся ее груди губами. Вдохнул запах ее кожи. В Стране Советов дезодорант тогда не был всеобщим достоянием, но это никому не мешало. Совсем даже наоборот. Вспоминая свой первый любовный опыт, Глеб неизменно ощущал аромат юного женского тела. Говорят, память на запахи – самая прочная. Женщины, с которыми ему приходилось иметь дело впоследствии, запоминались марками дезодорантов, но это не шло ни в какое сравнение с благоуханием плоти Анны Лебедь. В течение нескольких бесконечных минут эта плоть принадлежала ему. Анна сжимала и отпускала его бедра, и, лежа на ее кровати, он чувствовал себя виолончелью. Потом они курили. Пепельница, положенная на живот Глеба, поднималась и опускалась в такт его дыханию. Лежа на Глебовом плече, Анна выдувала дым тонкой струйкой. Глеб смотрел в потолок. О чем ты думаешь, спросила Анна. О смерти. Странно, она потерлась затылком о руку Глеба, странно, что ты думаешь о смерти именно сейчас, – это всё равно что думать о смерти на пляже. Глеб провел пальцем по Аниному носу. Я видел смерть на пляже… Фу, Анна сбросила его руку. Если будем всегда любить друг друга, сказал Глеб, то смерть не страшна. Не страшна, понимаешь? Понимаю. Анна встала и сняла с его живота пепельницу. Я помоюсь? Растянувшись на кровати Анны, он рассматривал оперный театр. Театр занимал всё окно, и оттого казалось, что он продолжает увеличиваться в размерах. Глеб думал о том, что лежа он смотрит на этот театр в первый раз. Не знал, что этот раз был и последним. Но самым грустным оказалось другое. Вместе с видом на театр из его жизни ушла и Анна. После этой страстной встречи он видел ее только однажды – на общем концерте. Глеб подошел спросить, когда они увидятся, но Анна положила ему на губы палец. Она ответила ему одними глазами, и глаза ее выражали просьбу о терпении. По крайней мере, так он это понял. Терпение, в представлении Глеба, измерялось часами, ну, одним-двумя днями, но прошла уже неделя, а Анна в музыкальной школе не появлялась. Не встретив ее на общих занятиях, Глеб уточнил расписание уроков по виолончели, но и на этих уроках ее не было. Наконец Глеб набрался смелости и отправился в ту квартиру, где он так подробно рассмотрел оперный театр (и не только), – там никто не открыл. И тогда он, стесняясь, подошел к преподавательнице виолончели и спросил, что с Анной. А ты не знаешь, удивилась преподавательница. Анины родители были приняты в только что созданный оркестр. Называется Скрипки Москвы. Они скрипачи, спросил зачем-то Глеб. Да, скрипачи. Улыбнулась. Хорошие, если тебя это интересует. Его это не интересовало. Преподавательница двинулась в сторону учительской. Они узнали об этом только сейчас, уточнил, догоняя ее, Глеб. О переезде? Она наморщила лоб. Это было известно еще весной. В первое мгновение ему захотелось броситься на вокзал и уехать в Москву. Он нашел бы Анну через ее родителей. Не так уж, рассуждал он, много оркестров с названием Скрипки Москвы. Но уже через минуту это желание прошло. Стало противно. Зная, что уезжает, позволила себе немного расслабиться, подумалось Глебу. Небольшое такое позволила приключение. Теперь он досадовал на себя за то, что все эти дни думал об Анне, узнавал ее расписание, бегал к ней домой, бегал к ее учительнице. Самым же болезненным было то, что мысленно он называл Анну женой. Делал своим жизненным выбором. То, что начиналось как зов плоти, стало основанием для высокой, ведущей в небеса лестницы, которую он создал в своем воображении. Поначалу ему показалось, что она с грохотом рухнула. Потом же стало ясно, что обрушения не случилось – и грохот только послышался: никакой лестницы на самом деле не было. Глеб вспомнил погибшую Арину – и понял, что она и была его единственной любовью. Как он посмел не остановить ее, идущую на пляж, почему не схватил за руки и не оттащил от воды? Да, это было бы грубо и наверняка вызвало бы удивление, но какое это имело бы значение в сравнении со спасенной жизнью? Не объясняя ничего, он бы покрывал ее лицо поцелуями, и она бы его, конечно, простила. Они бы слились воедино, как он сливался с Анной, а Анны бы не было – по крайней мере такой, какой она вошла в его жизнь. В иные дни Глеб забывал об Арине и не думал ни о ком кроме Анны. Испытывал жгучее желание. Порой просыпался по ночам и явственно, до дрожи, представлял себе тело Анны. Ощущал ее ритмичные движения и покрывался потом. Иногда он был близок к тому, чтобы сбежать в Москву, где его, собственно, никто не ждал. Он не собирался просить Анну о постоянных отношениях (да и как это могло бы осуществиться в их возрасте?), но был готов умолять ее о повторении того, что было: еще об одном разе. Мечтая об этом, он презирал себя, потому что его мечтания порождались исключительно похотью, в них не было ничего из того, о чем он думал после смерти Арины.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?