Текст книги "Безобразное барокко"
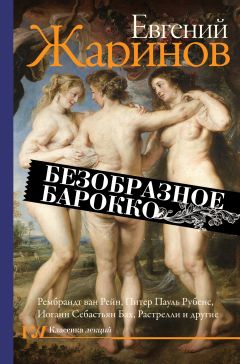
Автор книги: Евгений Жаринов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Большинство художников изображали Юдифь уже после убийства, с головой Олоферна в руках. Караваджо, напротив, запечатлел сам момент обезглавливания, когда голова наполовину отделена от тела, но жертва всё ещё жива. Глаза Олоферна вылезли из орбит, рот замер в крике. Караваджо был зачарован процессом обезглавливания, которое тогда было привычной формой казни для преступников из аристократической среды. Есть предположение, что художник присутствовал на казни Беатриче Ченчи, убившей своего отца, и именно знакомство с обезглавливанием, которому подвергли Беатриче, позволило ему написать с такими натуралистическими физиологическими подробностями свою «Юдифь». Кроме этой картины Караваджо посвящает обезглавливанию «Жертвоприношение Исаака» (1603), «Усечение головы Иоанна Крестителя» (1608) и «Давида и Голиафа» (1610). Есть версия, что лицо Олоферна – это автопортрет, в котором художник выражал мазохистские желания быть жертвой насилия. Это одно из самых откровенных признаний художника в собственных мрачных настроениях. Это и есть, характерная для всего барокко концепция «безумного гения», ломающего все привычные представления о норме. Ещё раз вспомним Э. Тезауро и его «кончетто», его идею Метафоры, как высшего воплощения Остроумия художника, Остроумия, способного соединять самые, на первый взгляд отдалённые по смыслу и морально-нравственному принципу предметы. Мазохизм, откровенный садизм и Библия. Алексу, садисту и убийце, из фильма С. Кубрика «Заводной апельсин» тоже нравилась Библия, и он так же, как Караваджо, находил в ней исключительно жестокие сцены, которые и соответствовали его испорченной натуре.
Но дело здесь не только в возможной патологии самого Караваджо. Дело здесь именно в эстетике барокко. Обобщая наши наблюдения, обратимся к пространной цитате из книги выдающегося французского исследователя Филиппа Арьеса. В своей книге «Человек перед лицом смерти» он пишет о сближении Эроса и Смерти в эпоху барокко в следующих выражениях: «Почти светский успех анатомии в то время объясняется не только ростом научной любознательности. Более глубокой причиной было тяготение современников к вещам зыбким и трудно определимым, к границе жизни и смерти, страданиям и сексуальности. Говоря о сближении Эроса и Смерти, начавшемся еще в конце XV в., мы покидаем мир реальных фактов, какими были резекции в анатомических кабинетах, и входим в тайный и плотный мир воображаемого. Пляски Смерти XIV–XV вв. отличались целомудрием, в следующем столетии они дышат насилием и эротикой. Апокалиптический Всадник у Дюрера восседает на истощенной кляче, от которой остались лишь кожа да кости. С худобой несчастного животного резко – таково было намерение художника – контрастирует мощь гениталий. У Николя Манюэля Смерть не ограничивается тем, что подходит к своей жертве, молодой женщине, и увлекает ее с собой. Нет, она еще насилует ее и всовывает ей руку во влагалище. Смерть предстает уже не простым орудием судьбы и необходимости, она движима похотью, жаждой наслаждений.
Интересно проследить, как старые иконографические темы преобразуются в XVI в., обретая чувственность, прежде неизвестную.
Сравним хотя бы изображения мученичества св. Эразма, относящиеся к XV и XVII вв. Картина фламандца Дирка Баутса в Синт-Питерскерк в Лёвене (Бельгия) исполнена покоя средневековой миниатюры. Усердный палач наматывает здесь на тяжелый ворот внутренности святого, римский император и его двор бесстрастно взирают на эту сцену. Все дышит миром и тишиной: каждый делает свою работу без ненависти, без ожесточения, без страсти. Даже сам святой мученик лежит на месте казни с безразличием и отрешенностью постороннего. Подобно умирающему в первых трактатах artes moriendi, он словно лишь присутствует при собственной смерти. Те же спокойствие и кротость палача и жертвы можно видеть и на других шедеврах старой фламандской живописи: «Мученичество св. Ипполита» того же Баутса или «Наказание судьи неправедного» Херарда Давида в Хрунинхемюзеюм в Брюгге. На полотне Ораджо Фидани в Палаццо Питти во Флоренции тело св. Эразма распростерто перпендикулярно плоскости картины, представлено в перспективе, как зачастую труп в сцене урока анатомии или тело Христа, снятого с креста. Между глубиной перспективы и ожесточенностью, пронизывающей собой картину, есть прямая связь. Палач вытягивает внутренности из распоротого подбрюшья мученика: создается впечатление вскрытия еще живого тела. Палач и его подручные – дюжие молодцы с обнаженными торсами, могучими мышцами, венами, вздувшимися от усилий. Чувственное наполнение этой сцены совершенно иное, чем у Дирка Баутса двумя столетиями раньше. Возбуждение, создаваемое картиной XVII в., иной природы.
В эпоху барокко смерть неотделима от насилия и страданий. Человек не завершает жизнь, но «вырван из жизни, с долгим прерывистым криком, с агонией, раскромсанной на бесчисленные фрагменты», как пишет исследователь французской поэзии барокко Ж. Руссе. Эти дышащие насилием сцены смерти возбуждают зрителей, приводя в движение первичные силы, сексуальная природа которых сегодня очевидна. Возьмем ли мы экстаз св. Катарины Сиенской на фреске Содомы в Монтеоливетто, это упавшее на подушки пышное тело с нежной грудью под кисеей и полными плечами, или млеющих святых жен работы скульптора Бернини в Риме, особенно же его знаменитую св. Терезу в неистовстве экстаза, – всюду увидим мы ту же чувственность страдания и наивысшего религиозного возбуждения. Мистический экстаз этих святых – экстаз любви и смерти, любви к Богу и смерти лишь в здешнем, земном мире. Смерть уже не останавливает чувственное наслаждение, ещё один шаг – и мертвое тело само становится объектом вожделения».
На рубеже XVI-XVII веков Караваджо создал два цикла картин на сюжеты из жизни апостолов. В 1597-1600 годах для капеллы Контарелли в церкви Сан-Луиджи деи Франчези в Риме были написаны три картины, посвященные апостолу Матфею. Из них сохранились только две – «Призвание апостола Матфея» и «Мученичество апостола Матфея» (1599-1600). Для капеллы Черази в церкви Санта-Мария дель Пополо в Риме Караваджо выполнил две композиции – «Обращение Савла» и «Распятие апостола Петра». Разберём картину «Призвание апостола Матфея», написанную для капеллы Контарелли в церкви Сан-Луиджи деи Франчези в Риме. «Призвание Матфея» (ил. XV) изображает момент, в который Иисус Христос вдохновляет Матфея на следование за Господом и дальнейшее становление апостолом. Эта сцена иллюстрирует отрывок из Евангелии от Матфея. Согласно Евангелию, Иисус увидел мытаря Левия (Матфея) у ворот Капернаума и призвал его на апостольское служение: «…Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним».
После призыва «следовать за мной», Матфей выполняет просьбу. На картине растерянный и неуверенный Матфей, видя Христа, указывающего на него, отвечает жестом, как бы вопрошая: «Меня?» Лучи света, освещающие двух молодых людей, создают визуальный контраст между реакциями этих персонажей, показывая крайние формы возможного поведения в одной и той же ситуации. Драматичность сцены заключается в захваченном моменте, когда присутствующие персонажи находятся в шоке, а сам Матфей нерешителен и находится в полном замешательстве, вопреки Христу, испытывающему монументальную уверенность. Простую эстетику работы автор заимствует из своей ранней жанровой живописи, поэтому картина имеет много общего с гадалкой и шулерами, в которых события также происходят в таверне. Картина «Шулера», действительно, очень схожа с евангельским сюжетом. Художник сознательно снижает пафос картины до бытовой сцены. На картине «Шулера» (ил. XVI) изображён наивный юноша в дорогих одеждах, играющий в карты с плутом, у которого видны спрятанные за поясом дополнительные карты. Игроки заняты карточной игрой, одной из разновидностей старинного покера. Зловещий ассистент подглядывает в карты игрока и посылает сообщнику соответствующие сигналы. Кинжал на поясе намекает, что игра навряд ли кончится для жертвы благополучным исходом. На перчатках опытного ассистента срезаны кончики. Это сделано для того, чтобы лучше чувствовать пальцами краплёные карты. И эти срезанные концы перчаток на пальцах, и кинжал за поясом намекают нам на то, что старый сообщник уже готов совершить главное – убийство. Он бросил на стол не только краплёные карты, что предопределяет исход всей игры, он готов и нанести последний удар, удар милости божьей. Этот старый плут и есть сама Судьба, а молодой напарник – лишь его ученик. Жертву же выбрали как лёгкую добычу для учебной охоты. Два плута разных возрастов говорят нам о том, что ждёт молодого игрока: из простой приманки для наивных юношей он со временем сам станет «хозяином игры», с лёгкостью распоряжающимся чужими судьбами. В правой части картины молодой обманщик смотрит с интересом на мальчика и выжидает момент, чтобы вытащить скрытую карту из своих бриджей. Он следит за жестом-сигналом своего наставника по преступному ремеслу. Парня всё равно убьют и ограбят, но перед убийством устраивается своеобразное театральное представление в стиле всей эстетики барокко. А мы, зрители, смотрим на всё происходящее со стороны и ничего не можем изменить в этой одновременно и комичной и драматической ситуации. Картина ломает условные рамки и обращена непосредственно к нам. Она поражает нас своим прямым обращением к зрителю, как это и происходит во время театрального представления. Ведь наивный юноша с розовыми щеками, в цвете своей молодости, которого научили играть по правилам в старинный покер, где-нибудь в хорошей семье, в хорошем богатом доме, вполне мог бы быть и вашим сыном, попавшим в дурную компанию. А может, это и не жанровая сценка вовсе? Может это иллюстрация к библейской истории о блудном сыне? Здесь ничего нет досказанного. Здесь всё апеллирует лишь к нашему воображению, к нашему зрительскому «кончетто», к нашей способности быть остроумными и соединять, на первый взгляд, несоединимое, например, забавное и зловещее, бытовое и мистическое, человеческое и божественное.
Это можно расценивать как своеобразную иллюстрацию к популярному в то время плутовскому роману. Пикареска, или плутовской роман, была ориентирована на изображение превратностей человеческой судьбы. Именно Судьба, или Рок, воспринимались эпохой барокко как основной мистической силой, от прихоти которой зависело всё: и малое, и большое. В левом углу картины художник изобразил поглощенного картами молодого простофилю, который не замечает, что пожилой шулер сигнализирует своему более юному сообщнику поднятыми пальцами. Эти пальцы в перчатках с отрезанными концами и есть перст Судьбы. И изображение такого же судьбоносного перста станет композиционным центром картины, уже полностью посвящённой евангельскому сюжету.
Итак, о жесте. Как и в других картинах, посвященных христианству, Караваджо передает святость сцены через неформальные образы. Преклонных лет мужчина с линзами в руках и его соратник, деловито подсчитывающий выручку, контрастируют с нищим и босым Иисусом. Христос показывает очищающий свет веры, который может вторгнуться в темную обитель жадности и других грехов. Церковь видела сына божьего как второго Адама, вероятно, отсюда и его жест, идентичный жесту первого мужчины во фреске Сотворение Адама, авторства великого Микеланджело. Караваджо трактовал сюжет как сцену из современной жизни. В тени за столом идёт подсчёт дневной выручки мытаря Левия, в чем ему помогает старик в очках. Охранники, вооружённые молодые люди, одетые по последней моде, повернули головы в сторону вновь прибывших. Одежда мытаря свидетельствует о его состоянии. Из всех присутствующих лишь Левий понял, кто стоит перед ним. В изумлении, он вопросительно указывает на себя, ожидая подтверждения. Поток света, падающий с той стороны, где стоят Иисус и апостол Пётр, прорывает мрак. Он символизирует свет веры, ворвавшийся в суетный, тщеславный мир Левия. Его направление также организует взгляд зрителя, заставляя его читать сцену слева направо. Фигуру Иисуса почти полностью закрывает Пётр – лишь голова и рука ярко выделены на тёмном фоне. Иисус появился лишь на мгновение – его босые ноги повёрнуты к выходу. Караваджо трижды повторяет жест вытянутой руки. Да, картина необычна. Караваджо смог виртуозно показать столкновение обыденного, греховного с чудом и светом надежды на спасение. Но вернёмся к фигуре Христа. Ведь все равно хочется ответить на вопрос. Зачем Караваджо усложнил себе задачу и поместил Христа за фигуру святого Петра? Это сделано художником умышленно. Посмотрите, как святой Петр повторяет жест своего учителя. Он не такой благородный. Неловкий. В этом жесте больше сомнения, чем решимости. Кто-то очень точно заметил, что только демоны прекрасно знали, кто такой Христос, а его ближайшее окружение всё время пребывало в сомнении. Пётр предаст своего учителя, Фома не поверит в воскрешение. Такова человеческая природа. Картина в этом смысле обладает мощнейшим психологическим подтекстом. Жест Христа ясен. Это жест Бога. Жест Петра не уверен, полон сомнений. Мы уже отмечали выше, как умел великий художник через динамику передать всю гамму человеческих чувств. И вот ещё один яркий пример такого умения. А теперь сам Матфей, городской мытарь, сборщик налогов у бедноты, который пришёл в этот трактир с охранником, дабы обезопасить себя от ненужных эксцессов. А что они возможны, мы уже видели на картине «Шулера». Жест будущего апостола также полон сомнений. Будущий Матфей еще не перестал быть Левием. Имя – это судьба, и Матфей находится в состоянии психологического перехода. В нём уже вспыхнул огонь веры, но земное, человеческое, ещё берёт своё. И его жест-сомнение, словно в зеркале, копируется рядом сидящей фигурой молодого человека. Он ещё не успел поднять глаза. Он погружён в подсчёт денег. Он ещё принадлежит этому миру греха и порока. Он вне света, озарившего всё вокруг. Это какая-то, если хотите, часть самого Матфея, его жадное прошлое, его молодость, освещённая лишь демоном наживы. Тот, кто указывает на себя и словно спрашивает в сомнении: «Я!?» – это уже будущее апостола, апостола зрелых лет. У нас на глазах происходит не только фиксация определённого выразительного жеста, но передаётся метафорически и сам процесс Перерождения человека, когда в нём вспыхивает огонь Веры. Вот это и есть, на наш взгляд, наглядное воплощение художественной Метафоры, как одного из основных элементов всей эстетики барокко. А Метафорой всех Метафор является Бог, по меткому наблюдению Э. Тезауро. Вот Божественную Метафору, Божественный перенос действия бытового в действие мистическое, Метафору, способную осуществить почти наглядный переход из мира видимого, суетного в мир невидимый, горний и смог передать гений Караваджо. Но если в этой бытовой зарисовке всё так не просто, всё обладает переносным смыслом, то всегда рядом с Христом бродили и демоны. Они ведь были самые главные знатоки его божественной природы, а не люди, полные сомнений и мирских забот. Ещё раз посмотрите, с какой страстностью молодой человек считает деньги на столе. Разве эта фигура не напоминает вам какого-нибудь современного успешного представителя банковской системы? Разве стать таким менеджером высшего звена не мечта миллионов молодых людей в современном мире? Но тогда, где здесь дьявол? Ведь он и есть князь мира сего. Он и есть воплощение того мрака, на фоне которого и должен взорваться яркой вспышкой божественный свет. И дьявол на картине тоже присутствует. Он склонился над спиной юноши, он специально надел очки, он выглядывает из тьмы и помогает парню считать, чтобы тот не пропустил ни одной монеты, омытой кровью бедняков.
Но Христос уже призывает! Кажется, ещё секунда и парень тоже поднимет глаза, а дьявол в очках исчезнет во мраке, как морок, как иллюзия. На этом великом полотне как раз и зафиксирован момент перехода человека из одного состояния в другое. Это почти «диалектика души», которую в прозе смог в полной мере воплотить только гений Л.Н. Толстого. Мы знаем, что через секунду юноша поднимет глаза, а старец пойдёт за учителем. Но это всё произойдёт лишь в следующее мгновение. Вот она внутренняя динамичность картины. Получается, что Караваджо сумел передать через динамику внешнюю, через динамику жеста, динамику скрытую, внутреннюю. Но это и есть понятие переноса смысла, ведь метафора по-гречески и означает перенос или перевоз.
Об этом потоке света как символе веры, которая прорывается в суетный мир обычного римского трактира со слюдяными окнами и грязным полом, мы подробнее поговорим позднее. Дело в том, что именно умение изображать эту яркую вспышку света, словно взрывающуюся во мраке, станет чуть ли не самым главным изобретением Караваджо, изобретением в области языка живописи, которое и окажет неизгладимое влияние на всех великих живописцев, следовавших за ним.
В 1602-1604 годах художник написал «Положение во гроб» («Снятие с креста») для церкви Санта-Мария-ин-Валичелла в Риме. В 1603-1606 годах создал композицию «Мадонна ди Лорето» для церкви Сант-Агостино. В 1606 году написана картина «Успение Марии».
На картине «Положение во гроб» (1602-1604 гг.) изображены святой Иоанн и Никодим, поддерживающие тело Христа, позади них стоят охваченные отчаянием три Марии. Светом божественной благодати озарено мертвенно-бледное тело Христа. Благодаря углу зрения зритель как бы включен в картину, детали стали приобретать все более натуральный вид; приближаясь к истинной действительности, вы буквально ощущаете, как давит на вас эта власть материи, вплоть до ощущения физической тяжести художник добивается эффекта присутствия. Мрак наступил по всей земле. У вас на глазах пятеро кладут в каменную могилу шестого – Христа. Иоанн подставил свое колено и рукой обхватил Иисуса, неумело вложив руку в рану от копья. Он словно хочет убедиться, что Учитель мертв. Этот жест очень оправдан. Он оправдан всей атмосферой Мрака, царящего на земле до Воскресения Христова. Этот Мрак – Мрак сомнения: неужели Смерть победила? Неужели не осталось никакой надежды. Вот он – апофеоз Всепобеждающей Смерти. Этот жест перекликается с другой картиной Караваджо: «Неверие апостола Фомы». Вот она трагедия Учителя! Кто-то очень точно сказал: что демоны-то прекрасно знали, кто такой Христос, а вот ученики его – нет. Они были людьми и их одолевали сомнения. И каждый учитель на земле в той или иной степени повторяет этот опыт Спасителя: глухота и сомнения тех, в кого ты душу вкладываешь. Вкладываешь и, порой, распинаешь сам себя, а в твоих ранах ковыряются еще, кровь на вкус пробуют. Такова человеческая натура: мы все виноваты перед своими учителями, мы все жаждали когда-то их плоти и с наслаждением ковырялись в их ранах, думая, что тем самым мы, якобы, равны с ними, с учителями нашими. Святой Фома своими грязными пальцами крестьянина, когда из-под ногтей не выковыряли даже жирный чернозем, деловито ощупывает рану Христа. Этакий портрет ученого-испытателя, решившего попробовать все на вкус, потому что он доверяет лишь своим пяти чувствам.
От шестого же часа тьма была по всей земле. И померкло солнце. Мрак безвременья окутал этих пятерых людей, и они опускали шестого во тьму. Опускали не только в кладбищенскую сырость свежераскопанной земли – отпускали в вечное небытие и не знали, что он воскреснет на третий день, прощались с ним навсегда. Люди стоят на могильной плите, выдвинутой углом вперед, она выглядит, как подножие скульптурной группы, но это – настоящая надгробная плита, под ней зияет провал, из-под нее тянет сыростью, и у нижнего среза картины растет мясистый кладбищенский цветок. Фигуры написаны в полный рост, приближены к самому переднему краю; кажется, что локоть Никодима и острая грань камня вот-вот уткнутся вам в лицо. Вы ведь тоже здесь присутствуете. Вы ощущаете эту тяжесть, потому что следующий, кто возьмет тело Спасителя, будете именно вы. Получается, что одной рукой вы будете ковыряться в его ране, обуреваемый сомнениями, а другой ощутите физически всю тяжесть охватившей вас скорби. Крайняя фигура Никодима буквально умоляет вас: помоги, разве не видишь, как тяжело? Что стоишь, словно зритель? Ты уже давно здесь, в картине, с нами, и мы хороним Бога и хороним его вместе с тобой! Помоги, слышишь! Помоги! Мне не удержать эту тяжесть, эту скорбь Вселенскую! Представьте себе только, сколько за 400 лет мысленно люди подставляли свое плечо под тело Христово, сколько смогло ощутить тяжесть Смерти и тяжесть скорби, сколько за это время соскользнуло без следа во мглу, в могилу, на которой уже пророс жирный кладбищенский цветок? У каждого из нас есть свой счет со смертью и каждый уже хоть раз, а постоял на краю. Когда смотришь на мертвое тело Христа на этом полотне Караваджо, то видишь даже не Бога, а очень близкого тебе человека, которого забрала у тебя всесильная Смерть. Значит только Она правит бал. Значит все, что остается – так это жирный могильный цветок? Как у Тургенева: «На моей могиле только лопух расти будет?» И тут в дело вступает бесподобный, ни с чем не сравнимый Свет, Свет, созданный Караваджо, Свет, исходящий из самых глубин грешной души гения. Откуда исходит он? Разве на картине есть источник такой яркой вспышки? Нет там никакого источника. Художника, вообще, упрекали в том, что он не заботится о фоне, о точной прорисовке деталей, оказавшихся на периферии нашего зрения. Этот Свет – Свет внутренний, Свет надежды. Он отчаянно борется, борется с тьмой. И побеждает, но лишь как ослепительная вспышка. Этот Свет должен когда-то вспыхнуть в каждом из нас, несмотря на сомнения и власть Материи и Смерти, ибо сказано: «Каждая душа по своей природе христианка». И тогда ты тоже подставишь вслед за трудягой Никодимом свое плечо под тело Спасителя и ощутишь скорбь утраты, чтобы потом раствориться в божественном сиянии, исходящим из тебя самого. Сцена изображена настолько правдоподобно, что зритель, смотрящий на полотно, невольно чувствует себя как бы участником события. Это ощущение усиливается и тем, что точка обозрения, избранная художником, расположена на уровне глаз посетившего музей Ватикана человека.
Жизненность композиции – в силе света. Его интенсивность увеличивается по контрасту с глубокими тенями, их активное взаимодействие создает резкие и подлинно драматические эффекты, так как жесткая светотень Караваджо не имела ничего общего с мягкой дымкой сфумато Леонардо да Винчи или с нежным серебристым светом в картинах венецианских мастеров. Густые, плотные мазки Караваджо материальны и весомы, а локальные цвета – черные, серовато-белые, оливково-зеленые, коричневые, темно-синие и особенно горячие красные – придают форме рельефность и объемность. Среди избираемых Караваджо сюжетов совсем не встречаются такие праздничные евангельские сюжеты, как «Благовещение», «Обручение», «Введение во храм», которые давали итальянским мастерам благодарную возможность изображать пейзажи или пышные людские шествия. Напротив, в его полотнах преобладали физические страдания, смерть и жестокость – приметы тяжкой земной жизни.
И снова в случае с «Положением во гроб» (ил. XVII) Караваджо вдохновила сама действительность, сама живая натура, встреченная им на дорогах, площадях или улицах Рима. Грузчики, солдаты, рыбаки, крестьяне вторгались в его церковные картины, служили прототипами для изображения Христа, святых и апостолов. Поэтому и «Оплакивание Христа» трактуется художником как народная драма, трагическое событие, понятное всем. Зрители воспринимали не только монументальность композиции, звучность локальных тонов или патетические жесты участников сцены. Их буквально ошеломлял угол гробовой плиты, нависшей гигантской тяжестью над черной глубиной могилы, они были потрясены тем, что могли коснуться, казалось, застывшей руки Христа, безжизненно упавшей на холодную громаду камня, они сочувствовали святому Никодиму, согнувшемуся под смертной тяжестью ноши. Картина была задумана так, чтобы взывать к зрителю в расчете на его ответную реакцию. Она властно приобщала к миру живописных образов, и этот поражавший новизной художественный прием был открыт и развит именно Караваджо.
Интересный факт – до появления виртуоза светотени Караваджо европейские живописцы избегали в своих картинах контрастов и как могли игнорировали резкие тени от предметов и людей. Считалось, что подобные тени разрушают гармонию и вредят композиции. Даже великий Леонардо да Винчи в своем «Трактате о живописи» замечал, что «тени, которые появляются при слишком ярком свете, нехороши». Светотень – это средство композиционного построения. С ее помощью удается выразить замысел произведения. Светотень, это средство, которое обладает эмоциональным воздействием, которое может передать не только постоянное свойство материального мира, но и атмосферное состояние. Использование в произведениях искусства светотени можно увидеть еще на работах античных живописцев. Разработкой теории светотени начал заниматься еще Леонардо да Винчи, и с тех пор, ее использовали все художники в своих работах. Светотеневая градация во многом зависит от атмосферного состояния, особенности и формы предмета, его объема, а также силы освещения. В качестве градации светотени выступают тень, свет, полутень, блик и рефлекс:
• свет– ярко освещенная поверхность источником света;
• блик – пятно света на ярко освещенной глянцевой поверхности, когда там еще присутствует зеркальное отражение;
• тень – слабо освещенный или вообще неосвещенный участок объекта. Собственные тени – это тени на неосвещенной стороне, а такие тени, которые объект отбрасывает на другую поверхность, называются падающими;
• полутень – это слабая тень, которая может возникнуть в случае, если на объект направлены несколько источников света под небольшим углом;
• рефлекс – это светлое пятно в области тени, которое может образоваться от падающего луча, отраженного от другого объекта.
Революцию в живописи произвел Микеланджело Меризи да Караваджо (1573 – 1610), который отверг все наставления художников Возрождения. Он начал прибегать к резко контрастной игре света и тени.
Полные драматизма полотна художника пронизаны невероятной игрой света и тени, и это художественное откровение повлияло на последующее развитие изобразительного искусства. Испанский философ Ортега-и-Гассет написал о Караваджо так: «Свет у него ошеломляющий, патетический, драматический, однако в конечном счете свет реальный, свет, списанный с натуры, а не выдуманный».
Если сравнивать контрастную игру света и тени на полотнах Караваджо с музыкой барокко, то это, скорее, будет похоже на резкий переход от минора в мажор в музыке этого исторического периода и, в частности, в музыке Баха и Генделя. В этом смысле картины итальянского художника, в каком-то смысле, звучащие.
В живописи такую манеру принято называть «тенебросо». Тенебросо – в переводе с испанского означает «тёмный» или «мрачный». В искусствоведении словом «тенебросо» называют манеру живописи, в которой темные краски значительно преобладают над светлыми, а контрасты света и тени – очень выразительные и резкие. Изредка для обозначения подобной манеры используется другое слово, итальянское – кьяроскуро (chiaroscuro по-итальянски и значит «светотень»). Направление в искусстве, злоупотребляющее светотенью, получило название тенебризм, а его представителей называют тенебристами (по-испански – Tenebrosi). Родоначальником искусства тенебризма считается Микеланджело Меризи да Караваджо. Изобретённую им манеру можно описать приблизительно так. Луч яркого света выхватывает фигуры, расположенные на переднем крае полотна, из условного темного пространства. «Рисующий» свет моделирует объемы. Но и темнота не желает легко сдавать свои позиции, поэтому на людей и предметы ложатся густые тёмные тени. Влияние «свето-теневой революции» Караваджо было так велико, что стали возникать целые школы «погребной живописи». Причем иногда «погребной» понималось вполне буквально: например, в Испании времён Мурильо (середина XVII века) художники обустраивали мастерские в погребах – таким образом удавалось организовать пространство, чтобы свет падал откуда-то сверху и сбоку. Удивительного психологизма и драматизма Караваджо добивался особым освещением своих полотен: источника света на картинах почти никогда не видно, но он явно неестественного происхождения и расположен где-то над головами героев, высвечивая из темноты их фигуры, лица, жесты – а в итоге характеры и эмоции. Такой многозначительный свет, используемый не только для создания объема (эффекта, по-нашему говоря), но и для разжигания страстей, по сей день пытаются воспроизводить на театральных подмостках и в голливудских фильмах. Операторы, которым это удается, обычно номинируются на премию «Оскар». По сути дела, Караваджо и его последователи стали предвестниками и современной фотографии, которая с греческого переводится как светопись, и современного кинематографа. Но чтобы достичь такой игры света и тени нужно было обеспечить мастерскую соответствующим освещением. И всё дело упиралось в свечи как в единственный источник искусственного освещения.
Свечи были изобретены человеком очень давно, однако долгое время стоили дорого и применялись лишь в домах богатых людей. Прототипом свечи являются чаши, наполненные маслом или жиром, с щепочкой в качестве фитиля (позднее стали использовать фитильки из волокна или ткани). Такие светильники давали неприятный запах и очень сильно коптили. Первые свечи современной конструкции появились в Средневековье и изготавливались из жира (чаще всего) или из воска. Восковые свечи долгое время были очень дороги. Чтобы осветить большое помещение, требовались сотни свечей, они чадили, черня потолки и стены. Вряд ли у Караваджо хватило бы денег для приобретения достаточного количества свечей, чтобы создать свой собственный стиль в живописи, получивший впоследствии название «тенебросо». Но эпоха барокко была ещё характерна тем, что именно в это время укрепляются контакты с Новым Светом. До XV века свечи изготавливались выдерживанием впитывающего материала – папируса, бумаги, пористой сердцевины некоторых растений – в расплаве жира до его напитывания. В XV веке была изобретена цилиндрическая форма для отливки свечей, одновременно медленно начала возрастать популярность пчелиного воска как горючего материала для свечей. В XVI—XVII веках американскими колонистами было изобретено получение воска из некоторых местных растений, и свечи, произведенные этим способом, временно набрали большую популярность – они не дымили, не таяли так сильно как сальные, а, главное, были не так дороги и их в надлежащем количестве мог приобрести живописец-экспериментатор. Можно сказать, что в какой-то степени мы обязаны этой новой и доступной свече целому открытию в области живописи. Во всяком случае, «тенебризм» вряд ли бы смог так поразить зрителей своей контрастной и необычайно выразительной игрой света и тени.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































