Текст книги "Парижские тайны"
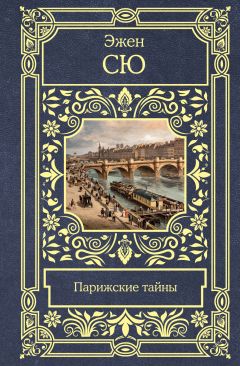
Автор книги: Эжен Сю
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 111 страниц) [доступный отрывок для чтения: 36 страниц]
– Кажется, она немного поправилась с тех пор, как я ее не видел, – сказал Родольф, обращаясь к маркизе.
– Да, ваше высочество, она себя чувствует лучше, но все еще порой недомогает.
Маркиза и принц одинаково боялись предстоящего им разговора и почти радовались той отсрочке, которую им давала Клэр. Но гувернантка потихоньку увела с собой девочку, и Родольф с Клеманс остались наедине.
Глава XVI. Признания
Кресло, где сидела г-жа д’Арвиль, находилось справа от камина; Родольф стоял, легко опираясь на мраморную полку локтем.
Благородный и прекрасный облик принца поразил Клеманс как никогда; голос его показался невыразимо нежным и звучным.
Чувствуя, что маркизе трудно начать разговор, Родольф сказал:
– Сударыня, вы стали жертвой подлого предательства: низость графини Сары Мак-Грегор едва не погубила вас.
– Неужели это правда, монсеньор? – воскликнула Клеманс. – Значит, мои предчувствия не обманули меня. Но как ваше высочество узнали?..
– Вчера, совершенно случайно, на балу у графини *** я услышал об этом подлом заговоре. Я сидел в дальнем уголке зимнего сада. Графиня Сара и ее брат не знали, что меня отделяет от них только зеленая шпалера, и не стесняясь говорили о своих замыслах и о ловушке, которую вам расставили. Я хотел предупредить вас о грозящей вам опасности, а потому поспешил на бал к госпоже де Нерваль, надеясь увидеть вас там, но вы там не появились.
Написать вам утром я не решился: письмо могло попасть в руки маркиза и пробудить его подозрения. Я предпочел подождать вас на улице Тампль, чтобы предупредить о предательстве Сары. Надеюсь, вы простите меня, что я так долго говорю о столь неприятном для вас деле? Если бы не ваше доброе письмо, я бы в жизни об этом не заговорил…
Чуть помолчав, г-жа д’Арвиль сказала Родольфу:
– У меня только один способ выразить вам мою благодарность, монсеньор… это сделать признание, которого не сделала бы никому. Это признание не оправдает меня в ваших глазах, но, может быть, смягчит мою вину перед вами.
– Честно говоря, – с улыбкой сказал Родольф, – мое положение весьма затруднительно.
Пораженная его почти легкомысленным тоном, Клеманс взглянула на Родольфа с изумлением.
– Я не понимаю вас, монсеньор!
– Благодаря простому стечению обстоятельств, о которых вы, сударыня, несомненно догадываетесь, я был вынужден сыграть роль, скажем, доброго дядюшки в этой истории. Но поскольку вы не попались в подлую ловушку, расставленную вам графиней Сарой, об этом вряд ли стоит говорить. Однако, – добавил Родольф серьезно и сочувственно, – не забывайте, что ваш муж для меня почти как брат. Мой отец многим обязан его отцу. Поэтому я от всей души поздравляю вас за то, что вы смогли вернуть вашему мужу уверенность и покой.
– Ах, монсеньор, именно потому, что вы удостаиваете господина д’Арвиля своей дружбы, я обязана открыть вам всю правду! И об этом моем выборе, который казался вам таким постыдным и в действительности таким оказался, и о моем поведении, оскорбительном для моего мужа, которого ваше высочество называет почти братом.
– Сударыня, я всегда буду счастлив и горд малейшим доказательством вашего доверия. Однако позвольте сказать вам о вашем выборе, что я знаю: вы поддались чувству жалости и настойчивым уговорам графини Сары Мак-Грегор, у которой были свои побуждения вас погубить… Я также знаю, что вы долго колебались, прежде чем решиться на поступок, о котором так сожалеете до сих пор.
Клеманс была поражена.
– Вас это удивляет? – продолжал принц с улыбкой. – Я открою вам когда-нибудь свою тайну, чтобы вы не считали меня волшебником. Но скажите, вы уверены, что ваш муж окончательно успокоился?
– Да, монсеньор, – сказала Клеманс, смущенно опуская глаза. – Признаюсь, мне так стыдно, когда он просит прощения за то, что подозревал меня, и восторгается моим скромным умолчанием о благотворительных делах.
– Он счастлив в своем неведении, не упрекайте его за это, наоборот, поддерживайте, сколько можно, этот невинный обман! Если бы я мог так легко говорить об этом приключении, если бы речь шла не о вас… я бы сказал, что вы самая очаровательная женщина, которая вынуждена что-то скрывать от своего мужа. Невозможно представить, какие щедрые ласки расточает нечистая совесть, какие восхитительные цветы расцветают на почве измены… В молодости, – добавил Родольф с улыбкой, – я обычно испытывал смутные опасения, когда мне выказывали особенно нежную привязанность, и поскольку я, со своей стороны, всегда чувствовал особую уверенность в себе, когда бывал небезупречным, то, встречая ту же коварную ласковость, какую старался проявить сам, был убежден, что за этим согласием таится… взаимная измена.
Госпожа д’Арвиль все больше удивлялась, слушая, как насмешливо говорит Родольф о ее приключении, которое могло окончиться для нее ужасными последствиями. Но вскоре она поняла, что своим легкомысленным тоном принц благородно пытается уменьшить значение оказанной им услуги, и сказала, глубоко тронутая его скромностью:
– Я понимаю ваше великодушие, монсеньор. Вам дозволено сейчас шутить и не вспоминать об опасности, от которой вы меня избавили… Но то, что я вам обязана сказать, настолько важно, и настолько грустно, и настолько связано с сегодняшними событиями, что ваш совет мне необходим, и я умоляю вспомнить, что вы спасли мне честь и жизнь, да, жизнь! Мой муж был при оружии, он мне в этом признался в приступе раскаяния, он хотел меня убить.
– Боже мой! – вскричал пораженный Родольф.
– И он был прав, – горько ответила г-жа д’Арвиль.
– Заверяю вас, сударыня, – уже серьезно продолжал Родольф, – мне вовсе не безразлична ваша судьба. Если я сейчас подшучивал, то только потому, что хотел рассеять ваши печальные воспоминания об этом утреннем происшествии, которое должно было вас так взволновать. А теперь, сударыня, я слушаю вас с величайшим вниманием, так как вы сказали, что мои советы могут быть вам весьма полезными.
– Даже очень полезными, монсеньор! Но, прежде чем испросить их у вас, позвольте рассказать в двух словах о не столь далеком прошлом, о котором вы не знаете… о моей жизни до брака с господином д’Арвилем.
Родольф поклонился, и Клеманс продолжала:
– В шестнадцать лет я потеряла мать, – говорила она, невольно уронив слезу. – Нет сил сказать, как я ее любила! Представьте, монсеньор, воплощенную доброту! В своей нежности и заботах обо мне она находила глубокое утешение за свои земные печали… Она мало кого любила, здоровьем была слаба, и, естественно, на склоне лет самым большим удовольствием для нее стало мое воспитание. Она обладала основательными и разнообразными знаниями и могла лучше всех исполнить выбранную ею роль.
…Судите сами, монсеньор, как были мы поражены, она и я, когда – мое образование уже завершилось – отец под предлогом того, что мать нездорова, объявил нам, что некая молодая вдова из хорошей семьи, чьи печали его очень тронули, готова завершить то, что начала моя мать. Та сначала воспротивилась желаниям моего отца. Я тоже умоляла его не ставить между мной и матерью чужую женщину. Но он был непреклонен, несмотря на наши слезы. Госпожа Ролан, вдова полковника, погибшего где-то в Индии, поселилась у нас и получила должность моей учительницы.
– Как, та самая госпожа Ролан, на которой ваш отец женился почти сразу же после вашей свадьбы? – воскликнул Родольф.
– Да, монсеньор.
– Наверное, она была очень хороша?
– Да нет, так себе.
– Тогда, может быть, очень умна?
– Притворство и хитрость, и ничего больше. Ей было лет двадцать пять, очень светлая блондинка с почти белыми ресницами и большими круглыми голубыми глазами; личико скромное и слащавое, а характер подленький до жестокости, угодливый до самой последней низости.
– А воспитание? Знания?
– Никаких! До сих пор не могу понять, монсеньор, как мой отец, всегда столь рабски подчинявшийся условностям, не подумал, что неподготовленность этой женщины самым скандальным образом выдает истинную причину ее присутствия у нас. Моя мать заметила ему, что госпожа Ролан невежда. Отец ответил не допускающим возражений тоном, что невежда она или нет, но эта молодая и интересная вдова останется в нашем доме моей воспитательницей. Я узнала обо всем этом много позже; после этого разговора моя мать поняла все и погрузилась в глубокое горе, сожалея, как я думаю, не столько о неверности моего отца, сколько о тех пагубных последствиях, которые могла причинить эта связь, если бы слухи о ней дошли до меня.
– Но послушайте, сударыня, даже если ваш отец так безумно увлекся этой женщиной, совершенно непонятно, зачем он ввел ее в ваш дом… Это было неразумно!
– Ваше недоумение удвоится, монсеньор, если вы узнаете, что отец мой был самым щепетильным человеком из всех, кого я знала, человеком, считавшимся со всеми условностями, и, если он пренебрег ими, нужны были необычайная воля и настойчивость госпожи Ролан, которая прикрывалась безумной любовью к нему.
– Но сколько же лет было вашему отцу?
– Около шестидесяти, монсеньор.
– И он верил в любовь этой женщины?
– Мой отец был одним из самых модных светских людей своего времени, и госпожа Ролан, следуя своему инстинкту или хитрым советам…
– Хитрым советам? Кто мог их давать?
– Я сейчас скажу вам, монсеньор. Понимая, что мужчина, избалованный победами, на пороге старости весьма восприимчив к похвалам его внешности, напоминающим ему о расцвете его лет, эта женщина – поверите вы мне, монсеньор? – все время льстила ему, восхищаясь его лицом и фигурой, его неповторимой элегантностью, его неотразимым очарованием, а ему было за пятьдесят. Все восхищались ее редкостным умом, и он попался на эту простейшую приманку. В этом была и есть, я не сомневаюсь, основа влияния этой женщины на моего отца. Несмотря на мои горестные заботы, монсеньор, я не могу без улыбки вспоминать, как госпожа Ролан, еще до моего замужества, говорила и повторяла, что «истинная зрелость» – самый прекрасный возраст. И эта «истинная зрелость», по ее словам, наступает только на пятьдесят пятом – шестидесятом году жизни.
– Сколько же лет вашему отцу?
– Именно столько, монсеньор. Только в этом возрасте, говорила госпожа Ролан, разум и опыт достигают высшего развития; только тогда человек высокого положения получает в свете достойное признание, только тогда его черты, его прекрасные манеры достигают совершенства, и лицо его в этих годах приобретает божественное выражение, чудную редкую смесь снисходительной безмятежности и доброй серьезности. И наконец, легкий оттенок меланхолии, которая всегда сопутствует опыту прежних разочарований, дополняет неотразимое очарование «истинной зрелости», очарование, которое, спешила заметить госпожа Ролан, понятно только женщинам с добрым умом и сердцем, которые лишь пожимают плечами, слыша взрыв хохота сорокалетних ветреников, на которых нельзя ни в чем положиться и чьи еще незрелые черты пока не имеют величавого выражения, свидетельствующего о глубоком знании жизни.
Родольф невольно улыбнулся, слушая, с какой иронией маркиза д’Арвиль рисует портрет своей мачехи.
– Есть одна вещь, которую я никогда не прощаю смешным и нелепым людям, – сказал он маркизе.
– Что же это, монсеньор?
– Их злобность. Она мешает нам весело посмеяться над ними.
– Может быть, в этом и есть их расчет, – сказала Клеманс.
– Я готов в это поверить, а жаль. Потому что, если бы, к примеру, я не знал, что эта госпожа Ролан намеренно причинила вам столько горя, я бы от души похохотал над ее изобретением «истинной зрелости», которую она противопоставляет бездумной молодости сорокалетних сорванцов, как утверждает эта женщина, едва вышедших из «возраста пажей», как говаривали наши предки.
– Отец мой, по-моему, до сих пор счастливо тешится иллюзиями, которые внушила ему моя мачеха.
– А сама она несомненно страдает, расплачиваясь за свою ложь: ваш отец поверил в ее страстную любовь, поймал ее на слове, и теперь она пленница его любви и одиночества. Позвольте сказать вам: жизнь вашей мачехи столь же невыносима, сколь велико счастье вашего отца. Представьте себе радость шестидесятилетнего мужчины, привыкшего к успехам в свете и уверовавшего, что его еще может страстно любить молодая женщина! Естественно, у него возникло желание отгородиться вместе с нею от всего мира…
– Пусть отец будет счастлив, монсеньор, я бы не стала жаловаться на госпожу Ролан, если бы не ее отвратительное отношение к моей матери… И еще, если бы не ее слишком рьяное старание поскорей выдать меня замуж. За это я ее особенно презираю и ненавижу, – сказала г-жа д’Арвиль.
Родольф посмотрел на нее с удивлением.
– Господин д’Арвиль ваш друг, монсеньор, – продолжала Клеманс твердым голосом. – Я сознаю всю важность моих слов. Вы скоро поймете, насколько они справедливы. Однако вернемся к госпоже Ролан, назначенной мне в гувернантки, несмотря на ее очевидную безграмотность и неспособность. Из-за нее у моей матери произошло мучительное объяснение с моим отцом. Мама объявила ему, что положение этой женщины в доме нетерпимо и что она не выйдет к столу, если госпожа Ролан немедленно не уйдет от нее. Моя мать была воплощением мягкости и доброты, но в то же время была несгибаема, дело шло о ее собственном достоинстве. Мой отец остался непоколебим, а она сдержала свое слово: с этого дня мы жили с ней совершенно отдельно на ее половине дома. Отец стал ко мне так же холоден, как к моей матери, а госпожа Ролан почти в открытую играла роль хозяйки дома, все еще притворяясь, будто она моя гувернантка.
– До какой же крайности может довести слепая страсть самого разумного человека! И чем больше нам льстят, чем больше расхваливают наши достоинства, которых уже больше нет, тем скорее мы забываем о достоинствах, которыми еще обладаем. Доказывайте шестидесятилетнему, что он так же хорош и силен, как в тридцать лет, – это же азбука самой грубой лести! Но чем грубее лесть, тем она действенней… Увы, нам, принцам, это давно знакомо.
– Да, вам ли это не знать, монсеньор!
– В этом смысле вашего отца обманывали, как короля… Но ваша мать, наверное, страдала невыразимо.
– И не столько за себя, сколько за меня, монсеньор, потому что она думала о будущем. Она вообще была очень слабенькая, а теперь начала угасать и скоро серьезно заболела. И судьба сложилась так, что наш домашний врач Сорбье, которому мама так доверяла, умер, и она долго его оплакивала. У госпожи Ролан был свой врач и приятель, какой-то итальянец, весьма знаменитый, как она говорила. Отец, естественно, иногда обращался к нему, был доволен и порекомендовал его моей матери, которая, увы, согласилась… Он ее пользовал, когда она в последний раз занемогла.
При этих словах глаза г-жи д’Арвиль наполнились слезами.
– Мне стыдно признаться в моей слабости, монсеньор, – продолжала она. – Но именно потому, что этого врача порекомендовала моему отцу госпожа Ролан, он вызывал у меня, хотя и без всякой причины, какое-то невольное подозрение. Я чего-то боялась, глядя, как моя мама доверяется этому пусть ученому, но незнакомому доктору Полидори…
– Что вы сказали? – вскричал Родольф.
– Что с вами, монсеньор? – удивленно спросила Клеманс, глядя на исказившееся лицо Родольфа.
– Нет, быть не может, – пробормотал про себя принц. – Я наверняка ослышался. Вот уже пять-шесть лет назад мне говорили, что Полидори года два скрывается в Париже под чужим именем… Не его ли я видел вчера, этого шарлатана Брадаманти? И все-таки два имени… какое совпадение![86]86
Напомним читателю, что Полидори был тем самым ученым медиком, который вознамерился стать воспитателем Родольфа.
[Закрыть] Простите, несколько слов об этом докторе Полидори, – сказал Родольф маркизе д’Арвиль, которая глядела на него с возрастающим удивлением. – Сколько лет этому вашему итальянцу?
– Лет пятьдесят примерно.
– А каков он собой?
– Довольно мрачный… Никогда не забуду его глаза, светло-зеленые, и его нос, горбатый, как огромный клюв…
– Он, точно он! – воскликнул Родольф. – И вы думаете, мадам, что этот доктор Полидори все еще живет в Париже?
– Не знаю, монсеньор. Примерно через год после новой женитьбы моего отца он покинул Париж. Одна из моих знакомых, которую в то время пользовал этот врач-итальянец, герцогиня де Люсене…
– Герцогиня де Люсене? – воскликнул Родольф.
– Да, монсеньор… Чем вы так удивлены?
– Позвольте мне не ответить вам. Но расскажите, что было в то время между герцогиней де Люсене и тем итальянцем?
– Знаю только, что после отъезда из Парижа он часто писал ей довольно остроумные письма, рассказывал о странах, где побывал, потому что он много путешествовал… А потом… Помню, месяц назад я как-то спросила герцогиню де Люсене о Полидори, а она замялась и сказала, что давно о нем не слышала, что не знает, где он и что с ним сталось, и даже ходят слухи, будто он умер.
– Поразительно! – воскликнул Родольф, сразу вспомнив о том, что герцогиня де Люсене приходила к шарлатану Брадаманти.
– По-видимому, вы тоже знаете этого человека, монсеньор?
– Да, к несчастью… Но, бога ради, продолжайте ваш рассказ! Я вам потом скажу, кто такой этот Полидори…
– Как? Этот врач?
– Скажите лучше: злодей, запятнанный самыми гнусными преступлениями!
– Преступлениями? – в ужасе вскричала г-жа д’Арвиль. – Он совершал преступления, этот человек, друг госпожи Ролан и врач моей матери? Моя мать умерла у него на руках, проболев всего несколько дней!.. Ах, монсеньор, вы пугаете меня! Вы говорите обо всем этом слишком много… но все же не до конца…
– Я не обвиняю этого человека в еще одном преступлении, не обвиняю вашу мачеху в немыслимом двуличии, я говорю только, что вы должны благодарить бога за то, что ваш отец после женитьбы на госпоже Ролан не прибегал к услугам этого доктора Полидори.
– О господи! – воскликнула г-жа д’Арвиль душераздирающим голосом. – Значит, предчувствия не обманывали меня!
– Ваши предчувствия?
– Да, монсеньор. Я вам уже говорила о подозрениях, которые внушал мне этот врач, потому что его пригласила к нам в дом госпожа Ролан. Но я сказала вам не все, монсеньор…
– Как не все?
– Я боялась бросить тень на невиновного под влиянием тяжелых воспоминаний. Но теперь я скажу вам всю правду, монсеньор. Мать болела вот уже пять дней, и я не отходила от нее. Однажды вечером я вышла подышать на террасу нашего дома. Минут через пятнадцать я возвращалась по длинному, темному коридору. Дверь в комнату госпожи Ролан была приоткрыта, и я в полумраке увидела, как из нее выходил господин Полидори. Эта женщина провожала его. Я спряталась в тени, и они меня не заметили. Госпожа Ролан сказал ему что-то, но я не могла расслышать ее слов. Однако врач ответил ей громче, и я услышала только одно слово: «Послезавтра!» И поскольку госпожа Ролан продолжала говорить с ним шепотом, я услышала, как он ответил ей с особенным выражением: «Послезавтра, говорю вам, послезавтра, и не позднее!» Что означали его слова? Что они означали, монсеньор? В среду вечером господин Полидори говорил: «Послезавтра!» В пятницу моя мать умерла…
– Это ужасно!
– Когда я подумала обо всем этом и вспомнила об этих его словах – «послезавтра, и не позднее!» – которые как бы предсказывали день смерти моей матери, мне пришла в голову одна мысль: господин Полидори, зная, что моей матери осталось недолго жить, поспешил уведомить об этом госпожу Ролан… Ту самую госпожу Ролан, которая могла только радоваться ее близкой смерти! Одного этого было достаточно, чтобы возненавидеть этого мужчину и эту женщину! Но я никогда не могла даже подумать… Нет, нет, до сих пор я не могу поверить в столь ужасное преступление!..
– Полидори был единственным врачом, который пользовал вашу мать?
– За день до ее смерти он привез на консультацию кого-то из своих коллег. Как рассказал мне позднее отец, этот врач нашел состояние моей матери весьма опасным. После столь сурового приговора меня отвезли к одной из наших родственниц, которая очень любила мою мать. И та, не считаясь с моим юным возрастом, без обиняков рассказала мне, что я имела все основания ненавидеть госпожу Ролан. Она рассказала мне о честолюбивых замыслах этой женщины. Я была подавлена, я только тогда поняла, как страдала моя мать. Когда я снова увидела отца, мое сердце было разбито: он приехал за мной, чтобы увезти меня в Нормандию, где мы должны были провести первые дни траура. По дороге он часто плакал и говорил, что у него осталась только я одна и без меня он не вынес бы этого страшного несчастья. Я искренне отвечала ему, что он тоже остался у меня один на свете после смерти моей любимой матери. Он помешкал немного, а затем смущенно ответил, что вынужден оставить меня одну из-за разных неотложных дел, и без всякого перехода, самым естественным образом сообщил, что, по счастью для него и для меня, госпожа Ролан согласилась управлять домом и быть моей наставницей и подругой.
Удивление, негодование и боль не позволили мне ответить; я только молча плакала. Отец спросил, в чем причина моих слез. Я воскликнула, может быть, с излишним негодованием и горечью, что никогда не останусь под одной крышей с госпожой Ролан, потому что презираю эту женщину и ненавижу за все горе, которое она причинила моей матери. Он остался спокойным и, пожурив меня за то, что он называл ребячеством, холодно объявил мне, что решение его непреклонно и мне придется ему подчиниться.
Я умоляла его позволить мне удалиться в монастырь Сердца Иисусова, где у меня были подруги, обещая остаться там, пока он не сочтет нужным выдать меня замуж. Он ответил мне, что прошли те времена, когда женились у решеток монастыря, что в моих словах видит хотя и понятную, но неразумную чрезмерную чувствительность, которая скоро несомненно пройдет, поцеловал меня в лоб и назвал бедной дурочкой.
Увы, мне пришлось подчиниться. Судите сами, монсеньор, как я страдала! Жить каждый день бок о бок с женщиной, которую я почти подозревала в смерти моей матери!.. Я предвидела, какие жестокие сцены будут возникать у меня с отцом, и знала, что никакое чувство почтительности не помешает мне выражать глубочайшее отвращение к госпоже Ролан. Мне казалось, что таким образом я буду мстить за свою мать и любое доброе слово по отношению к этой женщине будет позорным святотатством.
– Господи, если бы я знал, как вы страдали! Если бы я знал, сколько вам довелось претерпеть, я бы старался быть рядом с вами. Но ни одно ваше слово даже не позволяло догадываться…
– Потому что в то время, монсеньор, у меня не было извинений в моей непозволительной слабости… Я рассказываю вам так подробно о том периоде моей жизни, чтобы вы могли понять, в каком состоянии находилась я, когда вышла замуж… и почему я стала женой господина д’Арвиля, несмотря на все предубеждения, которые должны были меня удержать от этого шага.
Когда мы прибыли в Обье, поместье моего отца, первой, кто нас встретил, была госпожа Ролан. Она устроилась тут как хозяйка сразу же после смерти моей матери. Несмотря на видимую скромность и слащавость, она уже не скрывала торжествующей радости. Никогда не забуду ее иронического и в то же время злобного взгляда, которым она меня встретила. Казалось, она говорила: «Здесь я хозяйка, а ты – незваная гостья!» И еще одно горе поджидало меня: то ли из непозволительного отсутствия деликатности, то ли из дерзкого бесстыдства эта женщина устроилась в комнате моей матери. Я была возмущена и пожаловалась отцу, что это немыслимо, недопустимо! Он сурово ответил мне, что это нисколько не должно меня удивлять, потому что отныне я должна почитать госпожу Ролан как мою вторую мать. Я ответила, что это равно надругательству над святым именем «мать», и, сколько он ни гневался, при каждой возможности выражала госпоже Ролан мое глубокое презрение. Он выходил из себя и не раз выговаривал мне перед этой женщиной. Он упрекал меня в холодности и неблагодарности по отношению к этому ангелу, которого судьба послала нам в утешение. «Прошу вас, отец, говорите только за себя», – однажды сказала я ему. Он ответил мне жестоко. Госпожа Ролан своим сахарным голоском вроде бы вступилась за меня с лицемерной добротой: «Будьте снисходительны к бедняжке Клеманс, ее сожаления о столь прекрасной матери, которую все мы оплакиваем, вполне понятны и похвальны, а потому нам следует простить ее выходки, ибо горе ее пока не утихло». – «Ну что? – спросил меня отец, показывая с восхищением на госпожу Ролан. – Разве ты не видишь, как она добра, как великодушна? Ты должна признаться в этом и обнять ее!» – «Не надо, отец! Она меня не любит, и я ее ненавижу». – «Ах, Клеманс, вы меня очень огорчаете, но я вас прощаю», – сказала госпожа Ролан, возводя глаза к небесам. «Дружок мой! Моя благородная подруга! – взволнованно воскликнул отец. – Умоляю вас, успокойтесь! Сжальтесь, ради меня, над этой дурочкой, которая даже не может вас оценить!» А затем, бросив на меня разъяренный взгляд, отец объявил: «Трепещи, несчастная! Если ты еще раз посмеешь оскорбить самую благородную душу на свете… Немедленно извинись перед ней!» – «Мать моя видит меня и слышит, – ответила я ему. – Она бы не простила мне такого малодушия». И я вышла, оставив отца утирать госпоже Ролан ее фальшивые слезы. Извините, монсеньор, за эти детские воспоминания, но только они помогут вам понять, как мне тогда жилось…
– Мне кажется, я сам душой участвовал в этих сценах, таких обыденных, правдивых и горьких. В скольких семьях они повторялись и будут бессчетно повторяться! Поведение госпожи Ролан весьма банально и очень хитро: сама простота ее подлого замысла ставит ее в ряд посредственных умов… Посудите сами! Вся беда не в том, что она была хитра, а в том, что ваш отец был слеп; но как же смотрели на нее соседи?
– Как на мою воспитательницу… и его подругу. И относились к этому спокойно.
– Не знаю, стоит ли спрашивать… Очевидно, ваш отец жил все так же уединенно?
– К нему изредка приезжали соседи и люди по делам, кому он не мог отказать, а больше никто. Мой отец полностью отдался своей страсти и, наверняка по настоянию госпожи Ролан, едва минуло три месяца после смерти моей матери, отказался от траура, объявив, что носит траур в душе. Его холодность ко мне возрастала изо дня в день, его безразличие доходило до того, что он предоставлял мне полную свободу, немыслимую для девушки моего возраста. Я видела его за завтраком; потом он уходил к себе с госпожой Ролан, которая вела его деловую переписку как секретарь, потом он выходил или выезжал с ней и возвращался только к обеду… Госпожа Ролан переодевалась в новое, прелестное платье; отец одевался с необычайной изысканностью, смешной в его возрасте. Иногда после обеда он принимал у себя людей. Потом до десяти часов играл с госпожой Ролан в триктрак, а затем предлагал ей руку, чтобы отвести в комнату моей матери, целовал ей руку и почтительно удалялся. А я могла делать все, что хотела, ездить на лошади в сопровождении слуги или гулять сколько вздумается по лесам в окрестностях замка. Иногда мне бывало так грустно, что я не приходила к завтраку; отец этого даже не замечал…
– Какое странное равнодушие! Какое невнимание…
– Несколько раз подряд, когда я ездила верхом, я встречала в лесу одного из наших соседей. Я отказалась от этих прогулок и больше не выходила из парка.
– Но как вела себя эта женщина, когда вы оставались наедине?
– Так же, как и я, она по возможности избегала подобных встреч. Однажды, намекая на суровые слова, которые я сказала ей накануне, она холодно заметила мне: «Поостерегитесь! Вы собираетесь бороться со мной? Вам не поздоровится!» – «Как моей матери? – спросила я ее. – К сожалению, госпожа Ролан, теперь не будет господина Полидори, который скажет вам, что это случится… послезавтра». Эти слова произвели на госпожу Ролан такое впечатление, что она едва опомнилась. Теперь, когда я знаю благодаря вам, монсеньор, кто такой этот доктор Полидори и на что он способен, невольный ужас госпожи Ролан, когда я напомнила ей его загадочные слова, мог бы подтвердить мои самые тяжкие подозрения… Но нет, нет, я не хочу в это верить! Мне будет слишком страшно думать, что сейчас мой отец почти полностью во власти этой женщины.
– А что она вам ответила, когда вы напомнили ей эти слова Полидори?
– Сначала она покраснела, потом справилась с волнением и холодно спросила, что я имею в виду. «Когда вы останетесь наедине с собой, сударыня, задайте себе этот вопрос и получите от себя же ответ», – сказала я. Вскоре после этого произошла сцена, которая, по сути говоря, решила мою судьбу. Среди множества картин, висевших в гостиной, где мы все собирались по вечерам, находился портрет моей матери. Но однажды я заметила, что он исчез. С нами обедали в тот день два наших соседа; один из них, местный нотариус господин Дорваль, всегда относился к моей матери с величайшим почтением. Войдя в гостиную, я спросила отца: «Где портрет моей матери?»
«Эта картина навевала на меня такую печаль…» – смущенно ответил он, показывая кивком на гостей, невольных свидетелей нашего разговора. «А где теперь этот портрет?» Нетерпеливо повернувшись к госпоже Ролан, он вопросительно взглянул на нее. «Куда унесли портрет?» – «В кладовую для старой мебели», – ответила она и посмотрела на меня с вызовом, уверенная, что я не посмею ей ничего сказать при посторонних. «Я понимаю, сударыня, – холодно сказала я, – что вам было не по себе от ее взгляда, но это еще не причина, чтобы отправить на чердак портрет женщины, которая призрела вас в вашем ничтожестве и милостиво позволяла жить в своем доме».
– Великолепно! – воскликнул Родольф. – Такое ледяное презрение должно было ее раздавить.
– «Мадемуазель!» – вскричал мой отец. Но я прервала его: «Вы должны признать, что особа, трусливо оскорбляющая память женщины, подавшей ей милостыню, не заслуживает ничего, кроме презрения и отвращения».
Мой отец на мгновение замер, пораженный, а госпожа Ролан побагровела от стыда и злости. Смущенные соседи сидели молча, опустив глаза. «Мадемуазель! – вновь заговорил мой отец. – Вы забываете, что она была подругой вашей матери, вы забываете, что она по-матерински заботилась и заботится о вашем воспитании, и, наконец, вы забываете, что я отношусь к ней с глубочайшим почтением. А поскольку вы позволили себе столь недостойную выходку в присутствии этих господ, я скажу вам напрямик: только трусливые и неблагодарные особы, забывая о нежных заботах, могут упрекать в благородной бедности ту, кто заслуживает сочувствия и уважения». – «Я не могу себе позволить обсуждать с вами этот вопрос», – ответила я покорным голосом. «Может быть, мадемуазель соизволит поговорить об этом со мной? – вскричала госпожа Ролан, которую злоба заставила на сей раз забыть об осторожности. – Может быть, вы осчастливите меня хотя бы признанием, что мне вовсе не за что благодарить вашу мать, что я могу помнить только о ее холодности, которую она мне всегда выказывала, ибо лишь помимо ее воли я смогла…» – «Ах, сударыня, – сказала я, прерывая ее. – Из уважения к моему отцу или хотя бы из чувства скромности избавьте нас от этих постыдных признаний, иначе я буду очень сожалеть, что вынудила вас к таким унизительным разоблачениям…» – «Как вы смеете, мадемуазель! – закричала она вне себя от гнева. – Вы осмеливаетесь говорить…» – «Я говорю, сударыня, – снова прервала я ее, – что если моя мать и позволила вам жить в ее доме, вместо того чтобы выставить за порог, на что у нее были все основания, своим презрением давала вам ясно понять, что ее терпимость по отношению к вам была вынужденной».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































