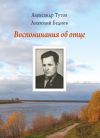Текст книги "Братья и сестры"

Автор книги: Федор Абрамов
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
Глава сороковая
Весь вечер – разговаривала ли Анфиса с людьми в правлении, доила ли дома корову – из головы у нее не выходил случай на молотилке. Анну Пряслину – за таким делом застала… Да что она, с ума сошла? Не себя, так хоть бы ребят-то пожалела…
Ей вспомнился давнишний случай. Года за три до войны вот так же захватили с колосом Манефу Яковлеву. И всего-то с килограмм было. А вскоре дом заколотили, детей забрала к себе сестра. Нет, нет… – говорила себе Анфиса. Чтобы она да своими руками… Этаких-то малышей… Мало их война осиротила…
В полном отчаянии, не зная, на что решиться, она села ужинать. Кусок не лез в горло. Гнев и обида душили ее. Разве не могла она, та же самая Анна, попросить добром? Да разве она, Анфиса, не заботилась о ней? Кажись, кому-кому, а ей не отказывала.
Хлопнули ворота, стук в дверь.
– Что там еще за стуки? Входи.
Дверь отворилась, и порог переступил кто-то мокрый, сгорбившийся. Мишка!..
В сердце Анфисы вдруг что-то кольнуло.
– Ты чего не в кино? Где тебя носило? Весь мокрый – как из воды. Садись со мной ужинать.
Мишка отрицательно мотнул головой, сел к печке.
– Да что с тобой? Ты здоров, парень?
– Отправь меня в ремесленное… – глухо сказал Мишка, не поднимая головы.
– Тебя? В ремесленное?
Она взяла со стола керосинку, подошла к нему, осветила.
Он сидел с опущенной головой. С мокрых, взъерошенных волос капала вода, одежда и сапоги захлестаны грязью, травой – как, скажи, по земле катали его.
Она сунула керосинку на печку, наклонилась над ним, взяла за подбородок.
– Где тебя так?.. – и осеклась.
В лицо ей глянули измученные, исстрадавшиеся глаза – и она без слов поняла: все знает…
– Дай справку, а то сам убегу.
Она медленно выпрямилась:
– А ты думал… о ней-то?..
Мишка остервенело взмахнул кулаком:
– Раз так – к черту! Пущай как знает…
– Ты что говоришь? Что говоришь? – вскипела Анфиса. – Это о матери-то? Это мать-то родную к черту? Молокосос! Мать о них убивается, света белого не видит. Ты смотри, на кого она похожа – как щепка высохла.
– А мне, думаешь… Я сам… я сам… Папа на фронте… а она…
Мишка схватился руками за голову и затрясся в рыданиях.
Она смотрела на его костлявые вздрагивающие лопатки, обтянутые старой, выгоревшей отцовской гимнастеркой, на его худые красные руки с большими кистями…
Господи, да ведь он еще совсем, совсем ребенок. Вишь, и шея – каждый позвонок наперечет. А мы навалились, как на мужика, замучили парня. На днях на час выехал позже в поле – проспал, наверно, так она же его и разругала. А сколько ему – это в его-то годы! – пришлось пережить, перестрадать? Отца убили, семья – мал мала меньше. А тут еще с матерью…
– Ну что ты, Миша, не надо. Сейчас всем тяжело… А ты пойми мать-то, ее тоже понять надо. Разве она… от хорошей жизни? Разве она для себя? Жизнь, Мишенька… Ох, как тяжело… А куда она без тебя? Ну, посуди ты сам, куда она без тебя? Нехорошо ты надумал, Михаил…
Мишка, вздрагивая всем телом, еще ниже наклонил голову.
– А мы-то как, колхоз?.. Ты ведь работник – золото! Вчера женки говорят: ну кабы не Мишка, пропадать на Синельге до самого снегу. А домашние луга? Не Татьяну же Рудакову благодарить.
Мишка, ширкая носом, недоверчиво приподнял заплаканное лицо.
– А о матери ты не думай. И слова никому не говори. Приди домой и виду не показывай. Ты ведь мужик, смотри, какой! – мать-то небось до плеча будет…
Раскрытый рот у Мишки опять задрожал.
Ей было жалко, ох как жалко этого славного, работящего паренька, которого так рано пришибла жизнь!
Она сняла с головы платок, протянула ему:
– На-ко, вытрись. Ты думаешь, она что?.. – снова заговорила Анфиса, собираясь с мыслями. – Помнишь, весной семян хватились – а их нету… Вот кого под суд отдавать надо. А твою матерь… Да за что же? – обратилась она с вопросом не столько к Мишке, сколько к самой себе.
Потом она придвинулась к нему ближе, обняла за мокрые плечи. Он пытался отодвинуться, но рука ее, теплая, ласковая, удержала его. На печке слабо потрескивал фитилек керосинки, чуть-чуть раздвигая избяную темень. Она глядела на осунувшееся, носатое лицо Мишки и, еще крепче прижимая его к себе, шептала:
– Ничего, ничего, Миша. Все пройдет, пройдет это… А как кончится война – вот заживем… Дома выстроим новые, в каждом доме коровы, овцы будут… и хлеба – сколько хошь хлеба. А на работу-то как на праздник выходить станем. А ты – большой, сильный, как отец… И Лизка вырастет, и ребята вырастут. Да как все-то вшестером на пожню выйдете… Целая бригада Пряслиных. А сейчас ты им заместо отца – понимаешь?
Мишка вышел от Анфисы Петровны, когда в клубе уже не было огня. Темень, хоть глаз выколи. Он брел посередине дороги, хлопая по лужам, по грязи. Сверху надоедливо моросило.
Дома – крохотный огонек. На дороге – тень матери. Его ждет…
Он потихоньку подошел к окошку. Мать сидела, приткнувшись к столу, прикрыв рукой лицо. Голова ее то клонилась вниз, то снова поднималась.
Сидя спит, а ждет… Сердце его дрогнуло от жалости.
Он кинулся к воротцам, с трудом нащупал крючок. Но у крыльца опять остановился. По крыше монотонно шуршал дождь, натужно пыхтела во дворе корова. И то, что еще недавно, после разговора с Анфисой Петровной, казалось таким простым и легким, снова тяжелым камнем легло ему на сердце.
Глава сорок первая
Сводки с фронта становились все тревожнее и тревожнее. Что ни день – падали новые города. Черные клинья на юге все глубже врезались в тело страны.
По вечерам теперь редко кто подходил к карте. Люди торопливо справляли свои дела и, неразговорчивые, угрюмые, избегая взглядов друг друга, словно они сами во всем были виноваты, выходили из правления. От тяжелых дум спасались только в работе. Трудились молча, с ожесточением, и редко-редко вспыхивала на поле шутка. Даже дети и те притихли, воробьиными стайками жались к взрослым.
В полдень деревня казалась нежилой: лишь у какой-нибудь избы на завалинке можно было увидеть одинокую дряхлую старуху, которая непослушными старческими руками творила крестное знамение да шептала молитвенные слова о ниспослании победы над ворогом…
И вдруг в эти тяжелые дни газеты принесли потрясающую новость: наши наступают!
– «От Советского Информбюро. В последний час… – по складам, с трудом веря тому, что написано, читала Анфиса. – Наши войска на Западном и Калининском фронтах перешли в наступление и прорвали оборону противника. Немецкие войска отброшены на сорок – пятьдесят километров. Нашими войсками захвачены следующие трофеи…»
Через час эта новость облетела всю деревню. А к вечеру, несмотря на то что дождило, у правления колхоза собралась толпа женщин и ребят. Всем не терпелось своими ушами услышать радостные вести из Москвы. Надежду Михайловну, заменявшую теперь Настю в роли комсорга, засадили за радиоприемник: не пропусти, улови известия.
У крыльца, под новым навесом, шутили, смеялись. Ребята, чтобы не прозевать начала известий, мокли под раскрытым окном, на подоконник которого был выставлен радиоприемник.
Толпа еще больше оживилась, когда на дороге показался Трофим Лобанов. Он топал прямо по середке дороги, не разбирая ни луж, ни грязи, и время от времени что-то выкрикивал своим утробным голосом.
По сторонам за ним, не смея приблизиться вплотную, бежали босоногие ребятишки, донельзя довольные этим зрелищем.
– Ну как в старое времечко, – усмехнулась Варвара. – А я уж думала, война и Троху доконала. После смерти Макаровны темнее тучи ходил, а он, вишь, вот снова воскрес.
Меж тем Трофим, не доходя саженей десяти до женщин, вдруг остановился, тяжко повертел сивой, лохматой, как помело, головой и уставился на них своими круглыми немигающими глазищами.
– Люди! – громогласно возвестил он, тыча себя пальцем в грудь. – Троха сегодня пьян!
– Видим – не слепые, – с нарочитой серьезностью ответили колхозницы.
– А почто Троха пьян?
– Кому не вестимо, Трофимушко, – сдерживая улыбку, сказала Варвара. – Сегодня бы всяк выпил, да не у всякого есть.
– Нет, ты скажи, почто Троха пьян? – допытывался Трофим.
– Да ведь радость, говорю, сегодня – грех не выпить.
Но Трофим и этим не удовлетворился.
– А ты скажи, где мой Макс?
– Как где? На фронте.
Трофим сердито сплюнул:
– Фронты, они разные… А мой Макс на том самом, где немца турнули.
– На Калининском?
– Во-во! На ем самом.
– Да когда же он это перелетел? – Варвара лукаво подмигнула женкам: послушайте, что сейчас наворачивать будет. – Ты недавно сам сказывал, что твой Максим под Ленинградом.
Трофим растерянно заворочал глазами, но нашелся:
– Был и под Ленинградом. А что? Разве моего Макса будут держать на одном месте? Где затор – туда и Макса! – решительно рубанул он. – С неделю назад получаю письмо. Отец, говорит, меня переводят в другой фронт… Ну, думаю, неспроста. Раз моего Макса переводят – жди делов, всыплют немцу.
– Признайся, Трофимушко, загнул немножко, – добродушно сказала Дарья.
Трофим ударил себя кулаком в грудь:
– Вот те бог, забожусь – чистая правда! Мой Макс – сила! Быка наповал убивал, а уж эту немчуру…
Никто не помнил, чтобы Трофимов Максим убивал быка, но кто же сегодня станет придираться к каждому слову. И Трофим, никем не остановленный, забирал все выше и выше.
– У меня четыре парня на войне! – потрясал он кулаком. – И хоть бы царапнуло какого! Моих ребят никакая пуля не берет! Нет еще такой пули на свете, чтобы Трохиных ребят…
Но тут женщины разом обрушились на него:
– Чего эдакое мелешь?
– С ума спятил?
– Разве этим хвастают? Беду накликать хошь?
Трофим, видимо, и сам понял, что хватил через край. Он топнул ногой, одичало помотал головой, что должно было означать крайнюю степень опьянения, и тотчас же оседлал своего любимого конька.
– У Трохи вина – Двина! – вдруг заорал он без всякой связи с предыдущим. – Столько лошадь воды не выпила, сколько Троха вина… Приходи… Сейчас не то что до войны, а трезвой из моей избы не уйдешь!
– Вот так-то лучше, – добродушно заулыбались колхозницы, которым хорошо была известна цена Трохиного хлебосольства.
Случилось это еще до колхозов. Жил тогда Трофим бедно, еле концы с концами сводил – и все, как говорил он сам, из-за чертовой бабы, которая таскала ребятишек, как щенят. Из-за этого Трофим сделался страшно скуп, пытался экономить на всем, и прежде всего на еде. В Великий пост, рассказывают, ребятишки у него макали молоко шилом через тряпицу. По словам же Трофима, они это делали из-за своего примерного благочестия. И однако, не проходило ни одного праздника, чтобы Трофим не напивался «в стельку», «в дымину», как он любил выражаться, и чтобы не орал на всю деревню: «У Трохи вина – Двина!»
Мужики с завистью поглядывали на Трофима и одного понять не могли: откуда же у него такие деньжищи?
Но скоро разгадка явилась сама собой.
Однажды о Богородице Трофим, по своему обыкновению, шел, пошатываясь, по деревне и во всю глотку кричал излюбленные слова: «У Трохи вина – Двина!» Около магазина ему повстречался пекашинский зубоскал и пьяница Пека Векшин, который тут же бесцеремонно стал навязываться в гости.
Трофим было на попятный: есть, мол, квас, да не про вас, но кругом были люди, и он быстро, передумав, хлопнул Пеку по плечу:
«Пойдем, Пека, запою! До белой горячки запою…»
Дома Трофим усадил дорогого гостя за стол и после долгой отлучки из избы вернулся с четвертинкой.
«Начнем с маленькой, а к окияну приплывем», – успокоил Трофим Пеку.
Ну, с маленькой так с маленькой – лишь бы к окияну приплыть.
Выпили по рюмашечке.
«Что, парень? – крякнул от удовольствия Трофим. – Небось как Христос по сердцу прошел? У Трохи не вино – причастье!»
Выпили еще по одной. Вдруг Трофим спрашивает:
«Ты, Пека, того… не запьянел?»
«Да с чего? Уж не с этого ли наперстка?»
«Трохин наперсток иного ведра стоит», – отрезал Трофим.
После третьей он снова спросил:
«Налить еще, Пека? Устоишь? Дойдешь до дому?»
Пека только руками развел:
«Да ты смеешься, Трофим?»
«Какой тут смех, когда ты руками машешь?»
Пека вспыхнул, начал вставать из-за стола. Трофим Пеку успокаивать, а тот свое – хочет встать. За этой возней кто-то из них нечаянно смахнул со стола рюмку.
«Ты во как! Посуду бить! – взбеленился Трофим. – Это за мое-то угощенье?»
Пека оторвал от себя хозяина, кинулся к дверям. Тогда Трофим заорал на всю избу:
«Макса, хватай его! Он с пьяных глаз весь дом разнесет».
В ту же секунду с полатей соскочил старший сын Максимко и по-медвежьи облапил сзади Пеку.
А через несколько минут Трофим шел по деревне и всем встречным говорил:
«Пеку Векшина запоил сегодня. Всю посуду у меня перебил. Лежит на сеннике без задних ног… Весь дом винищем провонял. Скотина от тошноты стоном стонет – хоть из двора выводи».
Постепенно около Трофима собралась толпа любопытных, которая выразила желание посмотреть на распьянющего Пеку. И ведь понимал Трофим, что нельзя вести к себе мужиков, но такой уж он был: начнет хвастать – остановиться не может.
«Пойдемте, все пойдемте! Всех запою! Дальше порога моей избы никто не уйдет».
А когда мужики, предводительствуемые хозяином, подошли к его дому, то увидели: во дворе, вызволенный парнями, стоит трезвехонький Пека Векшин и на все лады поносит Трофима Лобана.
Вот почему сейчас, много лет спустя после этой истории, когда Трофим стал похваляться вином, никто не придал значения его словам.
А Трофим не унимался.
– Сейчас – не до войны, – кричал он, – не скажу, что запою, а все равно трезвой из моей избы не уйдешь!..
Под конец, когда пришла старуха и стала упрашивать его идти домой, Трофим еще пуще начал куражиться и дошел до того, что растянулся на мостках.
– Ты, Трофимушко, пьян, да умен, – съязвила Варвара. – Небось в лужу не упал – на сухое норовишь.
– А ты что? – рывком приподнялся Трофим. – Покупала мне рубаху, чтобы в лужу?
Но, одумавшись, он так топнул, что брызгами окатило женщин и ребятишек.
– Очумел, старый дурак! Будешь ерепениться – свяжем да бросим на задворки.
– Ха-ха-ха!
– Что вы с пьяного хотите, – примирительно сказала Дарья.
Ободренный ее сочувствием, Трофим заорал, размахивая руками:
– Все сокрушу!.. В гитлерину мать!.. Я бы этого Гитлера!..
– А что бы ты, Трофимушко, сделал? Ну-ко?
– Я бы этого Гитлера… я бы… – И тут такое завернул Трофим, что все схватились за животы.
– Тише, тише! – высунулась из окна Наденька. – Сейчас будут передавать известия.
Женщины, позабыв о Трофиме, кинулись к окну.
Несколько минут приемник визжал, задыхался от хрипа, затем сквозь хаос режущих звуков прорвался твердый басовитый голос:
– Над нашим Отечеством нависла смертельная опасность… Враг ломится к Волге, вглубь Кавказа, угрожает самым важным жизненным центрам страны… Ни шагу назад, красноармеец! Твоя сестра, твоя мать призывает тебя к защите и к мести. Помни: перед тобой враг, который убил старика – такого же, как твой отец, изнасиловал девушку – такую же, как твоя сестра, твоя невеста, погнал в рабство женщину – такую же, как твоя жена, твоя мать…
Наденька, не в силах больше слушать, резким движением выключила приемник. Потом, когда, собравшись с духом, она посмотрела на улицу, под окном не было ни ребят, ни женщин.
Только посредине двора немо и неподвижно стоял под дождем грузный, приземистый старик.
Глава сорок вторая
Анфиса старалась подбодрить, встряхнуть приунывших колхозников. За день она успевала побывать на всех полях и всюду с жаром принималась жать, вязать снопы. И ее присутствие – она это видела – как-то успокаивало, приподнимало людей. Уж на что, кажется, тверда и невозмутима духом Марфа Репишная, а и та однажды сказала: «С тобой веселее, девка, – чаще бывай у нас».
Но потом в колхозе стала отставать просушка снопов (немногим женщинам была под силу эта работа), и Анфисе пришлось самой взяться за это дело. Она рубила в лесу новые жерди и подпоры, ставила новые перетыки вместо прогнивших, подвозила снопы с поля, вешала их на жерди, – и все сама, все одна. На людях как-то забывались на время, рассасывались в общей тревоге безрадостные мысли, а теперь, когда она пряслила одна, горькие раздумья не покидали ее.
В этот день ей было особенно тяжело. Утром конюх Ефим, помогая ей запрягать коня, хмуро сказал:
– Слыхала, немцы на Волгу вышли…
Она не задумалась тогда над этими словами: может быть, оттого, что конь бился и она торопилась, а может быть, потому, что в то лето так много было плохих вестей с фронта, что, кажется, трудно было чем-нибудь удивить.
Страшный смысл Ефимовых слов дошел до нее тогда, когда она, переехав болото, стала поить коня в ручье.
«Да ведь это же Волга! Волга…» – изумилась она.
Ни разу в жизни не довелось ей бывать дальше районного центра, и она не знала даже, как выглядит город. Но Волга, Волга-матушка… Да не проходило праздника в деревне, чтобы о ней не пели! И каждый раз, когда она слышала песенные разливы или подпевала сама, в душе ее поднималось что-то большое, широкое и светлое. И вот уже лиходеи на Волге…
Стоя на скамейке у прясла, она машинально наклонялась к снопам, лежавшим у ее ног, и так же машинально вешала их на жердины. Страшное известие не выходило у нее из головы.
«Да что же это такое? Как же так?..» – спрашивала она себя.
У нее то и дело навертывались слезы, и, прислонившись к пряслу, она подолгу смотрела на безлюдную дорогу, на выжатые поля, поблескивавшие золотой щетиной жнивья. Потом спохватывалась, начинала лихорадочно работать, но проходило немного времени, и снова опускались руки, и она опять стояла, прислонившись к пряслу, и смотрела на дорогу, на поля.
Ох, какая тоска… Хоть бы одна живая душа показалась, хотя бы птица пролетела мимо… В голубом воздухе было по-летнему тепло и безветренно, но тихая осень уже распускала паутинки, пятнила золотом кустарник, выводила свои неживые узоры в не скошенной на промежке траве. Откуда-то издалека – должно быть, с Сухого болота – раз пять донесся тревожный вскрик журавлей, и от этого становилось еще тоскливее.
И вдруг ласковый голос у ног:
– Здравствуй, Анфиса.
Она схватилась за сердце, присела. Несколько секунд она глядела на Лукашина растерянными, изумленными глазами, затем лицо ее, мокрое от невысохших слез, озарилось радостной улыбкой.
Белый платок у Анфисы сбился на затылок, на черных волосах, на изогнутых бровях мягкими узорами хлебная пыль…
Какая-то мальчишеская восторженность охватила Лукашина. Он протянул к ней руки, и не успела она охнуть, как уже стояла на земле, а он возвышался на скамейке и, озорновато подмигивая ей, говорил:
– Работнем, председатель!
Все это было так неожиданно, так необычно, что она все еще не могла прийти в себя и, закинув кверху голову, смотрела на него мокрыми, счастливыми глазами.
– Ну же! Ну! – торопя, протягивал к ней руки Лукашин.
Тогда она, по-детски зажмурившись, тряхнула головой и, словно пробуждаясь от сна, вдруг проворно нагнулась и подхватила большую охапку снопов.
Она не спрашивала, откуда он появился, не спрашивала, почему долго не было его в Пекашине, и, странное дело, не искала даже утешения в том, что так тревожило и угнетало ее весь день. С приходом Лукашина как-то сразу исчезли все сомнения и тревоги, и ей стало легко.
Быстрыми, ловкими движениями она захватывала снопы, вскидывала их кверху и, глядя на Лукашина сияющими глазами, совала их ему в протянутые руки.
Лукашин оказался бывалым работником. Она это сразу оценила и по тому, как он уверенно, по-хозяйски, расставив ноги, стоял на скамейке, и по тому, как умело и расчетливо подхватывал снопы и с каким-то особенным мужским шиком вешал их на жерди.
– А ведь ты настоящий мужик! – рассмеялась вдруг Анфиса, неожиданно для себя называя его на ты.
Он ничего не ответил, только лицо его, блестевшее от пота, расплылось в довольной улыбке да еще шибче заходили руки.
Скоро ячменная пыль да ость покрыли его волосы, лоб, гимнастерку, и от этого он стал еще ближе, еще роднее.
Они не слыхали, как к ним сзади подошел Федор Капитонович:
– Вот как ладно. А я иду да думаю: чья бы это пара? Молодых сейчас нету, а тут, гляжу, не работают, а играют.
Темное облачко нашло на лицо Анфисы. После того как Федора Капитоновича сняли с бригадиров, он присмирел и даже исправно работал в колхозе. И все-таки у Анфисы не лежала к нему душа. И ей показалось, что не к добру эта встреча. Но Лукашин, разгоряченный, потный, уже протягивал к ней руки, и она снова нагнулась к снопам.
Час спустя Лукашин спрыгнул со скамейки на землю.
– Ух, запарила! – сказал он, возбужденно блестя глазами и вытирая рукой потную шею.
– Это еще кто кого, – улыбнулась Анфиса, отряхивая платье.
– Горло пересохло. Нечем промочить?
Анфиса достала из кустов маленькое жестяное ведерко с водой.
– Кушайте на здоровье, дорогой работничек, – жеманно поклонилась она ему.
Веселые, довольные, они сели на межу к кустам. У Анфисы был захвачен с собой кое-какой полдник. Она расстелила белую скатерку, налила в миску творога с молоком. Лукашин с жадностью накинулся на еду. Сама она отломила краюшку шаньги и, нехотя пощипывая ее, поглядывала на Лукашина. Легкое, бездумное счастье переполняло ее. В ушах ее звонко вызванивал родничок, спрятавшийся внизу за полем в кустарнике, тихо и убаюкивающе поскрипывала невидимая вдали телега.
– Ты что не ешь? – тихо спросил Лукашин.
– Так, не хочу…
Лукашин вытер губы и долго и нежно смотрел ей в глаза.
– А знаешь что? – зашептал он, обдавая ее горячим дыханием.
– Что?
– У тебя сейчас такие веснушки у переносья… как у девочки…
Анфиса вся вспыхнула, смущенно замахала рукой:
– Ну уж, скажешь…
– Ей-богу.
Он поймал ее руку, взял в свою. Темная, заскорузлая от работы рука. Анфисе вдруг неловко и стыдно стало за себя, за свою руку, и она потянула ее назад. Глаза их встретились.
«Глупая… – говорил ей взгляд Лукашина, – неужели ты не понимаешь, что я тебя люблю?» Он бережно поднял ее руку и вдруг горячими губами припал к ней…
Чувствуя, что она теряет последнюю власть над собой, Анфиса встала и быстро пошла к пряслу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.