Текст книги "Среди врагов"
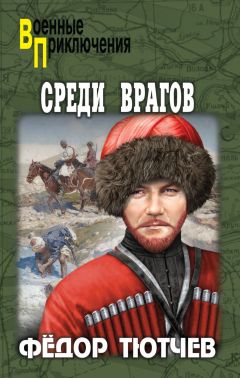
Автор книги: Федор Тютчев
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
– Полно, дедушка, – вмешался Петюня, – грех так злобиться. Смотри, Бог удачи не пошлет, и мы пропадем здесь с тобой, как черви… Лучше молиться станем, чтобы Господь Бог смиловался над нами.
– Ну, ладно, ладно, не буду, – сговорчивым тоном заговорил старик. – Ты у меня, Петюня, известное дело, праведник. Ни к кому-то у тебя зла нет, а я, грешный, эфтого не могу… Как подумаю только, что в эту самую минуту, как мы с тобой мучаемся здесь хуже всякаго пса смердящего, а он, наш ворог лютый, самый близкий сродственничек, сынок названный, живет на всем своем удовольствии и над нами же подсмеивается, что вот-де, мол, старый да малый, сами попали в ловушку, как крысы в крысоловку, так меня всего в дрожь и обдаст. Сердце словно клещами сдавит. Так бы и вцепился ногтями в его глаза… Ведь, ваше благородие, – от полноты негодования обратился вдруг Арбузов к Спиридову, – ведь вы только примите во внимание, что не его деньги и требуются. Мои, кровные мои, из моего капитала, и тех не дает, аспид.
Старик в отчаянии всплеснул руками и понурил голову.
– Не тужи, дедушка, авось ответит, – старался утешить Арбузова Николай-бек, и, еще раз кивнув головой Спиридову, он легкой и ловкой походкой прирожденного горца вышел из туснак-хана.
VIII
Прошло два дня. За это время Спиридов успел достаточно изучить свою тюрьму и присмотреться к товарищам по заключению. Даже к стонам из-под земли он успел настолько прислушаться, что они не производили на него того ужасного впечатления, как в первые минуты. Углубленный в свои думы, он порой даже не слышал их, но, очнувшись, его всякий раз с особенной силой поражали эти ноющие, монотонные звуки. Наблюдая за Арбузовыми, он скоро убедился, что и дедушка, и внучок черпают силы в перенесении страданий в их взаимной, безграничной любви друг к другу. Казалось, невидимые нити связывали эти два существа, возбуждая в обоих одни и те же чувства и ощущения. Они прекрасно читали в мыслях один другого, и для того, чтобы понимать, что думал каждый из них, им не требовалось много фраз: для этого было совершенно достаточно одного какого-нибудь слова, жеста, улыбки. Оба эти существа настолько слились между собой, что Спиридов даже не мог себе представить, что бы с ними было, если бы их разлучили. На небольшом пространстве, ограниченном длиною их цепей, они жили своеобразной жизнью, в которой большую роль играла молитва. Три раза в день: утром, в полдень и вечером – оба становились на колени и долго молились, кладя земные поклоны и крестясь широким крестом.
В эти минуты лица их совершенно преображались: у старика оно делалось менее хмурым, сердитые морщины на лбу разглаживались, глаза делались спокойнее, и в них загорался огонек надежды и смирения; у мальчика появлялось какое-то неземное, восторженное выражение, он смотрел вверх широко раскрытыми глазами, и блаженная улыбка ложилась на его осунувшееся, бледное, истощенное личико. Эта способность так горячо, всецело отдаваться молитве и находить в ней хотя временное утешение возбуждала в Спиридове невольно чувство зависти. Сам он не мог молиться. После того случая, когда на него на пути следования в аул и под впечатлением надежды на появление избавителей нашел молитвенный экстаз, у него больше не являлось желания молиться. Теперь он даже стыдился своего, как называл, «ребяческого порыва».
На старика Арбузова такое «безбожие» Спиридова производило, очевидно, неприятное впечатление: это было заметно по тем хмурым, даже недоброжелательным взглядам, какие он искоса бросал на Спиридова всякий раз, когда сам становился на молитву или оканчивал ее. Наконец он не выдержал и спросил, не глядя в глаза Петру Андреевичу:
– Вы, барин, нешто не православный?
– Нет, православный, – удивился тот немного такому вопросу.
– Хорош православный, – раздраженно-презрительным тоном буркнул Арбузов, – ни разу себя не перекрестите, нешто так хорошо? Как же Бог будет помогать нам, когда мы о нем не хотим и думать? – добавил он наставительно.
Спиридов усмехнулся и уже хотел ответить в духе своих убеждений, как вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд Петюни, и в этом взгляде Петру Андреевичу почудилось нечто, заставившее его удержать готовую сорваться с языка кощунственную фразу. Он даже слегка сконфузился и, промолчав, искоса поглядел на мальчика. Петюня стоял на коленях, сложа руки и пристально, во все глаза, глядел в лицо Спиридову с выражением не то страха, не то страдания, с которыми он ждал от него ответа на слова дедушки. Видя, что Петр Андреевич не отвечает, Петюня слегка вздохнул, но промолчал.
Вечером, когда оба снова стали на молитву, Спиридову вдруг пришла мысль, хорошо ли он поступает, смущая религиозное чувство этих двух несчастных страдальцев. «Почему мне и не перекреститься несколько раз, ведь крестился же я, бывая в церквах на парадных молебнах и панихидах?» – спросил он сам себя, и тут же, став на одно колено, как это он всегда делывал, и понуря голову, несколько раз коротко и торопливо осенил себя крестным знамением. Когда он поднял глаза, он увидел, что лица обоих Арбузовых весело и добродушно ему улыбаются и глядят на него особенно приветливо.
«Вот чудаки, – подумал Спиридов, – находят удовольствие в том, что я молюсь».
С этого раза Спиридов решил утром и вечером класть по нескольку поклонов, чтобы не огорчать чудаков, дедушку и внука.
«Странный мальчик, – размышлял Петр Андреевич про Петюню. – Интересно было бы его видеть, каков он был раньше, на воле; теперь же он выглядит совсем монашком, и несмотря на детские годы, несравненно терпеливее своего дедушки, настоящий философ».
Действительно, Петюня был философ.
Всякий раз, когда старик Арбузов начинал раздражаться и посылать проклятия на голову татар, Шамиля и своего зятя, Петюня старался успокоить его:
– Полно, дедушка, не сердись, что толку без пути сердце свое горячить? Не сам ли ты говоришь: «Сердит, да не силен – таракану брат»?
– Легко сказать, не сердись! – ворчал старик. – Пса на цепь посади, и тот осатанеет. Вот, ваше благородие, – обращался Арбузов к Свиридову, кряхтя, растягиваясь на ворохе гнилой соломы, – чаял ли я когда-нибудь на песье положение попасть? Придумают ведь, гололобые, чтоб им пусто было, православного человека, как медведя, на цепи держать. Вот их бы, анафем, так рассадить, а то у нас с ними церемонятся, точно бы и с путными. Небось, на соломе спать не заставляют… ох, горе наше горькое.
– Зато, дедушка, – вмешался Петюня, – подумай, какая радость нам будет, когда мы с тобой снова очутимся, да на наших чистых да мягких постелях разляжемся… то-то хорошо, то-то любо, не раз на радостях перекрестишься, не правда ли?
– Чего лучше! Да когда это будет? – в раздумье отвечал старик Арбузов. – Хоть бы Господь Бог помог тебя вызволить, а про меня не ахти какая забота, все едино, не два века жить.
– Не грех тебе, дедушка, говорить так! – горячо восставал мальчик. – Неужели ты думаешь, я бы без тебя ушел отсюда? Да ни за что! Выбираться, так обоим выбираться, а один я никуда не двинусь; не могу я оставить тебя в этой берлоге, подумать об этом, и то страшно. Лучше десять раз умереть.
– Ишь ты, какой до дедушки жалостливый, – ласково улыбался Арбузов. – Ну, ежели так, то пущай так и будет, вместе выберемся. Надо только обмозговать это дело получше.
Предостережения Николай-бека об агамаловских кознях, к сожалению, оказались не напрасными.
На третий день, около полудня, в туснак-хане неожиданно явилось несколько человек нукеров и следом за ними, важно подняв голову и бросая кругом презрительные взгляды, тяжело ввалился и сам Агамал-бек.
При виде его Спиридов понял, что посещение это не предвещает ничего хорошего, и он не ошибся.
– Эй, ты, – грубо обратился Агамал-бек к Петру Андреевичу, – тебе известны наши условия твоего выкупа?
– Николай-бек говорил мне о них, если только за эти два дня вы не передумали.
– Ну что же, ты согласен?
– Одного моего согласия мало. Из предложенных вами трех условий от меня зависит только одно – деньги. Деньги я уплатить могу.
– Десять тысяч? – скосив глаза, вопросительно поглядел армянин на Спиридова.
– Хотя бы десять тысяч. Такою суммою я располагаю.
– Хорошо. Но одних денег мало. Имам, кроме денег, требует возвращения наибов и выдачу Хаджи-Мурата. Слыхал ты об этом что-нибудь?
– Слыхал. Но ты сам прекрасно знаешь, от меня ли зависит принять или отвергнуть эти условия. Напишите полковнику Клюки-фон-Клугенау; если он найдет возможность удовлетворить вашу просьбу, – тем лучше. Я лично только могу этому порадоваться.
– Мы уже написали… Надо, чтобы и ты тоже написал.
– Что ж я могу написать? – удивился Спиридов.
– Проси начальство войти в твое положение и умоляй выполнить волю Шамиля, но чтобы приохотить тебя писать получше и пожалостливей, я прикажу посадить тебя в гундыню. Там тебе, на досуге, будет больше времени обдумать, как и что написать, чтобы тронуть сердце русских и сделать их сговорчивей. Гундыня хорошая советчица, в этом ты сам скоро убедишься.
Сказав это, Агамал-бек разразился злорадным смехом и, обернувшись к своей свите, что-то резко приказал двум стоявшим впереди нукерам. По этому приказанию татары, как две хорошо натравленные собаки, бросились на Спиридова, и не успел тот опомниться, как его, сняв предварительно ошейник с цепью, подтащили к отворенной, извергающей зловоние яме. Спиридов напряг последние силы, чтобы вырваться из рук своих палачей, но все было напрасно. Один энергичный, бесцеремонный толчок, и он словно провалился куда-то в преисподнюю. В ту минуту, когда, упав на мягкую, взрыхленную ногами землю, Спиридов поднял глаза вверх, он увидел, как стремительно качнулась в воздухе тяжелая дверь и вслед за тем с зловещим стуком плотно захлопнулась. То, чего он так страшился, что представлялось ему чем-то чересчур ужасным и невозможным – сбылось. Он – в гундыне, вместе с теми мертвецами его воображения, стоны которых так невыносимо мучили его эти два дня.
Стоя на том месте, где упал, Спиридов несколько минут ничего не мог разглядеть в казавшемся ему густым мраке.
Он только слышал, что где-то близко от него кто-то копошится. Какие-то невидимые существа тяжело дышали, распространяя вокруг себя нестерпимый смрад густых человеческих испарений.
Несколько минут простоял Спиридов оглушенный, задыхающийся от недостатка воздуха, с усиленно бьющимся сердцем. В висках у него стучало, голова кружилась, бессильная, холодная ярость душила его, и он бешено сжимал кулаки, глядя вверх, на захлопнувшуюся над ним, как крышка гроба, дверь.
– О, проклятые! – проскрежетал он зубами. – Дайте срок, все, все припомню я вам!
Мало-помалу глаза его начали привыкать к окружающей темноте настолько, что он, хотя и с трудом, но мог различить недалеко от себя две полунагие человеческие фигуры, сидевшие в удрученных позах, скорченные и страшные в своей молчаливой неподвижности. Они сидели под самой крышей, слабо освещенные пробивающимся сквозь ее широкие щели мутным светом, придававшим всему какой-то особенный мертвенно-печальный вид. Напрягая зрение, Спиридов старался разглядеть ужасное помещение, в какое он попал. Это была большая яма, глубиной не менее полутора сажень, а шириной сажени три в квадрате, причем основание ее было шире, чем устье. Бревенчатый потолок был сверху покрыт слоем земли и щебня с пробитой посередине его дверью, наподобие ставни. Стены без срубов, из плотно убитой глины. Пол был земляной, и на нем не было даже соломы. В самом дальнем углу чернела глубокая яма, издававшая нестерпимое зловоние.
«Что же это такое, что же это такое? – мучительно вертелся в мозгу Спиридова смутный вопрос. – Как же это так, разве можно прожить здесь хотя бы минуту?»
Мысли в его голове путались, он был близок к потере рассудка.
Вдруг словно тысяча игл впилась в его тело. Ощущение, подобное тому, если бы его начали стегать крапивой, нестерпимым зудом ожгло Спиридова, ноги, спину, руки… Через мгновенье все его тело горело, как в огне. Эта бесчисленная армия земляных клопов и блох, почуяв в нем свежую жертву, с остервенением набросилась на Петра Андреевича.
Не помня себя от боли, Спиридов с бешеным ожесточением принялся царапать свое тело острыми, крепкими ногтями; при этом он очень скоро в клочья изодрал едва державшиеся на нем лохмотья, расцарапал до ран кожу, но тем только усилил свои страдания. Наконец, обессиленный неравной борьбой, заживо пожираемый свирепыми насекомыми, весь в крови от нанесенных им самим себе ран, Петр Андреевич не выдержал. Его гордая душа сломилась. Он зашатался, закрыл лицо ладонями и с глухим стоном упал ничком на пол и зарыдал. С момента плена это были первые слезы, исторгнутые овладевшим им отчаянием.
Пока Спиридов переживал эти ужасные минуты, его товарищи по заключению продолжали сидеть в тех же позах, и ни один из них ни единым звуком не отозвался на его горькие рыдания. Только лежавший немного дальше третий человек, которого Спиридов сначала и не заметил, медленно повернул к нему свою страшную, взлохмаченную, как у чудовища, голову и сверкнул во мраке большими, глубоко ввалившимися глазами.
Долго плакал Спиридов, чувствуя, как внутри его словно струны рвутся одна за другой, и по мере того как они лопались, прежний Спиридов, гордый и самоуверенный, ничего не боявшийся, уступал место другому, новому, у которого вся душа была истерзана, опоганена страданиями и бессильной злобой. Насколько прежний Спиридов внушал уважение своей непреклонной волей и презрением к опасности, настолько жалок и ничтожен, противен самому себе был тот изнемогший в борьбе полутруп, который, обливаясь жгучими слезами, извивался на грязном полу смрадной гундыни. Выплакав наконец все свои слезы, Спиридов поднялся, сел, охватил руками колена и, положив на них подбородок, впал в какое-то тугое оцепенение, из которого его не могли вывести мириады насекомых, жадно точивших его измученное тело.
Сколько времени пробыл Спиридов в таком состоянии, он и сам не мог бы определить. Может быть, час, может быть, несколько минут, может быть, несколько часов, Бог один знает. В этой ужасной, погруженной во мрак яме время теряло над человеком всю свою власть и не вызывало в его мозгу никакого представления и ощущения.
Чей-то слабый голос, едва уловимый даже в этой мертвой тишине, вывел Спиридова из задумчивости. Он вздрогнул, оглянулся. В нескольких шагах от него на спине лежал совершенно обнаженный человек, очевидно больной, может быть, умирающий. Повернув голову и глядя на Спиридова огромными страдальческими глазами, он что-то бессвязно шептал, медленно, с усилием шевеля страшным ртом, казавшимся в полутьме черной, зияющей ямой на его белом, как у мертвеца, лице. Спиридов вспомнил стоны, слышанные им там, наверху.
«Наверно, это тот самый умирающий офицер, о котором упоминал Арбузов», – подумал Спиридов и, машинально поднявшись на ноги, подошел к больному, стараясь разглядеть его.
Никогда не приводилось Спиридову ни раньше, ни после видеть человека в столь ужасном положении. Это был скелет в полном значении слова, обтянутый желтой ссохшейся кожей, испещренной гноящимися ранами и струпьями. Сбившиеся в огромный колтун космы полуседых волос, как чудовищная шапка, нависли над серо-мертвенным лицом, в котором не было никакого выражения. Глубоко ввалившиеся глаза смотрели тупо и безжизненно.
– Кто вы такой? – услыхал Спиридов едва уловимый шепот, после того как присел на корточки подле больного.
– Офицер. Поручик Спиридов.
По лицу лежащего пробежала легкая судорога.
– А я Назимов. Прапорщик Назимов. Помните? – с усилием проговорил он, вопросительным взглядом смотря в лицо Петра Андреевича.
– Назимов? – воскликнул Спиридов. – Не может быть…
Наступило тяжелое молчание. Спиридов смотрел и не хотел верить своим глазам.
Три года тому назад, на пути из Петербурга на Кавказ, Спиридов познакомился с прапорщиком Назимовым и проехал с ним несколько станций.
Тогда это был только что выпущенный из кадетского корпуса, вновь произведенный юноша, добродушный, восторженный и жизнерадостный. Не видя еще Кавказа, он был в него влюблен и бредил им, как жених невестой. Когда же перед ним развернулась величественная картина гор с снежными вершинами и пахнул особенный, бодрящий душу горный воздух, зазеленели чинары и стали все чаще и чаще попадаться навстречу одетые в живописные лохмотья, вооруженные с ног до головы, в косматых папахах и бурках воинственные представители бесчисленного множества племен, населяющих Кавказ, Назимов пришел в полное упоение.
Все его чувства и ощущения до того перемешались между собой, что он никак не мог в них разобраться. Спиридова это очень забавляло, и от нечего делать он изводил молодого прапорщика, подтрунивая над его экстазом.
– Не понимаю, Назимов, зачем вы едете на Кавказ? – спрашивал он между прочим.
– Как зачем? – удивился тот. – Чтобы воевать с врагами моего отечества.
– Но позвольте, вы только что говорили, что находите несправедливым со стороны России нападать на несчастных горцев, у которых нет ничего, кроме свободы и любви к родине. И какие же они враги отечества, если только защищаются от нападения? Ведь согласитесь сами, всякий человек, если чуженин придет к нему и будет распоряжаться в его доме, постарается вышибить его оттуда; за это истреблять его не совсем-то человечно.
– Разумеется, но как же иначе быть? Мы должны завладеть Кавказом.
– Почему?
– Как почему? Ну, знаете, это высшая политика, – начинал путаться Назимов. – Мы люди маленькие и, может быть, не совсем ясно можем судить… Во всяком случае, нельзя же допустить, чтобы какие-нибудь дикари бесчинствовали на границе, делали набеги, увозили наших подданных в плен… Наконец, мы должны образовать их, у них нет никаких законов, режут друг друга, грабят, разбойничают, разве это хорошо?
– Скверно. Стало быть, вы хотите сделать из горцев мирных поселенцев, вроде наших крестьян, ну, хотя бы Ставропольской губернии, и ради этой цели вы желаете воевать. Но подумали ли вы, что, превратившись в мирных поселян, горцы потеряют свои доблестные качества: воинственность, храбрость, наездничество, – одним словом, все то, что в них так восхищает, за что вы их, по вашим же словам, «обожаете». Выходит, стало быть, что вы будете воевать, рисковать жизнью, чтобы из людей благородных, свободолюбивых, гордых, воинственных, независимых, словом, чтобы из народа-героя, подобного древним римлянам и грекам, – ваши же слова, – создать прозаичных, смиренных «мужиков». Это первое; а второе: как прикажете понимать вашу страсть и восторг к народу, которого вы в то же время собираетесь истреблять как можно больше. Или это «обожание» такого же сорта, как некоторые «обожают» цыплят и в силу того едят их до пресыщения, и чем больше «обожают», тем больше «едят», предварительно, разумеется, зарезав. В конце концов я прихожу к тому убеждению, что вы любите горцев за возможность убивать их.
– Ах нет, как можно так говорить?! – воскликнул Назимов.
– Ну, в таком случае вы едете ради получения орденов. Последнее вернее всего. Согласитесь, что так? Внутри вас копошится червячок тщеславия, и вот, чтобы удовлетворить его, навесив на свою грудь орденов, вы готовы пролить море человеческой крови, не только вражеской, но и русской. Таким образом, оказывается, что для вас орден не следствие ваших действий, а причина их. Не ожидал я от вас, Назимов, такого бессердечия и чудовищного эгоизма. Из-за значка, имеющего нарицательную цену нескольких рублей, вы собираетесь отнимать у людей их величайшую драгоценность: жизнь и свободу.
– Ах, Боже мой, ну, можно ли так объяснять… Нет, послушайте… вы совсем не так смотрите на это, – волновался Назимов. – Позвольте, я вам объясню все как следует… Имейте терпение только выслушать.
Волнуясь, спеша, ежеминутно повторяясь и противореча самому себе чуть не на каждом слове, Назимов подробно принимался разъяснять Спиридову причины, побудившие его перевестись на Кавказ, но чем больше он говорил, тем больше запутывался в противоречиях собственных доводов и давал Спиридову в руки все новое и новое против себя оружие, при помощи которого Спиридов доводил его чуть ли не до слез. И вот теперь, через несколько лет, встретив Назимова в этой смрадной яме, Спиридов никак не мог приучить себя к мысли, что перед ним тот самый милый, симпатичный юноша с светлым, наивным взглядом, пухлыми, розовыми щеками и едва пробивающимися усиками. Казалось невероятным, как могло совершиться такое ужасное превращение. За три года полуребенок превратился в развалину, сморщенную мумию, заросшую седыми волосами, с лицом отживающего свой век старца…
– Господи! – невольно воскликнул Спиридов. – Но скажите мне, как могло случиться с вами такое несчастье?
– Очень просто, – с усилием проговорил Назимов. – Все несчастья случаются очень просто. Помните, как вы все время подсмеивались надо мной, когда мы с вами ехали на Кавказ, уверяли, что я скоро разочаруюсь в горцах… Разочаруюсь – это слишком слабо сказано: я возненавидел их, возненавидел всеми силами моей души, возненавидел так, как можно возненавидеть в моем положении. Это звери, бездушные, бессердечные, хуже зверей… Из всех душевных побуждений, которыми одарен человек, им доступна одна только бессмысленная, тупая жестокость. Жестокость настолько проникла во все их существо, что они даже не видят ее, они совершают величайшие зверства, даже не ощущая от того наслаждения, без всякой для себя выгоды… Спрашивается, за что они замучили меня, не согласившись на предложенный им выкуп? Не лучше ли им было взять за меня восемьсот рублей, которые им предлагали, чем допустить умереть без всякой для них пользы? Но повторяю – это звери, тупые, бессмысленные, проникнутые предрассудками и диким фанатизмом… Помните, вы подшучивали над тем, что я не понимал, к чему Россия пришла воевать с ними… О, теперь я это хорошо понял… Не может цивилизованное государство терпеть рядом с собой гнездо злодеев, убийц и предателей, совершающих всевозможные насилия и злодеяния, как около усадьбы нельзя давать плодиться волкам… Только истребив их до последнего младенца, русские могут считать свою миссию законченной, и чем скорее это случится, тем лучше. Никаких соглашений, никаких уступок – они должны исчезнуть с лица земли, как гады, как бешеные собаки, и уступить свое место русским; только тогда эта дивная страна, залитая кровью, очумелая от жестоких злодеяний, зацветет подобно раю…
Спиридов слушал с трудом произносимые Назимовым слова, которые он едва-едва выдавливал из своей высохшей, истерзанной груди, то и дело останавливаясь и тяжело переводя дух. Как эти слова были не похожи на то, что говорил Назимов три года тому назад!
– Подумайте, – заговорил снова Назимов, – какое беспощадное, злое зверье эти, как их у нас в России называют многие романтики, «рыцари гор». Я, как вы сами видите, умираю, спасенья мне нет, я не могу шевельнуться… Просил их, нехристей, плакал, просил вынести меня на воздух, взглянуть еще раз, один только раз на небо, на горы, на Божий мир, вдохнуть глоток свежего воздуха – и того не хотят сделать… Тупые, злые звери. О, Господи! – с новой силой воскликнул он. – Если есть на свете справедливость, накажи их, злодеев, за все мои страдания, и детей их, и внуков, и правнуков. Искорени род их до последнего человека… О, Боже мой, за что, за что такая кара? Умирать в этой яме, как собаке, без причастия, без слова утешения… без молитвы. Что может быть ужаснее!
Он закинул голову, зажмурил глаза и с выражением нестерпимого душевного страдания на лице застыл в неподвижной позе.
Пораженный видом таких нечеловеческих мук, Спиридов сидел молча, опустив голову.
Два других заключенных оставались по-прежнему сидеть все в тех же безучастных, понурых позах.









































