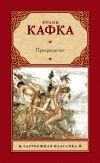Текст книги "Письма к Фелиции"
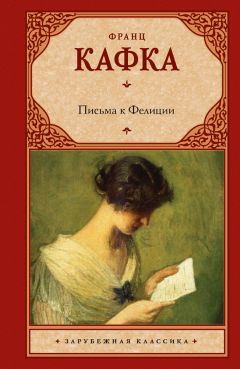
Автор книги: Франц Кафка
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Твои маленькие барышни ведут себя прекрасно и трогательно, но ничуть меня этим не удивляют, ибо все это в точности соответствует моим желаниям. Однако я не устану слушать о Твоем бюро. Там, где работают столько девушек, все должно быть совсем иначе, чем среди мужчин. Мой машинист-переписчик, например, никогда бы не стал дожидаться меня у портного с розой в руке (комизм подобной картины Ты не в состоянии оценить, не увидев хотя бы раз этого человека, к которому я, кстати, очень хорошо отношусь), зато он способен на многое другое, например, в присутствии заслуживающих доверия свидетелей за один присест съесть 76 наших маленьких ситников или, в другой раз, 25 крутых яиц, причем он с превеликой радостью повторял бы подобные эксперименты каждый день, будь у него на это средства. Особенно он расхваливает приятное чувство теплоты во всем теле после 25 крутых яиц.
Но Боже правый, какой же ерундой я занимаю те мгновения, которые провожу с Тобой вместе хотя бы на бумаге! И конечно же, моя самая милая, самая добрая девочка, во вчерашнем своем письме я был к Тебе несправедлив. (На что я вообще гожусь, кроме несправедливостей по отношению к Тебе?) Ты в воскресенье устала (даже не готовила, несмотря на давнее, еще за неделю до того данное матери обещание), у Тебя к тому же, как мне почему-то видится, по крайней мере еще в понедельник болела голова (да и горло! Позор! Позор! На Твою и на мою голову! У возлюбленной природного целителя горло болит!), и, несмотря на все это, Ты все-таки мне написала, только вот и письмо Твое, и открытка были доставлены в мою контору некоей совершенно неведомой мне почтой, очевидно, лишь в понедельник вечером. Как бы там ни было, и то и другое я получил сразу же по приходе внизу в швейцарской. О боги! Чуть не приплясывая, летел я вверх по лестнице!..
Все, конец, и я опять один.
Франц.
19.12.1912
Любимая, сейчас полтретьего, вторую половину дня провел с Максом, осматривая их новое жилище, вечер с семьей, в начале ночи кое-как поработал и только теперь, несколько поздновато, над письмом Тебе, любимая моя девочка, начинается настоящий мой день.
Так это, значит, и есть грустная маленькая машинисточка из Вайсензее? Но она, напротив, бодра, весела и, по-моему, легким сгибом правой коленки только что привела в движение весь – до того несколько чопорный – строй этих до жути христианских девушек. У Тебя были среди них подруги? Скажи кто, и я приму их в сердце свое, даже та устрашающего вида каланча в черном будет мне как родная. Каким же испытующим взглядом Ты смотришь с этой фотографии! Как крепко Твоя соседка справа обняла Тебя за талию, будто и вправду уже точно знает, кого обняла. У Тебя книга в руке, что за книга? Там, в этом Вайсензее, вы, похоже, вкушали все прелести чуть ли не деревенской жизни. Правда, кусты, забор, застекленные двери на заднем плане вид имеют несколько казенный. Как мне хочется знать о Тебе хоть что-то из тех времен, когда Ты имела счастье страдать только от Твоей работы. Что у Тебя была за начальница? Уж Ты-то, наверно, когда та сердилась, не бегала за ней к ее портнихе с розой в руках? И как, кстати, Твоя борьба с секретаршей на Твоей нынешней работе? Чем она завершилась?
Пока что, любимая, я никакой фотографии Тебе не высылаю. Следующим на очереди будет хороший снимок, о котором я Тебе писал, правда, я так его еще и не заказал, хлопотно было идти к фотографу, но на днях я обязательно к нему схожу. А в последнее время я не фотографировался, групповых снимков, по крайней мере своих, у меня нет, да и группы, среди которых мне случалось существовать, особой радости мне не доставляли (девушки в таких группах лучше и теплее ладят друг с другом, чем мужчины), другие же фотографии я пока что посылать не хочу, потому что боюсь, что на всех них, без особой своей вины, выгляжу несколько чудаковатым. А вот рассказать мне еще многое Тебе нужно, давай в воскресенье с головой окунемся в прежние времена.
Но, любимая, я тут пишу, а Ты там, быть может, больна? В письме после «Бегства Шиллинга» Ты даже упоминаешь о возможности инфлюэнцы. Ради бога, любимая, жизнь моя, береги себя! Признаюсь, при мысли о Твоей болезни я первым делом думаю не о Твоих страданиях, а о том, что, возможно, перестану получать от Тебя известия и тогда, доведенный до отчаяния, буду биться тут обо все, что ни попадя. Во вторник боли в горле сменились насморком, при простудах, которые мне неведомы, это, должно быть, надо считать улучшением? Но головные боли все еще Тебя донимают? Прямо вижу, как Ты, закончив последнее письмо, достаешь аспирин и глотаешь таблетку, – вижу и содрогаюсь…
Вследствие грозовой погоды за окном – мгновенье назад все содрогнулось так, что дверь в гостиную, которая, впрочем, и так плохо закрывается, распахнулась сама собой, – я, должно быть, начисто прослушал бой часов с улицы (я, кстати, даже не знаю, где они бьют, их слышно только ночью), сейчас, оказывается, уже полчетвертого. Так что всего доброго, любимая моя. Нет, быть одному с Тобой я представлял себе не так, как Ты думаешь. Когда я желаю чего-то невозможного, то уж до конца. Так что совсем один, любимая, да, я хотел быть Тобой совсем один на белом свете, совсем один под этим небом, и всю мою жизнь, что принадлежит Тебе, сосредоточенно и без остатка свести с Твоею.
Франц.
20.12.1912
Так, любимая моя девочка, опять вечер после бессонного дня (бессонный день звучит, по-моему, еще страшнее бессонной ночи), значит, писать сегодня не будем, только девочке, только той, которой и хочется беспрерывно писать, о которой хочется без конца слышать, в которой так и хочется раствориться всецело.
Но прошу Тебя, любимая, объясни же наконец начистоту, как все это понимать? Ты, которая сама мне писала, что никогда не болеешь (я Тебя об этом даже не спрашивал, здоровье и так написано у Тебя на устах и в очах), теперь бегаешь по докторам, Тебе вот уже неделями каждый день неможется, Тебе в шутку говорят, а подразумевают, может, наполовину всерьез, что у Тебя вид, как у покойника на курорте (выражение, которое очень бы пришлось мне по вкусу, не будь оно адресовано именно Тебе), у Тебя в последнее время болели горло и голова, была слабость, и все это не один раз, а, по сути, непрестанно, – любимая, мы не можем этого так оставлять, верно? Итак, Ты немедленно и в точности должна мне написать, когда и как Ты собираешься начать себя беречь, ведь Твои недуги затрагивают меня ничуть не меньше, чем Тебя. Не то чтобы у меня болело горло, когда оно болит у Тебя, но когда я о Твоей простуде слышу, предчувствую ее или просто боюсь, я на свой манер страдаю ничуть не меньше. Еще больше я страдаю от Твоей усталости, а еще больше – от Твоих мигреней. А когда Ты принимаешь аспирин, мне просто физически становится нехорошо. Сегодня всю ночь, то есть с половины четвертого до половины восьмого и еще какое-то время потом, я чувствовал внутри во всем теле странную, давящую тяжесть, какой за предыдущие тридцать лет жизни никогда в себе не замечал, она шла не от желудка, и не от сердца, и не от легких, но, может быть, от всего вместе взятого. Потом, с наступлением дня, куда-то делась. Так что если Ты вчера принимала аспирин, то это наверняка следствие Твоего аспирина, если не принимала, следствие аспирина, принятого раньше, а если даже и это не так, тогда это, возможно, следствие того, что мне плохо писалось, ну а ежели не так даже это, тогда я просто болван, который так часто и так истово прикладывает руки к вискам и мысленно хочет вложить столько исцеляющих сил в свои поцелуи, чтобы сцеловать с Твоего лба все Твои мигрени начиная с Твоего самого ужасного прошлого и кончая Твоим самым ослепительным будущим… Зато когда Ты снова соберешься с силами, вот тогда я хочу много, очень много услышать о Твоем детстве, Твое последнее письмо безумно меня разохотило. Быть поздним ребенком, конечно, имеет свои недостатки, однако преимущества перед первенцами, грустный пример коих я собой являю, все-таки очень велики. Эти поздние сразу же обретают вокруг себя столько частично уже изведанных, частично еще только чаемых переживаний и приключений! Познания, опыт, изобретения и победы их старших братьев и сестер, предпочтительное внимание, ободрение, поучение со стороны столь близких тебе, столь многосложно-родственных жизней важны и нужны невероятно. Да и семья для этих поздних детей уже гораздо продуманнее образовалась, родители, насколько им это вообще доступно, уже научены собственными ошибками (впрочем, в иных ошибках они еще больше упорствуют), вот почему эти поздние просто естественным ходом вещей теплее устроены в семейном гнезде, пусть даже о них чуть меньше заботятся, преимущества тут, конечно же, на одних весах с недостатками, но недостатки никогда не перевешивают, впрочем, это даже и не важно, ибо все само – неосознанно и потому особенно любовно и безвредно – о них заботится. Я вот старший из шести детей, двое братьев, несколько младше меня, умерли еще в младенчестве по вине врачей, потом какое-то время было тихо, я был единственным ребенком, пока через четыре с половиной года с промежутками в год или два не пожаловало пополнение из трех моих сестриц. Так оно и вышло, что я очень долго жил один и в одиночку сражался с няньками, престарелыми служанками, злокозненными кухарками и унылыми гувернантками, потому что родители-то постоянно были при магазине. Об одном этом столько можно всего рассказать! Но не в эту ночь, чей двенадцатый час, к моему ужасу, только что грянул. Всего доброго, любимая моя, и даже рискуя разбудить Тебя, и даже рискуя разбудить Тебя вторично, я Тебя целую.
Франц.
21.12.1912
Уже третий вечер, любимая, я ничего не написал, скверный вечер, совсем не к Рождеству. Да и рождественский мой отпуск под большим сомнением, свадьба моей сестры – по-моему, я Тебе об этом еще не писал – хоть и отложена, однако смогу ли я взять два своих отпускных дня, еще в высшей степени гадательно. У меня постоянно и беспросветно много дел, и чем больше их накапливается, тем меньше охоты, а вернее, тем больше отвращения их делать. Покуда я в конторе присутствую, употреблением последних остатков личного влияния мне еще как-то удается оградить от посторонних глаз свой доверху заваленный задолженностями рабочий стол, но если я буду сидеть дома, стол останется без присмотра, и уж тогда совершенно неизбежно в течение всего дня эти задолженности станут поочередно взрываться, как мины замедленного действия, что по возвращении грозит обернуться для меня немалыми неприятностями. Но несмотря ни на что – ибо сейчас, когда я это пишу, мысль о бездарной потере двух дней кажется мне совершенно невыносимой, все равно ничего особо дельного, кроме обороны письменного стола, мне за это время в конторе не совершить, – я думаю, что все же рискну их взять.
А что с Твоей работой, девочка моя?.. Неужели Ты всегда и со всякой работой справляешься? И никакие письма не заваливаются под стол, не исчезают бесследно? И нет никакого потайного ящичка, где давние, безнадежно просроченные дела копошатся, точно мерзкие зверушки? У Тебя хорошая память? У меня вообще никакой, так что я работаю только за счет поистине безграничной памяти моего начальника, человека и во всех прочих отношениях изумительного. Но когда вдруг он и вправду что-то забывает из того, что мне понадобилось, я исподволь начинаю дразнить его память своими неуверенными, расплывчатыми подсказками – проходит немного времени, и он все вспоминает. Есть люди, которым одного только выражения готовности помочь, пусть даже на лице самого беспомощного собеседника, достаточно, чтобы они тотчас же все вспомнили. А уж работать настолько самостоятельно, как Ты, я бы, наверно, определенно не смог, от ответственности я ускользаю ужом, мне много всего надо подписывать, но каждую подпись, от которой мне удалось уклониться, я расцениваю как огромную свою победу, к тому же подписываю все (хоть вообще-то не имею на это права) только инициалами ФК, как будто от этого мне будет легче, и по этой же причине в производстве всех служебных дел меня, как магнитом, притягивает пишущая машинка, поскольку работа ее, выполненная руками переписчика-машиниста, анонимна. Впрочем, дополняется, но и напрочь перечеркивается сия весьма похвальная предосторожность тем, что инициалами ФК я подмахиваю порой наиважнейшие бумаги, не читая их вовсе, а также моей забывчивостью, вследствие коей все, что однажды ушло с моего стола, для меня, можно считать, уже не существует. Памятуя, как я недавно претендовал на местечко в Твоем бюро, сочтешь ли Ты меня достойной кандидатурой после таких рекомендаций? В сегодняшнем письме Твоем упомянут дневник. Он еще существует? Ты до сих пор его ведешь? И вот эти слова – «я люблю его и никогда, кто бы ни повстречался мне на пути…» – Ты написала в 15 лет? Любимая, ну почему я тогда Тебя не знал? Мне кажется, мы бы тогда не были так далеки друг от друга. Сидели бы за одним столом, выглядывали бы из одного окошка на одну улицу. Не дрожали бы так друг за дружку, не было бы между нами никаких невозможностей. Но потом я снова говорю себе – и в этом опять-таки сказывается непреложность всего, – что лет десять, да и два, и даже год назад я, к сожалению, во многом был лучше, но в сути своей гораздо более неуверен и даже несчастлив, чем ныне, так что, возможно, именно сейчас как раз и было самое подходящее время для появления человека, которому суждено было стать для меня самым любимым на свете.
Сегодня я искал кое-что на письменном столе у себя дома (и этот письменный стол своевольничает и не знает управы, за ним можно только что-то искать, но не работать, и лишь один ящик в полном порядке и на запоре – там Твои письма) и нашел старое письмо, это из времен того месячного ожидания, оно принадлежит Тебе, и я его Тебе посылаю, несмотря на его уже несколько непрезентабельный вид. Когда я его читаю, оно, к сожалению, без даты, то вижу на фоне всех тогдашних вздорных своих надежд (сколь же многое я пишу против воли, просто потому, что из меня это вырывается, – неумелый я, жалкий я сочинитель!), насколько же все оказалось прекрасней, и хочется верить, что счастливая звезда, которая ведет нас, никогда не погаснет над нами. Дитя мое, что за странные вещи Ты сегодня пишешь. Как это я мог бы стать дезертиром? Да из-под какого знамени? Разве что из-под знамени собственной жизни. Да и то не по своей воле – для этого я, невзирая на все беды, чувствую себя слишком в гуще сражения. Так что по моей воле и моей рукой это не свершится.
А теперь прощай, моя девочка, девочка моя! Желаю тебе приятного воскресенья, приветливых родителей, вкусных трапез, долгих прогулок, ясной головы. Завтра опять начну свои писания, хочу приняться во весь опор, я прямо чувствую, как меня выталкивает из жизни, когда я не пишу. И завтра, надеюсь, я получу не такое мрачное письмо, как сегодняшнее, но такое же правдивое, ибо заботливая, бережностью продиктованная утайка ранит меня куда больше, чем любая правда.
Франц.
22.12. 1912
Наутро.
Знаешь ли Ты, любимая, что история с господином Нэбле, если, конечно, она была единственной причиной Твоей подавленности в последнее время, просто переполняет меня счастьем. И это, значит, все? Разумеется, это была, полагаю, достаточно чувствительная неприятность. Но то, что Ты одержишь верх, я бы Тебе и заранее предсказал; а директору Хайнеману я только завидую из-за доставшейся ему замечательной роли, которую уж я-то сыграл бы гораздо вдохновеннее. «Для начала закройте дверь, госпожа Бауэр», – сказал бы я Тебе. И Тебе пришлось бы все мне рассказать, потому что со мной Ты, оказывается, лишь чуточку менее скрытная, чем с Твоим директором; почему, задаю я себе вопрос, мне не дозволено было узнать про историю с этим Нэбле сразу же, с первого дня? Но как бы я Тебя заставил рассказывать, будь я Твоим директором! Наступила бы ночь, а потом утро, и персонал уже снова явился бы на работу, а Ты в ответ на мои расспросы все рассказывала бы и рассказывала. В одном только я, вероятно, оказался бы слабее Твоего директора; при виде первых же Твоих слез я, вероятно, невзирая на всю свою хваленую неплакучесть, боюсь, совсем не по-директорски расплакался бы вместе с Тобой. И мне, спасая свое директорское лицо, не осталось бы ничего иного, как прильнуть к Твоему, дабы слезы наши слились до полной неразличимости. Любимая, любимая Фелиция! Каких только страданий не посылает Тебе судьба!
А Ты вообще-то легко впадаешь в гнев? Я нет, но уж если впадаю, то тогда и вправду, как никогда, чувствую себя ближе к Богу. Когда вся кровь – от головы и вниз по всему телу – вскипает, кулаки в карманах стискиваются, когда весь по крупицам собранный запас самообладания вмиг отказывает, и вот эта немочь владеть собой, если смотреть на нее с другой – и по сути истинной – стороны, оказывается мощью и властью, вот тогда познаешь, что досады и гнева надо избегать только в их низменных начатках. Не далее как вчера вечером я был очень близок к тому, чтобы дать пощечину одному человеку, и не одной рукой, а обеими, и отхлестать не один раз, а всласть. В итоге пришлось ограничиться словами, но слова были увесистыми. Не исключено, что история с этим Нэбле тоже сыграла тут свою роль.
После полудня.
Итак, моя любимая Фелиция, я снова с Тобой. Вчера вечером, когда я вернулся со своей большой прогулки, которую хотел совершить в одиночку, но по пути к вокзалу повстречался со всем своим семейством, оно как раз возвращалось от моей замужней сестры, и моя младшая сестра вместе с кузиной не отставали от меня до тех пор, пока я их с собой не взял, – так вот, когда я вернулся домой с прогулки, мне вот что пришло в голову и долго не давало покоя: не сердишься ли Ты на меня, часом, из-за моего донельзя нервного второго субботнего письма, ну, или не то чтобы сердишься (потому что ничего неправильного я не написал), но разочарована, что вот и я тоже оказался не тем человеком, которому можно безоглядно – а это и есть самая прекрасная, самая облегчительная возможность поплакаться, – без оглядки на мир и себя излить душу. И в своих тревогах я оказался не так уж не прав, по-моему, Твое срочное письмо их подтверждает. Там, например, говорится: «Когда сегодня с десятичасовой почтой пришло Твое письмо, мне стало еще грустнее, еще тягостней, чем прежде». Это каким же надо быть бесподобным возлюбленным, чтобы писать любимой такие письма, усугубляя ее страдания! Нет, любимая, послушай, Ты не оставишь меня, Ты ведь сама не раз мне это говорила, но я хочу во всем, во всем быть близок Тебе, – так, значит, не оставляй меня и во всем, что с Тобой делается, не оставляй меня и во всех Твоих печалях. Оставайся со мной всецело, любимая, оставайся такой, как есть, ни единого волоска на Твоей головке я не хотел бы завить иначе, чем сам он вьется. Не пытайся быть веселой, когда Тебе невесело. Для жизнерадостности мало решить радоваться, нужно, чтобы было чему. И Ты не станешь мне больше нравиться оттого, что будешь лучше выглядеть, Ты будешь мне нравиться всего лишь точно так же, как сейчас. Близость, которую я к Тебе чувствую, слишком велика, чтобы какие-то перемены в Твоих настроениях и внешнем виде смогли повлиять на мое отношение к Тебе. Просто я буду несчастлив, если несчастлива Ты, и поэтому из любви к Тебе, но и из самого обычного эгоизма буду стараться устранить несчастье – как-то иначе это не может на нас сказаться. Разве что кроме как в поспешных, в суматохе дня грязными каракулями начерканных письмах, в которых пытаешься и не можешь избавиться от дурацкого сиюминутного волнения. Кстати, еще один повод остеречься двух писем в день.
Вот я – разве я Тебе не жалуюсь? Да это же почти завывания! Вчера, например, в конторе я просто разваливался. Голова сама никла от сонливости (при том что я уже много ночей ничего не писал, кроме как Тебе), где я ни прислонялся, там и норовил притулиться, в кресло свое не решался сесть из страха больше не встать, от авторучки пользовался только колпачком, чтобы при чтении бумаг буравить им висок и благодаря этому не засыпать, – во второй половине дня даже поспал немного, но и к вечеру мне не полегчало, почему я потом и гулять пошел, но и после этого спал вполглаза, как часовой на посту. Если уж не руками, любимая, так обнимемся хотя бы жалобами и мечтами…
Франц.
23.12.1912
Любимая, я в каком-то разброде, не обижайся на невнятность того, о чем я пытаюсь написать. Я пишу Тебе, потому что переполнен Тобою всецело и должен как-то сообщать об этом внешнему миру. Все воскресенье в скверном состоянии я где-то слонялся, по большей части среди людей, совсем не спал, нежданно заявлялся в гости и негаданно уходил, со мной такого уже много месяцев не было. Просто я уже очень давно не писал и чувствую себя отторгнутым от писательства, то есть полным ничтожеством. Усугубляется это тем, что вожделенный рождественский отпуск взят, а я, по-моему, склонен совершенно беспутно его промотать. И уж совсем подспудно меня, конечно, гнетет мысль, что мне надо бы сейчас быть в Берлине, у Тебя, самой надежной моей защиты, а я вместо этого цепляюсь за свою Прагу, словно боюсь потерять последнюю опору, словно на самом деле Ты именно здесь, в Праге, а не где-то вдалеке.
Любимая, когда вчера вечером в таком вот замечательном настроении я вернулся домой и обнаружил на столе Твою телеграмму, – щедрое Ты мое, сострадательное Ты мое сердце, – я даже не испугался почти, сразу почему-то понял, что ничего, кроме утешения, в ней быть не может, и когда предчувствие подтвердилось, я долго целовал эту чужую, шершавую бумагу, пока даже этого мне не показалось мало и я не прижал ее всю, целиком, к лицу.
В какое время написано все предыдущее, Ты, любимая, наверняка не угадаешь. Наверно, это было около четырех. Под впечатлением от телеграммы я очень рано отправился спать, еще до девяти (я сейчас немного взбалмошно с собой обращаюсь), в два часа пробудился и наяву, с открытыми глазами, но все еще под воздействием сна, а потому в череде нескончаемых и почти волшебных видений грезил о Тебе и о возможной своей берлинской поездке. При этом возникали удивительные сплетения картин, легкие, прекрасные, без малейших помех: автомобили пролетали, словно влюбленные, телефонные разговоры текли сами собой, будто мы держимся за руки, об остальном сейчас лучше даже не вспоминать, – но чем больше я просыпался, тем беспокойнее мне становилось, так что в четыре я вылез из постели, сделал гимнастику, умылся, потом написал для себя две страницы, но от беспокойства их оставил и написал две вот эти, Тобой уже прочитанные, потом оставил и их и с раскалывающейся головой рухнул обратно в постель, где забылся до девяти утра тяжелым сном, в котором, между прочим, явилась и Ты, дабы поучаствовать в недолгой беседе с приятным мне семейством. – Весь этот странный строй моей нынешней жизни обусловлен, разумеется, только тем, что я, во-первых, давно ничего не писал, а во-вторых, почти свободен, не успев к этой свободе толком подготовиться.
Фелиция, любимая!
Твой Франц
23.12.1912
Любимая, что же это будет, если я больше не смогу писать? И час этот, похоже, пробил – уже неделю, а то и больше, я не могу создать ничего путного, в течение последних десяти ночей (правда, при очень урывочной работе) меня только один раз повело, и это все. Усталость постоянная, в голове только неодолимая сонливость. Давящие боли в затылке справа и слева. Вчера начал одну маленькую историю, она давно у меня на душе и, казалось, раскрылась сразу же и вся, так сегодня она снова замкнулась от меня напрочь. Когда я спрашиваю, что же это будет, то думаю не о себе, мне-то случалось и худшие времена переживать, я их, в общем-то, всю жизнь переживаю, и если не смогу писать для себя, значит, у меня будет больше времени писать Тебе, вкушать Твою измышленную, письмами добытую, всеми силами души отвоеванную мною близость – но Ты, Ты не сможешь меня такого любить. И не потому, что я не смогу больше писать для себя, а потому, что из-за этого стану еще более тяжелым, сумрачным, еще менее надежным человеком, который просто не в состоянии Тебе понравиться. Любимая, если уж Ты способна осчастливить бедных детей на дороге, осчастливь и меня, я ничуть не менее несчастлив, Ты и понятия не имеешь, насколько недалеко я ушел от старика, что возвращается вечерами домой со своим нераспроданным товаром, – так будь же и со мной такой, какой Ты была со всеми, даже если Твоя мать, как когда-то из-за других, так теперь из-за меня, будет на Тебя злиться (каждый обречен нести свою муку, вот и родители обречены сердиться на невинные души своих детей) – простейший смысл пространной этой просьбы вот какой: скажи мне, будешь ли Ты любить меня, каким бы я ни был, сохранишь ли любовь ко мне любой ценой, сколь бы низко ни упал я в Твоих глазах, – впрочем, куда это меня занесло?
Вот они, плутни пребывающего в отгуле разума! При таких-то фортелях разве нет у меня более чем весомых оснований из последних сил держаться за свою контору, вихрем наверстывать все свои отставания и становиться добросовестным, внимательным служащим, преданным делу всем своим непутевым умом. В виде возражения остается только довод, что, быть может, просто свобода этих двух дней привела меня в смятение и я в спешке не знаю, за что хвататься, в конце концов, не припомню, чтобы у меня когда-нибудь было Рождество лучше этого (завтра ради Тебя пороюсь в старых дневниках), – но и этот довод не так уж сложно опровергнуть. В конечном счете остается всегда одно: либо – либо. Либо я что-то могу, либо нет, и на сей раз, боюсь, я останусь при втором «либо». И только если на вопрос: «Любишь ли Ты меня, Фелиция?», ответом потянется цепочка крупных, в вечность убегающих «Да» – только тогда это второе «либо» можно будет преодолеть.
Франц.
24.12.1912
Вчера, в понедельник, я получил только Твое субботнее письмо, сегодня, во вторник, вообще ничего. Как мне прикажешь теперь с этим жить? Как радовался бы я самому маленькому привету на открытке! Любимая, только не услышь здесь упреки, их тут нет, но услышь любовь и тревогу любви, вот ими действительно исполнено все, что здесь написано. (Вчера вечером у себя в конторе я тоже ничего от Тебя не обнаружил.)
Франц.
24.12.1912
Поскольку я наконец-то снова немного написал для себя, то, собравшись с духом, в приливе вновь обретенного мужества я беру Тебя за плечи (никого еще не брал я за плечи нежнее, чем Тебя при этом, предстоящем сейчас допросе) и спрашиваю, глядя в Твои любимые глаза: «Скажи, Фелиция, был ли хоть день за последнюю четверть года, чтобы Ты не получила от меня известия? Смотри-ка, неужто не было? Меня же и сегодня, во вторник, Ты оставила совсем без вестей, с четырех часов воскресенья я ничего о Тебе не знаю, ко времени первой завтрашней почты это означает ни больше и ни меньше 66 часов, наполненных для меня нескончаемым перебором всевозможных добрых и недобрых предположений». Любимая, не сердись на меня из-за этой дурацкой тирады, но 66 часов – это и правда долгий срок. Я вполне осознаю, что у Тебя могут быть неотложные дела, я понимаю, Рождество, у вас, возможно, гости, почта работает с перебоями (может, даже и мое письмо не пришло вовремя) – но 66 часов! Однако, несмотря на это – одно только еще хочу Тебе сказать, прежде чем пойти ложиться: в свободные дни отсутствие Твоих писем я еще как-то, с грехом пополам, переношу – хотя от Тебя нет весточки, но я свободен, ничто не мешает мне постоянно о Тебе думать, и пусть это соединение одностороннее, его почти достаточно, оно досягает почти до Твоей комнаты, настолько сильны, неодолимы и безраздельны образующие его токи. Так что, любимая, если Ты еще когда-нибудь решишь оставить меня без вестей и я ничего о Тебе не буду знать, пусть это будет в воскресенье или в праздник. Вот почему и сегодня это оказалось переносимо, совсем не так скверно, как Ты, наверно, решила по патетическому зачину моего письма. Это только в будние дни отсутствие ожидаемой вести ужасно. Потому что мне ведь заказано в такие дни постоянно о Тебе думать, ко мне со всех сторон пристают с докучливыми вопросами и требованиями, письмо от Тебя, открытка от Тебя даруют уверенность, мне тогда уже не нужно думать о Тебе, достаточно руку в карман сунуть, нащупать исписанный Тобой лист – и я знаю, Ты думаешь обо мне, Ты живешь в моем счастье. Но когда карман пуст, а голова, в которой мысли о Тебе так и роятся, должна быть занята конторской работой, возникает очень скверное противоречие, которое, поверь мне, любимая, крайне тяжко преодолеть. – Раньше, в прежние времена, когда письмо не приходило, я писал сам – мол, ответа больше и не жду, отныне все кончено. А сегодня я говорю: да, писание писем должно прекратиться, но лишь когда мы станем настолько близки друг другу, что не только не нужно будет писем писать, но – при такой невероятной, исключительной близости – даже разговаривать не понадобится. Только сейчас сообразил: сегодня же Святая ночь. У меня она прошла совсем не свято, за исключением этого прощального поцелуя.
Франц.
С пятницы я снова на службе.
25.12.1912
Не ради сообщений, любимая, пишу Тебе эти несколько слов, все равно Ты получишь их одновременно с более поздним, подробным письмом, – но чтобы вновь ощутить единение с Тобой, чтобы ради этого единения совершить что-то действенное, вот для чего я пишу. Вне себя от ярости, я чуть не вытряс у почтальона всю рождественскую почту, требуя от него своих писем; я уже был на лестнице, я уже собирался уходить, всякая надежда была потеряна, было уже четверть первого! И наконец, наконец-то, и какая дивная почта, два письма, открытка, карточка, цветы! Любимая, моя до смерти зацелованная любимая, как мне Тебя отблагодарить вот этой немощной рукой!
Так, а теперь я отправляюсь гулять с другом, о котором, по-моему, я Тебе еще не писал, – с Вельчем. Мне и нужно уйти, только что заявились жутко крикливые родственники, квартира ходуном ходит, так что я тихой сапой, через прихожую от них улизну. Была бы Ты со мной! Ради Тебя я бы даже умерил свой бег по лестницам. Дело в том, что у меня привычка – это, кстати, единственный, собственного изобретения, вид спорта, которым я занимаюсь, – стремглав лететь вниз по лестницам, наводя ужас на всех поднимающихся навстречу. Погода какая дивная, не хочешь ли и Ты, любимая, хорошенько отдохнуть, каждое мгновение этих рождественских дней радует меня вдвойне, как подумаю, что и Ты сможешь отдохнуть и успокоиться. Так что не пиши, но, по возможности, телеграфируй. Ежевечернее выключение света, практикуемое Твоей матерью, полностью соответствует и моим желаниям, знай она это, она бы, наверно, тут же перестала его выключать, но моим желаниями полностью соответствовало бы и это.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?