Читать книгу "Веселая наука"
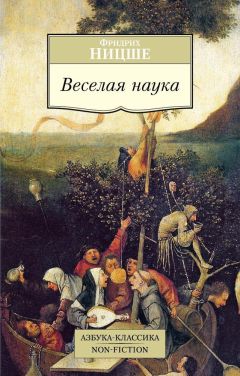
Автор книги: Фридрих Ницше
Жанр: Зарубежная образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом

Необходимо быть настороже против всякой неприязни, которую может возбудить к себе такой случайный, быть может, очень неудачный маскарад; не надо забывать, что все хорошие художники без исключения являются немного актерами и без такой игры им не удалось бы долго выдержать свою роль. Если мы останемся верны Вагнеру в том, что представляет его истинную природу и в чем он является оригинальным, то мы, его ученики, должны остаться верными себе в том, что представляет нашу истинную природу и оригинальность. Оставим его интеллектуальные причуды и корчи, а оценим по справедливости, в какой редкой пище и в каких редких потребностях нуждается искусство, которым он обладал для того, чтобы жить и расти! Не беда, что он, в качестве мыслителя, оказывался часто неправ: справедливость и терпение не были его уделом. Достаточно того, что жизнь его оправдывает себя сама перед собой и сохраняет за собой известное право; она обращается к каждому из нас с таким призывом: «будь мужем, но не следуй по моим стопам, следуй только за своими собственными влечениями! только за своими влечениями!» И мы также должны оправдать свою жизнь! Мы также должны свободно и безбоязненно, в невинном эгоизме расти и цвести из самих себя! И при созерцании такого человека в ушах у меня и теперь, как раньше, звучат следующие положения: «страдание лучше всякого стоицизма и ханжества: оставаться порядочным, даже в этом деле, лучше, чем затеряться среди предписаний ходячей нравственности; свободный человек может быть и хорошим, и дурным, человек несвободный является позором природы и не имеет утешения себе ни на небе, ни на земле; и, наконец, всякий, кто хочет получить себе свободу, должен добиться ее путем собственных усилий, ибо никому она не свалится с неба, в виде чудесного подарка» (Richard Wagner in Bayreuth).
Научиться преданности. – И преданности люди должны научиться так же, как и презрению. Всякий, кто идет по новому пути и многих других ведет по нему, с удивлением замечает, как неловки и бедны эти многие в выражении своей благодарности и даже как редко, вообще говоря, они могут выразить свою благодарность. Каждый раз, как они хотят выразить ее как-нибудь, у них точно в горле что застрянет, они начинают откашливаться и в процессе этого откашливания снова теряют всякую способность к речи. Тот способ, каким мыслитель приходит к убеждению, что мысль его обладает способностью производить потрясающее и преобразовывающее действие на окружающий мир, является чуть не комедией; ему приходится видеть, как те самые люди, на которых это воздействие отразилось известным образом, чувствовали себя в сущности глубоко задетыми, и независимость их, которой, как они полагали, угрожала какая-то опасность, могла проявиться только в разнообразных грубых формах. Нужны целые поколения для того, чтобы люди научились вежливо выражать свою благодарность: и только позднее наступает время, когда самая благодарность становится до известной степени одухотворенной и гениальной. И тогда тот, кому выпадает на долю получить великую благодарность, получает ее не за то, что он сам сделал что-нибудь хорошее, а в большинстве случаев за те высшие и лучшие сокровища, которые были собраны постепенно его предшественниками.
Несколько слов к филологам. – Филология постоянно стремится укрепить у нас веру в то, что существуют такие ценные, такие царственные книги, для сохранения и разъяснения которых стоит затратить труд даже целых поколений ученых. Филология предполагает, что никогда не будет недостатка в тех удивительных людях (хотя бы в данный момент никого из таковых и не было), которые действительно сумеют использовать эти ценные книги; – конечно, это будут те самые авторы, которые сами сочиняют или могли бы сочинить подобные же произведения. Я хочу сказать, что филология предполагает благородную веру в то, что необходимо исполнить много тяжелой, даже грязной работы ради тех, которых постоянно ждут и которые никогда не являются. Это работа in usum Delphinorum.
О немецком музыке. – Немецкая музыка является европейской музыкой уже по одному тому, что на ней одной остался отпечаток тех перемен, которые Европа испытала благодаря революции: только немецкие музыканты сумели стать выразителями взволнованных народных масс и передать ту удивительно художественную сумятицу, которая совершенно не нуждается в слишком громких звуках, – в то время, как, напр., итальянские оперы знают только хоры слуг и солдат, а не «народ». Иногда во всей немецкой музыке слышат глубокую мещанскую зависть к noblesse, именно esprit и elegance, как выразителям светского, рыцарского, древнего, уверенного в себе общества. Это уже не та музыка, которой пользовались гетевские певцы для утехи короля перед воротами его замка или в залах дворцов; к ней нельзя отнести слова поэта: «рыцари бросали вокруг себя мужественные взоры, а красавицы опустили долу свои очи». Не без угрызений совести вступает грация в область немецкой музыки: только в присутствии прелестной деревенской сестры грации, немец начинает чувствовать себя вполне удовлетворенным в нравственном отношении – и от нее поднимается все выше и выше вплоть до мечтательной, ученой, задорной «возвышенности», бетховенской возвышенности. Если бы к этой музыке захотели придумать человека, то пришлось бы дать образ Бетховена в том виде, в каком он явился рядом с Гете при их встрече в Теплице: что-то полуварварское рядом с культурным, как народ рядом с дворянством, как добронравный человек рядом с человеком хорошим и даже более, чем хорошим, как мечтатель рядом с художником, как человек, нуждающийся в утешении, рядом с человеком утешенным, как человек преувеличивающий и подозрительный рядом с человеком справедливым, как ипохондрик, мучитель самого себя, безумно восторженный человек, блаженно-несчастный, искренне не знающий никаких пределов – одним словом, как «человек необузданный», так понял и так обрисовал его сам Гете, этот исключительный немец, для которого не нашлось еще соответственной музыки! – Наконец, подумайте, не является ли все возрастающее у немцев презрение к мелодии и извращение мелодического чувства демократической вольностью и не развилось ли оно под влиянием революции? Мелодия ведь так открыто стремится к законности и питает такое отвращение ко всему еще формирующемуся, бесформенному, произвольному, что она является как бы отзвуком того порядка вещей, который царил раньше в Европе, старается прельстить людей этим порядком и снова возвратить их к нему.
О звуках немецкой речи. – Известно, каким образом произошел тот немецкий язык, который за последние два столетия сделался общегерманским письменным языком. Немцы, в своем преклонении перед всем, что исходило от двора, умышленно подражали канцелярскому языку всякий раз, как им приходилось что-нибудь писать: в частных письмах, актах, завещаниях и т. д. Держаться канцелярского, письменного языка, это было все равно, что писать придворным и государственным языком, и считалось до известной степени признаком высокого положения. Мало-помалу и говорить стали так же, как писали, и еще почетнее было держаться известных форм, слов, выбора слов, оборотов речи и, наконец, даже выговора: таким путем подражали придворному выговору, и подражание это стало, наконец, второй природой. Быть может, нигде больше не приходилось замечать ничего подобного: победу письменного языка над устной речью и развитие в известном направлении разговорного языка главным образом под влиянием чопорности и важничания целого народа. Мне кажется, что немецкий язык в Средние века, а именно когда они уже миновали, являлся глубоко мужицким и простонародным говором: облагородился он только за последние столетия, главным образом, благодаря тому, что немцы нашли себя вынужденными подражать в таких широких размерах французским, итальянским и испанским звукам; особенно в этом повинно было немецкое (и австрийское) дворянство, которое не считало возможным довольствоваться только родным языком. Но для слуха Монтеня или Расина немецкий язык, несмотря на все эти усвоения, казался невыносимо простонародным: и даже теперь, когда итальянской черни приходится слышать его из уст путешественника, он кажется ей суровым, лесным, охрипшим, как бы порожденным в курных избах и неприветливой стране. – Теперь, настолько мне пришлось заметить, среди поклонников канцелярщины снова возникает подобное же стремление к облагораживанию звуков, и немцы начинают прибегать к особому «очаровательному» говору, который может со временем представить для немецкой речи действительную опасность, – ибо во всей Европе нельзя найти более отвратительных звуков. В голосе слышится что-то насмешливое, холодное, равнодушное, небрежное: это у немцев указывает на «почетное» положение говорящего, и добровольные порывы к подобному благородству слышатся мне в голосе молодых чиновников, учителей, женщин, купцов; даже маленькие девочки прекрасно подражают здесь этому немецкому офицерству. Ведь офицер, и именно прусский офицер, является изобретателем этого говора. Этот самый офицер, как солдат и муж дела, обладает тем изумительным тактом, которому у них следовало бы поучиться всем немцам (не исключая немецких профессоров и музыкантов). Но как только он заговорит или завяжет с вами какие-нибудь отношения, он становится самой невежливой и самой неприятной фигурой в старой Европе, – сам того, без сомнения, не сознавая! Не сознают этого также и те добрые немцы, которые с удивлением взирают на него, как на человека самого благородного общества и охотно позволяют ему «задавать тон». Он это и делает! – За ним тотчас же последуют фельдфебели и унтер-офицеры, которые подражают его языку и делают его еще более грубым. Подражают начальническим окрикам, ревом которых буквально наполнены все немецкие города, где перед всякими воротами происходят военные упражнения: какая надменность, какое бесноватое чувство авторитета, какая язвительная холодность звучат в этом рычанье! Могут ли немцы быть действительно музыкальным народом? – Конечно, немцы милитаризируются теперь и в своем говоре, и, возможно, что, привыкнув сначала говорить по-военному, они будут, наконец, по-военному и писать. Привычка же к известным звукам глубоко западает в характер: – сначала усваивают слова и обороты, а затем и мысли, которые больше подходят к этим звукам! Быть может, и теперь уже пишут на офицерский манер; быть может, мне слишком мало приходится читать из того, что ныне пишут в Германии. Но я вполне уверен в одном: официальные немецкие заявления, которые также доходят до страны, проникнуты не немецкий музыкальностью, а теми новыми звуками, которые так отвратительны своею надменностью. Почти в каждой речи самых важных немецких государственных деятелей, даже в тех случаях, когда они являются как бы императорским рупором, слышится акцент, который режет ухо иностранца: но для немцев он остается сносным, ибо они должны выносить и самих себя.
Немцы, как художники и артисты. – Когда немец действительно переживает какую-нибудь страсть (а не ощущает только, как обыкновенно, расположения к страсти), то он поступает сообразно тем указаниям, которые делает ему природа, и не думает больше о своем поведении. Но надо отдать должное: ведет он себя неловко, некрасиво, без такта и мелодии – так, что зритель при этом испытывает либо пытку, либо умиление и ничего более; но когда он поднимается при этом в область возвышенного и восторженного, поскольку эти состояния гармонируют с иными страстями, тут даже немец становится прекрасным! Предчувствие того, что на известной высоте прекрасное распространит свое волшебное влияние даже на немца, гонит немца-художника все дальше и дальше ввысь и заставляет его впадать даже в распутство страсти: таким образом у него существует действительная и глубокая потребность уйти или, по крайней мере, выглянуть из круга всех этих неприятных и неловких движений в лучший, более легкий, более теплый и солнечный мир. Итак, все эти корчи показывают, что могли бы танцевать и они, эти бедные медведи, в которых живут нимфы и лесные боги, а иногда и еще более высокие божества.
Музыка в роли ходатая. – «Я с жадностью ищу такого учителя музыки, – говорил новатор своему ученику, – который воспринял бы мои мысли и передал бы их в будущем на своем языке: таким путем я легче овладею слухом и сердцем людей. При помощи звуков можно соблазнить людей на всякую ошибку, ко всякой истине: кто может противишься звукам?» – «Так, значит, ты хочешь считаться неопровержимым? – говорил его ученик. Новатор возразил: «О, если бы росток обратился в дерево! Для того, чтобы учение разрослось в дерево, в него должны верить известное время: для того же, чтобы оно могло располагать таким доверием, оно должно быть неопровержимым. Бури, сомнения, годы и злая нужда дают возможность проявить ростку дерева свою доброкачественность и силу: оно было бы сломано, если бы не оказалось достаточно сильным! Но росток всегда подвергается уничтожению, – и никогда не оказывает сопротивления!» – И воскликнул бурно на эти слова его ученик: «А я верую в твои произведения и считаю их настолько сильными, что буду высказывать все, все, что я почувствую у себя на сердце против них!» – Новатор засмеялся про себя и погрозил ему пальцем, а затем сказал: «Такие последователи будут лучшими из всех последователей, но они представляют известную опасность, и не всякое учение в состоянии с ними примириться».
Наша последняя благодарность по отношению к искусству. – Если бы мы не считали искусство благом и не изобрели этого своеобразного культа неправды, то вид всей этой неправды и лжи, которая дается нам в настоящее время наукой, – вид всей этой тщеты и заблуждений, которые являются условием познающего и ощущающего бытия, – был бы для нас невыносим. Правдивость возбуждала бы к себе отвращение, доводила бы человека до самоубийства. Теперь же наша правдивость имеет известный противовес, который помогает смягчать подобные последствия; таковым является искусство, как добровольное стремление к иллюзии. Мы не всегда мешаем себе стоять с изумленным взором, фантазировать до конца, и нет тогда уже больше того вечного несовершенства, которое мы несем через поток бытия, – тогда мы думаем, что мы несем богиню и по-детски гордимся этой услугой. Мы можем выносить жизнь, как известный эстетический феномен, и искусство заставляет наши глаза, руки и прежде всего добрую совесть служить так, чтобы мы могли самих себя превратить в подобный феномен. Мы должны иногда отдохнуть от самих себя, чтобы вглядеться в себя и из художественной дали над собою посмеяться и поплакать; мы должны открыть того героя, а также и глупца, который скрывается в нашей страсти к познанию, мы должны иногда радоваться своей глупости для того, чтобы сохранить чувство удовольствия к своей мудрости! А так как мы в конце концов представляем из себя тянем и серьезных людей и даже являемся скорее тяжестями, чем людьми, то ничто к нам так не подходит, как дурацкая шапка: и мы нуждаемся в ней для самих себя, – нам нужно всякое заносчивое, парящее, танцующее, насмешливое, детское и блаженное искусство для того, чтобы не лишиться той свободы над предметами, которую от нас требует наш идеал. И мы снова впали бы в прежнее болезненное состояние, если бы снова очутились со всей нашей раздражительной правдивостью целиком в области морали и сами сделались бы еще добродетельными чудовищами и чучелами ради того чрезмерно строгого требования, которое мы здесь себе предъявляем. Мы должны также уметь стоять выше морали и не только стоять в тоскливой окоченелости того, кто боится каждую минуту поскользнуться и упасть, но весело парить над ней! Каким же образом могли бы мы при таких условиях обойтись без искусства, как без дурака? – И до тех пор, пока вы хоть сколько-нибудь стыдитесь самих себя, вы все еще не принадлежите к нам.

Книга третья
Новая борьба. – По смерти Будды, еще в продолжение целых столетий показывали в пещере его тень, – огромную, ужасную тень. Умерло божество, но, пока существует род человеческий, может быть, целые тысячелетия будут существовать пещеры, в которых будут показывать его тень. И мы должны еще будем побеждать эту тень!
Поостережемся. – Поостережемся думать, что мир представляет из себя нечто живое. Как далеко он простирается? Откуда он может питаться? Как может он расти и размножаться? Мы только случайно знаем, что такое органическое: можем ли мы нечто крайне отвлеченное, позднейшее, редкое, случайное, и такое явление, которое встречаем только на земле, принимать за существенное, всеобщее, вечное, как делают те, кто называет вселенную организмом? Я не могу допустить такого сравнения. Остережемся также верить, будто вселенная – машина; ведь она не построена для одной цели и словом «машина» мы оказываем ей слишком высокую честь. Не будем предполагать везде и во всем что-то столь же оформленное, как круговые движения ближайших к нам звезд; уже один только взгляд на Млечный Путь внушает сомнение, не существует ли там множество нестройных и противоречивых движений, звезд с вечным прямолинейным движением и т. п. Астральный порядок, в котором мы живем, представляет только исключение? этот порядок и известная продолжительность, им обусловленная, сделали в свою очередь возможным исключение из исключений: образование органического. Общий характер мира, напротив, – вечный хаос, не в смысле отсутствия необходимости, а в смысле отсутствия порядка, расчленения, формы, красоты, мудрости и всего, что выражается эстетическими представлениями человечества. С точки зрения разума, наше беспорядочное и неудачное метание из стороны в сторону является правилом, и вся эта игра вечно повторяет свой напев, который никогда не будет мелодией, – да и самое выражение «неудачное метание» – это только попытка очеловечить явление, и попытка эта заключает в себе известное порицание. Но как же мы можем хвалить или порицать вселенную?! Не будем же считать ее безумной и неразумной или приписывать ей каких-нибудь противоположных этим свойств: она не обладает ни совершенством, ни красотой, ни возвышенностью, да прежде всего и не хочет этого, она вовсе не стремится подражать людям! К ней совсем не подходят наши эстетические и моральные представления. В ней нет и стремления к самосохранению и вообще каких бы то ни было стремлений; она не знает никаких законов. Не будем же утверждать, что в природе существуют законы. Существуют только необходимости: нет никого, кто повелевает, кто повинуется, кто преступает законы. Если вы знаете, что не существует цели, то знаете также, что не существует и случайности: только в мире целесообразности слово «случайность» имеет смысл. Остережемся говорить, что смерть противоположна жизни. Живое – это только особый вид мертвого и очень резкий вид. – Не будем думать, что мир создает вечно новое. Не существует вечно продолжающихся субстанций: материя это такое же заблуждение, как бог элеатов. Когда же мы перестанем быть столь предусмотрительными и навязывать свое покровительство?! Когда перестанут омрачать нас эти тени богов? Когда освободим мы природу от них? Когда может начаться сближение нас, людей, с чистой, вновь открытой, вновь освобожденной природой?!
Происхождение познания. – Интеллект в продолжение огромного промежутка времени ничего не производил, кроме заблуждений, из которых иные оказались полезными для человека и способствовали сохранению его рода: кто опирался на них или получил их по наследству, тому с большим счастьем удавалась его борьба за себя и за свое потомство. Такие заблуждения переходили из рода в род, наконец, сделались основными и родовыми человеческими признаками; таковы, например, следующие заблуждения: некоторые предметы существуют в продолжение длинного периода времени; есть вещи, похожие друг на друга; вообще, существуют предметы, вещества, тела; вещь такова, какой она нам кажется; наша воля свободна; то, что хорошо для меня, – хорошо и само по себе. Очень поздно впервые явились люди, отрицающие и сомневающиеся в этих положениях; очень поздно впервые выступила истина, как самая слабая форма познания. Казалось, что с ней нельзя жить, наш организм был устроен вразрез с ее требованиями; все его высшие функции, выводы рассудка и все виды ощущений действовали с этими исстари вкоренившимися основными заблуждениями. Более того: эти положения в области познания стали нормами, которые прилагались для оценки «истинного» и «ложного» – даже в самых отвлеченных областях чистой логики. Поэтому сила познания заключалась не в степени его приближения к истине, а в его почтенном возрасте, в его закоренелости, в его характере, как жизненном условии. Где жизнь и знание оказывались в противоречии, там никогда не происходило серьезной борьбы; там отрицание и сомнение считались безумием. Такие исключительные мыслители, как элеаты, которые тем не менее выдвигали и придерживались противоречий, вытекавших из естественных заблуждений, верили в возможность подобной противоположности. Мудреца они считали человеком, отличавшимся неизменными, безличными, универсальными взглядами: он должен быть единым и обнимать все, обладать особенной способностью к тому извращенному познанию: они верили, что их познание в то же время является принципом жизни. Но, чтобы иметь право утверждать все это, они должны были заблуждаться относительно того положения, которое они сами занимали: они вынуждены были выдумать какое-то безличное состояние, нечто длящееся, но лишенное способности к каким бы то ни было изменениям; им приходилось неправильно оценивать сущность познающего, ложно определять силу того стремления, которое сказывается в процессе познания, и считать вообще разум совершенно свободной, самовозникающей деятельностью. Когда правдивость и скептицизм достигли в своем развитии более тонких форм, то существование подобных людей стало невозможным; их жизнь и суждения являлись как бы независимыми от первоначальных стремлений и основных ошибок всякого ощущающего бытия. – Более тонкие формы правдивости и скептицизма возникали повсюду, где находили себе приложение два противоположных взгляда на жизнь, ибо оба они примирялись с основными ошибками всюду, где борьба протекала с большею или меньшею степенью пользы для жизни; где новые положения, не принося пользы жизни, не вредили ей; где они оказывались проявлением известной игривости нашего интеллекта и были такими же невинными и счастливыми, как и всякая игра. Человеческий мозг постепенно наполнялся такими суждениями и убеждениями; в этом клубке поднималась сумятица, борьба и возникала страсть к власти. Не только польза и удовольствие, но и всякого рода стремления принимали участие в борьбе за «истину»; интеллектуальная борьба становилась делом, призванием, долгом, достоинством: – познавать и стремиться к истине обращалось, наконец, в такую же потребность, как и другие потребности. Отсюда не только вера и убеждение, но и доказательство, отрицание, недоверие, противоречие становились силой; все «дурные» инстинкты были подчинены дознанию, поставлены в служебное отношение к нему и приобрели блеск дозволенного, почтенного, полезного и под конец вид и невинность блага. Познание стало неотъемлемой частью жизни и, как сама жизнь, постоянно возрастающей силой; но вот, наконец, познание и первичные, основные заблуждения столкнулись друг с другом; и та, и другая сторона были проявлением самой жизни, обе были силой и укрывались в одном и том же человеке. Мыслитель – вот теперь то существо, в котором стремление к истине и жизненные заблуждения дали свою первую битву, после того, как стремление к истине также доказало свою жизнеспособность. По сравнению с той важностью, которую представляет эта борьба, все остальное является безразличным: вопрос о жизни здесь ставится ребром, и делается впервые попытка ответить на этот вопрос путем опыта. Насколько истина может быть воплощена в жизни? – вот вопрос, вот на что должен ответить опыт.
Происхождение логичного мышления. Откуда появилась логика в человеческой мысли? Конечно, из явлений, лишенных логики, которые вначале безгранично царствовали. Но люди, приходившие к иным заключениям, чем те, которыми мы располагаем, погибали даже в том случае, когда истина была скорее на их стороне! Кто, напр., не умел достаточно часто подмечать «равенство» в различных родах пищи или среди враждебных ему животных, кто таким образом обобщал слишком медленно, был слишком осторожен в своих обобщениях, у того было меньше шансов выжить против других людей, которые при всяком сходстве заключали о равенстве предметов. Но непреодолимая склонность рассматривать сходное, как нечто равное, является склонностью нелогичною, – ибо в действительности равных предметов не существует, – но она ведь создала все основные положения логики. Так же дело обстоит и с понятием субстанции, которое так необходимо для логики, ибо нет ничего такого, что в действительности соответствовало бы этому понятию; люди, выработавшие это понятие, должны были в продолжение долгого времени не замечать, не находить перемен в предметах; и люди, не умевшие точно наблюдать в этом отношении окружавший их мир, имели преимущество перед теми, которым каждый предмет и каждое явление представляется «текучим». В сущности всюду, где мы встречаем высокую степень предусмотрительности в заключениях, склонность к скептицизму, жизни грозит большая опасность. Ни одно живое существо не могло бы поддержать своего существования, если бы не проявляло чрезвычайной силы: если бы люди не любили лучше поддакивать, чем высказывать свое мнение, лучше ошибаться и фантазировать, чем выжидать, лучше соглашаться, чем отрицать. Процесс логического мышления и заключения в нашем мозгу соответствует в настоящее время движению и борьбе известных стремлений, из которых каждое, будучи взятым в отдельности, само по себе, является нелогичным и несправедливым; мы узнаем обыкновенно только о результате этой борьбы: так быстро и так скрыто происходит в нас теперь работа этого древнего механизма.
Причина и действие. – Не «уменье объяснить», а «уменье изобразить» – вот что отделяет нас от более древних ступеней познания и науки. Мы изображаем лучше, но объясняем так же мало, как и раньше. Мы открыли многократную последовательность там, где наивный человек и исследователь более древних культур видел только двойственность, или, как говорят, «причину» и «действие»; мы усовершенствовали изображение существующего, но не поднялись выше этого изображения и не знаем, что кроется за ним. Ряд «причин» во всяком случае является перед нами гораздо полнее; мы делаем заключение: сначала должны быть такие-то явления, а за ними, хотя и иные, но определенные, но таким путем мы все-таки ничего не объясняем. Качественная сторона, например, всякого химического явления, и до и после представляется нам «чудом», точно так же и всякое движение; никто не «объяснил» толчка. Да и как мы могли бы объяснить? Мы оперируем с предметами, которых не существует, с линиями, плоскостями, телами, атомами, делимыми промежутками времени, делимыми частями пространства, – каким образом возможно здесь объяснение, если мы все наперед сводим к изображению, к нашему изображению?! Довольно того, если мы смотрим на науку, как на возможно точное уподобление себе вещей, мы научаемся все лучше изображать самих себя, изображая вещи и их взаимную последовательность. Причина и действие – это такая двойственность, которой, вероятно, не существует, в действительности перед нами continuum, часть которого мы изолируем; точно так мы всегда представляем себе движение с помощью изолированных точек, следовательно, мы собственно не видим, но только заключаем. Тот факт, что многие процессы возникают с чрезвычайной быстротой, вводит нас в заблуждение, но внезапность эта – только кажущееся для нас явление. В этот момент может совершаться бесчисленное количество событий, минующих нас. Интеллект, который будет видеть в причине и действии непрерывность (ein continuum), а не произвольно раздробленные, отдельные события, который поймет течение событий, – откажется от понятий причины и действия и отвергнет всякую причинность.
К учению о ядах. – Как много надо условий для того, чтобы возникла научная мысль: и все эти необходимые силы должны быть порознь открыты, развиты и воспитаны! Но пока они были изолированы, каждая из них производила очень часто совершенно иное действие, чем теперь, когда они в научном мышлении взаимно ограничивают и сдерживают друг друга: – они действовали, как отрава: таковы, например, потребность сомнения, потребность отрицания, потребность соединения, потребность разделения. Многие гекатомбы людей были принесены в жертву, пока люди научились понимать эти силы одну подле другой и чувствовать их вместе, как функции одной организующей силы в одном человеке! И как мало способны мы и теперь присоединить к научному мышлению еще и искусственные силы, и практическую мудрость жизни, чтобы образовать высшую органическую систему, при которой ученый, врач, художник и законодатель, какими мы знаем их теперь, показались бы нам жалкими остатками старины!
Объем морали. – Мы создаем новый образ, который мы видим с помощью всего нашего старого опыта, поскольку это позволяет наша искренность и правдивость. Даже в сфере чувственных восприятий мы имеем дело только с моральными пережитками.
Четыре заблуждения. – Человек воспитан своими заблуждениями: во-первых, он видел себя всегда только отчасти; во-вторых, приписывал себе несуществующие качества; в-третьих – чувствовал себя в ложном положении относительно животных и природы; в-четвертых, он всегда искал себе новых заповедей; таким образом то одно, то другое человеческое стремление и состояние ставилось на первом месте и облагораживалось под влиянием такой оценки. Исключите влияние этих четырех заблуждений, и тогда потеряют смысл и гуманность, человечность, и «человеческое достоинство».
Происхождение морали. – Где мы встречаемся с моралью, там находим расценку и распределение по рангам человеческих стремлений и поведения. Эти расценки и распределение и служат всегда выражением потребностей толпы и массы: что им полезно, то служит и высшим мерилом достоинства всех индивидуумов. С помощью морали личность превращается в функцию толпы и, как функция, оценивает свое значение. Так как условия сохранения одного общества отличны от условий другого, то существует и много различных моралей; ввиду того, что толпе и массе, государствам и обществам предстоит пережить существенные изменения, то можно предвидеть, что явится еще много новых систем морали.









































