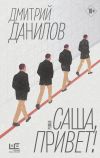Читать книгу "Выбор воды"

Автор книги: Гала Узрютова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Река Волга
Старый Белый Яр, Ульяновская область, СССР, мне лет двенадцать
Мы идём вокруг бассейна с большими запотевшими окнами, почти стенами. Бабка с внуком – впереди, я сзади. Огибаю бассейн круг за кругом, чтобы хоть немного побыть у воды.
За стеной слышу плеск. Слышу хлор. Шум Волги выходит через вентиляционные турбины бассейна.
Родители приезжают на машинах. Привозят детей. Увозят. В окнах гимнастического зала на втором этаже мелькают булавы, обручи и скакалки, которые бросают в воздух невидимые дети. Бабки и матери толпятся у двери, ожидая, когда появится ребёнок. Отцы сидят в машинах.
В бассейне плещется Волга, у которой выросли их предки, и предки их предков. Водили детей к реке купаться. Стирали в прорубях. Ловили рыбу и большую, и малую.
Велика была им река: другого берега не видать.
То, что в невод попадалось, делили на всех. Семьи были большие, детей по восемь.
Детей в бассейны не водили, водили к реке. А потом дети уже и сами ходили. Никто за ними не приходил, не встречал никто на берегу. Вечером возвращались с реки загорелые и уставшие. Вечером ели рыбу и ложились спать.
В один закат показался рядом ежевичный остров.
Видел ли его кто-то на берегу, кроме меня, – не знаю. На берегу уже никого не было, спросить не у кого.
На соседской деревянной лодке плыть туда минут десять, но надо грести. Смогу ли я грести, когда мне двенадцать лет? Я села в лодку и попробовала вёсла на вес. Тяжёлые, но поддающиеся. Придремав на берегу, лодка не хотела двигаться с места. Пришлось вылезти и дёрнуть её. Она проснулась и закачалась. Я оттолкнулась вёслами от песка и поплыла к острову.
Берег не становился меньше – только дальше и пустыннее. Я быстро. Соберу ежевику – и назад. Солнце ещё не садится.
Руки устали, в них не было силы. В них не было рыбацкой ловкости, было любопытство.
Остров розовел уже близко – то ли от поспевшей ежевики, то ли от заката.
До этого я ни разу не была на острове, только на материке. Не знала, как с островом обращаться. Ведут ли острова себя так же, как материки? Или по-другому? Что там – под островом? Река или песок? Или он вертикален, и там – под рекой – тоже усеян ежевикой? Или он медленно плывёт? Или мы все плывём вокруг острова, а он стоит на месте?
Я гребу от большой земли к малой. Судя по цвету острова, ежевики в этом году много. Я уже на середине пути, но вёсла падают из рук. Надо отдохнуть. Перестать грести и окунуть руки в Волгу. Здесь она холоднее, чем у берега. Здесь она уже принадлежит острову, а не материку.
Отсюда и́збы на берегу выглядят маленькими речными ягодами. Они сполянились у соснового леса и смотрят на реку сверху. Вечерний свет настоялся на волжской воде и красит песчаный яр красным.
Нужно грести дальше: солнце уже опускается.
В острове нет ничего страшного. Такая же земля, только маленькая. И ежевики там больше, чем в нашем лесу. Бабушка рассказывала, что она там крупная и сладкая. Что они собирали её в подол, ссыпали в вёдра и отвозили на другой берег продавать. А потом острова́ затопили, и ежевика вместе с домами ушла под воду. Она всегда говорила, что хотела бы вернуться на остров и ещё раз попробовать эту ежевику.
Повезло, что остров вдруг появился передо мной, ведь с тех пор его никто не видел. Будет сюрприз для бабушки – привезу ей ягоды. Ведра нет, но я в подол наберу. Ещё немного – и высажусь на остров, как мореплаватель. Или как моя бабушка много лет назад.
Я доплыла до острова и вылезла из лодки. Прижать её к берегу оказалось тяжелее, чем столкнуть в воду. Получилось только с третьей попытки. Отсюда казалось, что та земля вдалеке – и есть остров, а я стою на материке. На верхушке гигантского ежевичного столба, уходящего под воду. Скорее за ягодой, пока она не растворилась в реке.
Ежевика тут и правда была крупной и сладкой. И справа, и слева, и впереди. Большие розовые и чёрные шишки. Не зная, с какой начать, я сорвала первые попавшиеся несколько ягод и положила в рот. Сочные, они таяли, не помещались во рту и вытекали. Текли по локтям. Текли на платье. Попали на новые сандалии. Я подбежала к воде, чтобы отмыть их, но ничего не вышло. Тогда я бросила сандалии в лодку и босиком вернулась к кустам.
Вглубь острова, следуя за ягодой. Внутри солнца было уже не так много, но ежевика розовела изнутри, накопив дневной свет. Мне нравилось, как ягоды разрывались во рту, и сок выплёскивался, окрашивая язык.
Когда я наелась, стало темнеть. Надо двигаться на свет. Карманы заполнены, осталось набрать подол, и можно возвращаться. Я соорудила из подола большой карман, чтобы ежевика не выпадала. Кажется, на лодке я видела пакет, можно будет переложить ежевику туда.
Но лодки на месте не было.
Сначала я подумала, что перепутала место, – но заметила лодку между островом и материком. Унесло течением.
Ягоды выпали из подола, покрыв берег тёмными волдырями. Я собирала ежевику и ела, выплёвывая речной песок.
Переправляя невидимого пассажира, лодка не волновалась о том, как я вернусь в деревню, и подчинялась медленным речным волнам.
Мой крик с острова вряд ли дошёл бы до берега, да и кто бы его услышал.
Скоро ночь; бабушка, наверное, с ума сходит. Если только пораньше не легла спать – и тогда до утра меня никто не хватится.
Я ела ягоды и смотрела, как лодка бьётся о берег напротив. Красные от ягоды руки в темноте казались чёрными.
Я натянула подол платья, измазанный ежевикой, на ноги. Сандалии остались в лодке, и ступни согреть нечем. Но если так сидеть – совсем замёрзну. Я ринулась ходить по берегу, растаптывая рассыпавшуюся ежевику в красный песок.
Неужели никто даже не заметил, что я не вернулась с реки? Никто не будет меня искать?
Я уже ненавидела эту ежевику – за то, что она позвала на остров.
Через час совсем счернело, ноги заледенели. Берега не видно, светятся только несколько окон в избах на яру. Поднимается ветер, и Волга говорит громче. Волны кружат вокруг острова, размывая его края. Пахнет свежей водой, пахнет стихией.
Надо согреться. Я двинулась вправо, но что-то зашумело в деревьях, и оттуда взлетела большая птица. Дед рассказывал, что здесь водятся солнечные орлы. Ни разу его не видела, но сразу поняла: это он.
Орёл сел неподалёку и клевал выпавшую из подола ежевику. Никуда не торопился. Двигаясь от ягоды к ягоде, орёл знал, что только он острову хозяин. Это я влезла сюда без спроса.
На яру погасли почти все окна, кроме одного. Квадратная луна, застывшая на месте.
К темноте быстро привыкаешь. Я смогла разглядеть орла, который, наевшись ягод, сидел на месте и смотрел на меня. Дед рассказывал, что такие орлы могут хватать добычу когтями и долго с ней лететь. Говорят, однажды местные видели, как он утащил зайца. Думаю, для него я слишком тяжёлая, хотя он подходит ближе. Зажмуриться и не шевелиться. Бросило в жар. Я слышала, как орёл ходит вокруг. Через несколько минут всё затихло. Орёл сидел совсем близко и смотрел мне в глаза.
На берегу показались огни. Спустились с яра и направились в сторону острова. Я орала и махала руками в темноте. Дед кричал с лодки, но его не расслышать. Стоять на месте я не могла – и прыгала, как лягушка с красными ягодными лапами.
Бабушка спохватилась, что я пропала, и они с местными пришли искать меня. Когда орёл сел на лодку, болтавшуюся у берега, дел увидел в ней мои сандалии.
Как только мы вернулись на материк, я отдала бабушке ягоды, и она заплакала. В карманах потекла ежевика. Над головой зашуршало – орёл поднимался всё выше, пока не исчез в соснах на яру.
Последняя бабка ведёт внучку домой из бассейна. Делаю финальный круг вокруг здания; пальцы уже не двигаются от холода.
Когда к снегу прибавляется дождь, мальчишки, играющие в футбол на соседнем стадионе, рассыпаются, как колония муравьёв, чьё гнездо посыпают лимонной кислотой. Трое остаются на поле, спасают мячи – разноцветные муравьиные яйца.
В запотевших окнах второго этажа спорткомплекса мелькнул обруч, и больше ничего. Под потолком на лампе повисла розовая скакалка, которую кто-то, закинув повыше, так и не дождался. Из двери выбежала чья-то дочь с обручем, и сторож закрыл за ней дверь. Она шла вокруг бассейна и крутила обруч на правой руке.
Волга пахнет хлором. И немного – ежевикой.
Озеро Бохинь
Словения, сентябрь 2018
Бохинь – гигантский прозрачный глаз неведомого животного. В какую сторону ни пойдёшь, он смотрит на тебя. Нет желания от него ускользнуть, и я беру роль наблюдателя на себя. Теперь я животное, которое смотрит на озеро, животное, которое пришло на водопой.
мне этот тон не нравится, Эверетт
не говоришь, откуда знаешь меня
кто ты
может, никакой не Эверетт?
а, например, женщина по имени Анна?
Не знаю, о каких женщинах ты говоришь, Кира;
я знаю только одну.
Впрочем, ты тоже её знаешь.
Другие женщины всегда доносились до меня издалека.
То будили колокольным звоном,
отчего я вздрагивал.
То верно шинковали слова,
как старый кухонный нож моей матери.
Но ту женщину —
не слышно.
Я слышал её только однажды,
ещё в школе,
когда пришёл на стадион на физкультуру
и полчаса бродил по беговым дорожкам один.
Урок отменили, а мне никто не сообщил.
В ту рань солнце бегало по кругу,
я смотрел,
как легко оно побеждает всё остальное.
Лёг на траву – и, когда задремал,
услышал, как она легла рядом и ничего не сказала,
как неохотно говорит и теперь.
Я боялся дотронуться до этого молчания —
и удивлялся,
что её шаги могут быть такими тихими.
Тогда и всякий раз,
когда наступало это молчание,
я не слышал её,
но знал: она идёт рядом.
ты меня разыгрываешь?
это кто-то из моих знакомых прикалывается, да?
Глажу твой камень,
он становится тёплым.
Положил в правый карман.
Не хочу быть камнем. Особенно тем, который кладёт в правый карман этот непонятный Эверетт. Жду, когда за мной хоть кто-то появится, но – никого. Эверетт, должно быть, стоит на месте, если так долго не может меня догнать.
Ещё утром я была в Любляне – и представить не могла, что сегодня окажусь здесь. Теперь же двигаюсь по берегу Бохиня, делая вид, что умею ходить вокруг озера.
На озере пахнет не так, как у Волги. Вокруг – горы, и запах воды тут задерживается. Его можно скульптурировать.
Щедрость света – удивляет. Я не вижу, отражаюсь ли в озере, но чувствую, как вода плещется на моём лице в свете солнца. Мы проникаем друг в друга, но не влияем друг на друга. Наблюдение прекращается только тогда, когда закрываешь глаза.
Я не знаю человека, который подошёл ко мне. Он высок, как высок его отец или брат. Как высок его сосед и сын. Как высока его жена или гора.
Никогда не замечала, что у всех людей одинаковые лица. В мире слишком много зеркал.
Спросила, как его зовут. Драган. Но и отец Драгана был Драган, и брата его звать Драган, как и мать его. Как всех в его селе, всех в его городе, на его планете.
Он никогда не видел людей с другими лицами. Не называл другими именами. Они все живут, как жили их прадеды. Они знают, где добыть воды, по каким тропам лучше не ходить, и кто принесёт почту завтра.
Почтальона тоже зовут Драган, и он приедет на жёлтом велосипеде. Передаст письмо от Драгана из Ново Место, который пишет, как много яблок уродилось в этом году в его саду, яблок в этом году – уйма. Как он называет парикмахера в салоне у фермерского рынка? Драган. Она стрижёт его так же, как стрижёт Драгана из школы. Как стрижёт Драгана из табачной лавки.
Драган наклоняется надо мной – и я вижу его щетину. Светлую, как щетина его сына. Светлую, как щетина его прадеда.
В глазах Драгана нет ничего чужого. Он смотрит прямо и не сворачивает.
От Драгана пахнет сентябрьским по́том, но не таким слышным, как летом.
Озеро не наблюдает за Драганом, оно его – живёт. Спиной Драган чувствует прохладу воды, но не оборачивается, зная, что наблюдать за ней не нужно. Вода на своём месте, а ты – на своём.
– Что ты делаешь у этого озера, Драган?
Спросил он меня.
Решив убедиться, что я – не Драган, я побежала к озеру.
Примчалась к Бохиню, посмотрела в воду.
Драган.
Никогда не видела никого драганее себя.
Река Шпре
Берлин, Германия, за два месяца до озера Бохинь
Мы с Густавсом прилетели в аэропорт Шенефельд утром. Головной офис часто посылает нас на срочные задания вместе. Кто ещё может сорваться по первому звонку? У всех дети, семьи…
Густавс хотел жрать, но не меньше – сэкономить: выйдя из терминала, он искал кафе дешевле, чем в аэропорту, и выбирал закусочную, как квартиру. Но Германия – страна, в которой ответа не найти. Здесь появляется ещё больше вопросов.
Я предложила Густавсу приземлиться наконец в ресторане с верандой недалеко от выхода из аэропорта.
– Не ем в омни-забегаловках. Сосисками несёт, – сморщился Густавс.
– Там наверняка есть и вегетарианское меню.
– Вся одежда пропахнет. У меня новый пиджак. В апартах пообедаем. А ты чего в Вашерес не поехала? Давали двойной гонорар за срочность.
– Там нет большой воды.
– Огромное озеро Бурже недалеко.
– Времени бы не осталось туда доехать.
– С двойным гонораром я и на суше себя неплохо чувствую. Кстати, что там на контроле? Опять долго смотрели твой рюкзак. Поэтому ты любишь ездить в поездах?
– Надо было видеть их лица.
– Почему тебя всегда так долго досматривают?
– Морда у меня такая.
– Ещё какая-то вонища, кроме сосисок. Чувствуешь?
– Нет, – узнаю́ я запах из моего рюкзака.
– Дерьмо какое-то готовят…
Водитель на кремовом «Мерседесе» повёз нас в апартаменты на Schönhauser Allee. Усатый аккуратный седой мужчина лет пятнадцать назад приехал из Казахстана и обрадовался возможности поговорить по-русски.
В городе, который почти в девять раз больше Парижа, нет столичности. В июне Берлин – просторная опустевшая дача. До того расслабляешься, что максимум, на чём можешь сосредоточить внимание, – прозрачный наружный лифт в доме напротив, поднимающий высокого мужчину.
Есть города для созерцания, а не для жизни. Такие города нужно выставлять в музеях – а в них возьми и поселись люди, понатыкав мусорные баки, прачечные, парикмахерские и газетные киоски…
Берлин же с его широкими проспектами, шпети и дешёвым стрит-фудом – создан для жизни.
И если одни говорят, что Германии в Берлине не осталось, разве что в Целендорфе с его почти загородным спокойствием или Шарлоттенбурге с платановым бульваром Кудамм, то Густавс считает: Берлин с его грязными Кройцбергом, Веддингом и Нойкёльном, бычками, зассанными переулками, безумными вечеринками в Котти – и есть Германия. Впрочем, и в Пренцлауэре можно наступить на присохшее собачье дерьмо.
Берлин – гибкий город, который растягивается, как время, вмещая и социальные альтбау[22]22
Альтбау (от нем. Altbau – «старые здания») – жилые дома, построенные до Второй мировой.
[Закрыть] в Моабите, и роскошный дуплекс[23]23
Дуплекс (с англ. – «двойной») – дом на две семьи, разделённый пополам.
[Закрыть] с садом в Митте.
Берлин ненавязчив, сюда хочется возвращаться. Его всегда немного не хватает, даже если прожил здесь долго.
Берлин функционален, как ответы психотерапевта: скажешь одно – он понимающе качает головой, скажешь совершенно противоположное – он снова кивает. Кто-то рядом, но этот кто-то не давит, а показывает: один и тот же путь можно пройти разными дорогами. Только на той, куда ты хотела свернуть, – солнце и жарко, со знанием дела говорит Берлин, переходи на соседнюю – там тень. Если повернёшь направо – дойдёшь в два раза быстрее.
Поворачиваешь направо – и дорогу уже спрашивают у тебя. Трамвай тройным прямоугольным желтком стекает за угол.
Вечером мы с Густавсом должны брать интервью у берлинского художника Ламмерта Котлеты.
– Удивлён, что Ламмерт согласился дать интервью. Он всем отказывает, – Густавс приготовил пасту и принёс её на мой балкон.
– Ему уже за полтинник. Теряет популярность и хочет напомнить о себе. Или просто увидел мои фото в сети. Ни одной юбки не пропускает.
– Думаю, шеф отправил именно нас, потому что мы тоже вегетарианцы. Как тебе паста? Купил в биомаркте. Нашёл на Berlin Vegan. Добавил базилика. Знаешь, я столько лет слежу за Ламмертом – и даже представить не мог, что когда-нибудь вот так смогу с ним поболтать. Думал, он нам термин[24]24
der Termin (нем.) – встреча, приём в назначенное время.
[Закрыть] назначит – и будем три года ждать.
Отдав мне тарелку, Густавс ринулся с балкона в комнату и вернулся через минуту.
– На твоём телевизоре горела красная лампочка.
– Ты опять?
– Кира, сколько раз говорил: вселяешься в отель – выключай всё из розеток. Могут быть камеры, жучки.
– У тебя паранойя!
– Так чем тебе Ламмерт не угодил?
– Его выходки могут только детей впечатлить. Весь этот эпатаж…
– При чём тут эпатаж? Главное – он изменился. Ещё три года назад делал инсталляции из мяса, а теперь – вегетарианец. Надо иметь силу воли, чтобы на такое пойти. Это пример для тех, кто хочет отказаться от мяса, но думает, что у него не получится. Я не пересолил?
– Нет. Обвешал мясом поезд метро, ужас. Представляю, что было с детьми в том вагоне. Он всего лишь хайпит на вегетарианской теме.
– Но сейчас же он мясо не ест. Его видео на YouTube сразу набирают миллионы просмотров.
– Дерьмище.
– Ты не понимаешь: людям нужен чей-то пример, чтобы измениться. Люди привыкли идти за кем-то. Им нужен вождь!
…Мы опоздали на полчаса. Ламмерт ждал нас за деревянным столом у своего двухэтажного дома в Груневальде. Он вполне вписывался в этот район, полный роскошных спящих махин, напоминавших наполовину заполненные замки. Или наполовину пустые. С тех пор, как я видела его фото в каком-то журнале, мало что изменилось. Те же длинные седые волосы, тот же цветной балахон, то же уставшее лицо. Разве что килограммов семь прибавил. Встав, Ламмерт пожал нам руки.
– Берлин-Бранденбург быстрее достроят, чем вы приедете! Добро пожаловать в город левых!
Пожилая турчанка вынесла кофе и воду.
– Кофе в такую жару? Принеси шорле[25]25
Прохладительный напиток из вина с минеральной водой либо вина с лимонадом, обычно в соотношении 1:1.
[Закрыть]! Там всё в порядке?
– Да, я слежу.
– Не выпускай её.
Пока Густавс устанавливал камеру, Ламмерт водил меня по саду. За домом – большая площадка с навесом, где он занимается йогой. Чем же ещё должен заниматься вегетарианец, как не йогой? Позвав меня к большому мольберту, Ламмерт стал рассказывать о новой картине. Её он собирался подарить какой-то веганской организации в качестве благотворительного жеста. Убедившись, что я восхищаюсь его мазнёй, он повёл меня в маленький дом на заднем дворе. Внутри пахло гнилью. Ламмерт включил свет, и я уткнулась лицом прямо в тело ягнёнка без шкуры.
– Сам сделал, – сказал Ламмерт и взял меня за руку. – Не бойся, не из мяса. Там несколько материалов. Раскрасил их под мясо. Чтобы не забывать. Чтобы не возвращаться к тому, что было. Фигура называется «Память». Не хочу забывать, как жесток я был.
Я выбежала в сад, а Ламмерт проторчал внутри ещё минут пять. Мы отправились к Густавсу, крутившемуся вокруг камеры.
– Забавный хрен, – улыбнулся Ламмерт. – А насчёт того ягнёнка – не бери в голову.
– Где здесь туалет?
– На первом этаже. Пардон, если стульчак забыл поднять. Но ты вроде не из пугливых.
Если снаружи дом Ламмерта выглядел роскошно, то внутри напоминал пространство для ретрита, где при входе отбирают мобильные телефоны. Туалет походил на большую спальню. Распахнутое окно успокаивало. В каждом туалете должно быть гигантское окно. На стене – портрет голого Ламмерта в полный рост. В золотистой раме обнажённый Ламмерт выглядел лет на двадцать моложе, чем сейчас. Таким взглядом прогулявший занятия школьник смотрит на мать.
Из дома я вышла через вторую дверь, которая вела в боковую часть сада. В тени лип стоял старый гриль с остатками жареного мяса, прилипшего к решётке. Запах был ещё свежим. Я не выдержала и оторвала мясо от решётки. Говядина. Вкусная жареная говядина, которую я так давно не ела. Жевала и не могла остановиться. Никакой тошноты. Закрыв глаза, я жевала её всё медленнее, чтобы вкус не исчез. Никогда не исчез. Я смогу есть мясо, и меня не будет тошнить? Я опьянела от вкуса и оторвала ещё один засохший кусок. Оно никогда не должно кончаться. Этот вкус должен быть вечным.
Я старалась жевать медленнее, но тошнота вернулась. Она захватила меня, и я спряталась в кустах, чтобы никто не увидел, если буду блевать. Глубокие вдохи помогли прийти в себя, тошнота ушла, но кружилась голова.
Густавс позвал на запись. Я вытерла рот, достала жвачку и вернулась к дому. Всё было готово. В вечернем свете даже обрюзгший Ламмерт выглядел сносно. Не так красиво, как его портрет голышом в ванной, но всё же.
Густавс включил камеру – и Ламмерт сразу заулыбался.
– Готов к допросу. Давайте только живее! Вы – молодые – какие-то вялые. Энергии – ноль, сплошные комплексы.
Густавс споткнулся и повалил микрофон.
– Да бросьте, ребята, я такой же, как все. Не все, конечно, могут встать в пять утра, чтобы подоить миндаль или кокос, но если постараться – ничего сложного. Не те герои у вашего поколения. Вы не приспособлены к жизни, абсолютно. Мы были другими.
– Вы настоящий герой! Для меня, по крайней мере.
– А вот ваша коллега, видимо, так не считает. Правда, Кира?
– Нет. Почему же. Я просто хочу понять, как это стало возможным так быстро. Что произошло? На ваших акциях вы всегда говорили, что есть мясо – это естественно. Что вас так изменило?
– «Я решил стать вегетарианцем, мама. Да ты и раньше был козлом!» Хороший заход, детка. Смотри, дело в том, что мои родители были вегетарианцами. Потом вообще стали веганами. Запретили мне мясо жрать. И пока другие бесили родителей куревом и бухлом – я жрал мясо. Им было стыдно за меня, они и других родаков в свою веганскую секту заманили. Тётка как-то надо мной сжалилась, нормальная баба. Принесла мне курицу. Так они Варфоломеевскую ночь нам устроили! Я ещё больше захотел мяса. Ушёл из дома, мимо дёнера не мог спокойно пройти. Вот и всё, ребят, по большому счёту.
– Но на той акции в метро вы назвали вегетарианцев идиотами.
– Кира!
– Не кипятись, Густавс. Я понимаю, ваша коллега делает шоу, ей нужен трафик. Говно-вопрос, ребят, давайте замутим шоу. Готов к любым вопросам. Смотри: да, я признаю́, что говорил такое, – но теперь понимаю, что от избытка херни, которым накачивают мясо, у меня ехала крыша.
– Мне нравится ваша честность, Ламмерт. А теперь вам совсем не хочется мяса?
– Нет.
– Но ведь нет ничего страшного в том, чтобы съесть немного мяса. Один кусок. Один жареный кусок. Разве нет?
– Совсем не хочется, – Ламмерт выпил стакан воды залпом. – Все знают: если я прихожу в гости, мяса там быть не должно.
– Но ведь иногда можно себя побаловать?
Ламмерт встал и опёрся руками на спинку моего стула.
– Никогда, – сказал он.
– Наш Густавс следит за каждым вашим шагом. Вы для него – вегетарианский идеал. Его мир бы рухнул, если бы он узнал, что на каком-нибудь барбекю вы съели кусок мяса. Люди вам в рот смотрят, Ламмерт. Это большая ответственность. Как вы с этим справляетесь?
Ламмерт попросил принести виски.
– Это нелегко, Кира, поверь. Отказался – и всё. Я часто вспоминаю тот ужас. Это моя духовная практика, если хотите, ребят. Никому её не рекомендую – полная жопа. Но мне это помогает, – он проглотил треть бокала виски. – Говорят, Берлин – чуть ли не веганская столица мира. Скажи это моим соседям, которые устраивают гриль-вечеринки, детка! Одна тут любит звать гостей. Dumme Kuh[26]26
Тупая корова! (нем.)
[Закрыть]! И весь мой сад потом воняет мясом. Это невыносимо. Мясной сад. Он окружает тебя. Scheisse[27]27
Дерьмо. (нем.)
[Закрыть]! Валю из дома в такие моменты. Приходится ночевать в отеле, чтобы не нюхать всё это. Но в Берлине стало сложно с приличными местами. Я всем говорю, джентрификация – наше спасение, естественный отбор. Нечего всяким бэкпэкерам шариться в приличных районах.
– Чуть-чуть нетолерантно звучит.
– Детка, толерантность – это неестественно, это против природы. Человек живёт инстинктами. Он рождается с нетерпимостью к тому, что ему не нравится. Это нужно для выживания. Если бы наши предки были толерантны, то их бы давно уже захватили те, кого бы они терпели. Нам впихивают эту дурь, чтобы нас можно было легко захватить. Взять и скрутить башку. Scheisse! Сначала они насаждают то, что нам не нравится. А потом объявляют тех, кому это не нравится, нетолерантными. Поняла, как это работает?
– Бэкпекеры вам угрожают? Вы же сами когда-то обитали в сквоте на Рижской улице.
– Я когда-то и жопу пальцем вытирал – а теперь у меня есть биде. А вообще, ребята, вы такие серьёзные, ваше поколение… Племя толерантных. Я не загоняюсь и не смотрю, готовили ли мой вегетарианский сандвич на том же гриле, что и мясной. Это их дело, это моё. Главное, чтобы веганеза больше положили.
Пока Густавс складывал камеру и микрофоны, Ламмерт взял меня за руку, притянул к себе и прокряхтел на ухо:
– Ты хорошая девка. От тебя пахнет мясом. Зачем тебе этот телок?
Ламмерт засунул в карман моих брюк свою визитку.
Откуда он знает, что я ела мясо?
– Мама, иди в дом! Я же просил. У меня гости, – сказал Ламмерт женщине в пижаме, появившейся в саду.
Несколько секунд она смотрела на нас, потом запахнула мятую застиранную пижаму и вернулась в дом.
Густавс позвал в биргартен «Prater», где собирался напиться берлинского нефильтрованного, но я не хотела весь вечер слушать его стоны о Ламмерте. Он ушёл один.
В шуме Schönhauser Allee заранее различаешь идущий издалека ритм городской электрички. Его не спутаешь с напором трамваев – жёлтых шмелей, выныривающих на перекрёстках. Со столбов сползали оранжевые урны, забитые граффити. Ждать – привычка пустых стульев у баров на Пренцлауэр-Берг. В темноте велосипедистов на боковых дорожках не замечаешь, если только они не едут с фонарем и детским прицепом.
Берлин распирало от лета, оно не помещалось в городе. Лето для меня всегда было неким общественным договором, в котором я не участвовала. Слишком хлопотные условия – то отключение горячей воды, то чьи-то отпуска, то поиск подходящей летней обуви, то неминуемая маета между обедом и вечером, но самое невыносимое – это выдвигающийся из полуденной немоты кипячёный воздух. Будто всё лето стоишь у печи и каждый день вынимаешь из её пасти сотни пирогов. Если бы лето было человеком, у него бы тестом свисал живот, над ухом постоянно бы кто-то жужжал, а изо рта пахло бы заваренным по второму разу чаем. Если и дозвонишься до такого человека, то лишь с пятого раза, и то – не по второму, а по третьему номеру, который узна́ешь у того, кто не уехал, а так и сидит в офисе, потому что там есть кондиционер, а дома – нет. Приходишь в себя только вечером, когда жара спадает. Жара – никогда не температура, а состояние мира, точнее – мирового духа. Скукожившегося, тёплого и молчащего. Ни одного звука громче уставших кондиционеров. Ни одного движения резче прохладного ветра, возможного не раньше десяти вечера. Ни одного аромата слышнее духоты запёкшейся пыли и протёртого асфальта. В жару тело распирает от чувства вины перед летом. Как будто прогуливаешь единственно важный урок. Лучше бы в школе нас учили тому, как жить летом, а не математике.
Берлин строится и перестраивается заново, набрасывая строительные леса и расставляя краны. Урны и тумбы тут же покрываются граффити и наклейками. Город сразу метит всё новое, чтобы сделать его своим. Здесь молодость обрушивается на тебя повсюду. Если бы не все эти потрёпанные велосипеды, гигантские муралы, граффити и теги, можно было бы подумать, что каждое утро Берлин просыпается новым. Сведи все эти татуировки города, как того требуют ноффити[28]28
Noffiti – активисты, выступающие против вандалистских граффити в Берлине.
[Закрыть], – и Берлин сразу состарится.
У Коннопке-имбиса под эстакадой три человека ждут очереди, чтобы вцепиться в горячую карривурст. Одни улицы Берлина пропахли кебабом и шавармой, другие – поменяли дёнеры на спаржу, авокадо, вегетарианский дюрюм и тофу.
Заказав пиццу со спаржей, я зашла в шпети за водой. Из-за огромных коробок дальше входа не пройти.
– Тренажёры спортивные доставили, а хозяйки дома нет. Попросила подержать здесь, пока с работы не придёт, – сказал хозяин шпети. – Каждый вечер к нам за пивом спускалась, а теперь – тренажёры купила.
В Мауэрпарке с полусухой вытоптанной травой грязно и многолюдно. Люди отдыхали на траве, среди мусора, – с собаками, едой, гитарами. В парке ещё осталось несколько сотен метров Берлинской стены. Вечный позвоночник, пронизывающий город, исчез за граффити.
– Покатаешь меня? – спросил мужчина в шляпе, сев на высокие качели.
Я толкала его снова и снова – а он, взлетая, радовался как ребёнок, нашедший пятьдесят евро. Сорокалетние морщины Ральфа не подходили глазам – им больше пятнадцати не дашь. Строгие брюки были ему велики и косо смотрели на выцветшую майку с еле угадываемым силуэтом Микки Мауса. Качели поднимались всё выше, и шляпа Ральфа слетела. Он спрыгнул, отряхнул шляпу и надел её на меня.
– Садись!
Полностью приняв полёт, я наслаждалась незнакомым движением. Лёгким и просторным. Было неважно, слетит шляпа или нет, закружится голова или нет, стемнеет или рассветёт, – лишь бы качели не останавливались.
Поздоровавшись со старухой, собиравшей бутылки, Ральф достал из кустов большую сумку. В неё он сложил валявшееся в кустах оборудование.
– Твоя гитара?
– Пою здесь иногда. Правда, местные против. Мой усилок им мешает. Сегодня стоял вон там, в другой части парка; подошла женщина, облила меня водой. Шумно, говорят. Хотя по сравнению с караоке, которое здесь вопит, – я сама тишина.
– О чём поёшь? Каверы или свои песни?
– Мои. О тёмном ландшафте. В юности я не думал, что мир так жесток. То есть я подозревал, конечно, но избегал этой мысли. Потом, когда очнулся, лет под сорок, это инфицировало весь мой мир. Мне стало страшно в Берлине. Особенно вечерами. Многие уезжают отсюда, им не нравится, что Берлин превратился в сплошной Котти. Говорят, Берлин пора переименовать в Кройцберг. Хотя по мне, он всегда таким и был, но я был другим. Любил темноту. Тебе не страшно жить?
– Страшно.
– И что ты делаешь? Когда понимаешь, что деньги и прочее не помогают от хаоса.
– На качелях катаюсь.
– Значит, у тебя ещё есть этот защитный инстинкт, который даёт утешение. Я его потерял.
– Пытаюсь как-то двигаться.
– Сегодня истерия передвижений.
– Иначе с ума можно сойти.
– Или петь песни. Слушай, у меня в тех кустах ещё чемодан. Поможешь отнести? Тут недалеко. Друг в кнайпе работает, полежит пока у него. Софи и её подруги выгнали меня из WG[29]29
WG (от нем. Wohngemeinschaft) – квартира для совместного проживания нескольких жильцов, делящих арендную плату.
[Закрыть].
– Жена?
– Подруга. Боюсь, что уйдёт. Я уже не могу. Стал спать с другими, чтобы быть готовым к тому, что она уйдёт. Каждый раз выбираю всё лучше и лучше. И чем лучше выбираю, тем сильнее чувствую, что уйдёт. Наверное, у неё кто-то есть. Пять раз уже ей изменил. Я не знаю. Не могу остановиться. Это как… как… стоишь посреди реки на торчащем из неё столбе, а вокруг вода. Расставляешь вокруг ещё несколько столбов, которые ведут к берегу. Боишься, что столб, на котором стоишь, уйдёт под воду. И ты вместе с ним. И расставляешь – другие столбы, и скользишь – от одного к другому.
– Плавать не умеешь?
– Думаешь, в Берлине так легко кого-то найти? Здесь больше половины квартир – квартиры на одного.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!