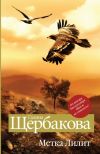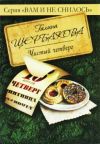Текст книги "Отвращение"
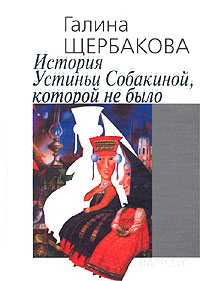
Автор книги: Галина Щербакова
Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Сейчас она закричала приблизительно так, как когда ей выдирали ресницы. Услышав крик, старуха тут же закрыла глаза, а руки сложила горбиком, как в гробу.
На крик примчалась соседка. Тоже взвизгнула и тоже не признала бабку. Стали думать, что с ней делать. Но время было уже наше, когда ни тебе милиции, ни больницы, ни какого никакого начальства вокруг и близко нету. Хлеб завозили раз в три дня, а телефон был на железнодорожной платформе. Это четыре километра в одну сторону буераком. Соседка спровадила сына съездить на мопеде, чтоб позвонить хоть куда… Хоть в милицию, хоть в «скорую». Парень согласился сразу, потому как на платформе был ларек с куревом, жвачкой и «колой», а в кармане у него оставалась одна погнутая сигарета, скраденная им у почтальона, который приезжал вчера и теперь объявится через пять дней, если не развезет дорогу.
Всю ночь старуха провела с Розкой, а вечером следующего дня на машине «скорой помощи» приехал участковый вместе с медсестрой. Они раздели старуху догола, не обнаружив ни побоев, ни подрезаний, ни уколов, старушка была чистенькая и даже пахла хорошим хозяйственным мылом, при ней не было никаких документов, и что было с ней делать, прибывшая власть и медицинская помощь не знали. Медсестра, послушав сердце, сказала, что оно замирает через стук, вопросы старуха не слышит, как закрыла глаза, так и лежит. При осмотре она обмочилась, что для сестры было сильным аргументом: дело к смерти, ну, может, день, ну, может, два. В больницу она ее не повезет, у них там протекла крыша, так что всех собрали до кучи, и мужиков, и баб, в залу, у козы бабке было хотя бы сухо. Пусть помрет здесь, а не в зале конференций. Козы, они чище. Милиционер же в свою очередь сказал, что для забора в милицию оснований вообще минус один. Она не криминальный элемент, ничего не своровала, хлев не подожгла, просто шла, шла и пришла туда, где ей пора умереть .
– А что мне с ней делать? – спросила Феня.
Вот тут снова выступил сын соседки, у которого был мопед. Он успел побыть один год пионером, поэтому имел понятие о Тимуре и его команде.
– Я вырою ей могилу, – сказал он. – На кладбище расчистили место для новеньких. Мы с ребятами это сделаем за три рубля или пять, если грунт будет трудный.
И всех как ветром сдуло. Феня осталась с козой и старухой. Сам еще не пришел – он работает по двое суток, и она боялась, что он возьмет старуху за ноги и выкинет ее на дорогу. Мужской ум он такой, он раз – и сделал. Фене же было жалко старушку, она подложила ей старенькое одеяло на обмоченное место, прикрыла пальтецом, в котором ходила еще в школу, от доброты, что росла в ней, сходила в кухню и принесла чашку молока, которое покупала у соседки. Своя-то коза, как мы знаем, пока была без толку. Странное дело, но бабка сама шустро приподняла головенку и до донышка выпила молоко, а потом погладила Феню по щеке.
Так они и остались жить-поживать – стельная коза и немая старуха.
Что касается Пети, Фениного мужа, то он не то, чтоб за ноги на дорогу кого выкинуть, он мух выпускал в форточку, потому что жизнь считал божественной сутью: раз живет, пищит, шевелится – значит, твое дело не наступить, не подранить, потому как все живое – святое. Конечно, он был слегка придурковатый по нынешнему времени. Те картины ужасов – выбрасывание на дорогу, которые рисовала в голове Феня, были, так сказать, ее мечтой. Ей хотелось сильного мужика, как милиционер, чтоб смог враз стянуть со старухи одежонку и повернуть ее задницей кверху. Да Петя бы умер от такого зрелища, а Фене как раз нравилось. Она видела в кино, как стягивают с женщин трусики сильные дядьки, раз – и нету, а у нее ничего никогда подобного не было, сама снимала – иначе бы Петя не тронул. Он, вернувшись с работы, нашел для старухи старый кожух и подушку в цветочек.
– Пусть живет, пока живет, – сказал он.
– Скажите, пожалуйста, – возмутилась Феня.
– Может, она мысль думает, – был тверд и решителен Петя. – А ее спугивать нельзя. Это, Феня, сложная механика. Думка в голове. Она ж, зараза, как пряжа, нельзя ее бросать посередине, распрямится, и что? Пусть думает мысль, не торопясь, может, она у нее важная.
– Ой! Ой! – сказала Феня. – Про что такое ей думать? Это нам думать, чем кормить и за что хоронить?
– Знать тайное не дано, – сказал строго Петя. – Может, от ее мысли жизнь сменится.
А тут возьми и звезда полети по небу, яркая такая, долго летела, пока не рассыпалась.
– Может, и сменится, – тихо сказала Феня. И так ей захотелось селедки с толстой спинкой. В ее детстве продавали из банок, по одной на семью. И она тогда радовалась, что родители селедку любили не очень. Ах, какая была селедочка! Во рту просто зашлось от желания. И Феня даже губку прикусила.
Конечно, ей хотелось другого времени, что там говорить! Может, бабка эту мысль и думает. И тогда им, за добро, может достаться больше. Это будет справедливо. Она как-то враз забыла, что давно знала, никакой к черту справедливости на русской земле сроду не было. Тут все через пень-колоду, здесь становилось все хуже и хуже. Особенно после больших обещаний, какая-то поперечная страна за черствую буханку хлеба отдает десять рублей, а на день у них с Петей приходится пятнадцать, если сложить его зарплату и ее «бизнес»: шьет фартуки с аппликацией на самом видном месте – женском пузе – пришивает подсолнух. Пока вырежешь его из старых штор, пока обметаешь, чтоб не сыпалось, все проклянешь. Но перестали брать Фенин товар, девки помоложе ее научились делать разные другие цветы и зверей, и даже эту, как ее, абстракцию. Может, и не так тщательно, как делает она, но по-другому. Так что очень хочется смены жизни. Она ведь как-никак воспитательница детского сада, а где теперь сад? Там, где все остальное. Кануло.
Так что пусть, если так считает Петя, старушка додумает свою мысль, ей не жалко. Долго ей не протянуть, это и без медицины понятно.
Тут мы подкрадываемся к самому тонкому, что есть в природе, – существованию в человеческом мозгу мысли. На чем она там обретается?
В мякоти мозга или гуляет по его поверхности, или смотрит оттудова в глаза человеческие, как в окошко, и от наблюдения рождает самою себя? Или она прилеплена к самой маковке черепа изнутри, как, скажем, акробатка, что висит вверх ногами под куполом цирка? Никто ж не видел! Никто! Ни Толстой там с Достоевским, ни академик Сахаров, и патриарх этого не видел, хотя делает вид, что уж кто-кто, а он и мысль, и истину и видел, и слышал, и руками трогал.
Феня приподняла старухе голову повыше на цветастой подушке, почему-то подумала, что мысли так будет сподручнее. Хотя кот, красивше которого и мудрее она не встречала в природе, любит спать вниз головой, но, конечно, мы не коты, и мысли у нас разные.
Пастух же уже вечером лениво гнал подопечных домой, когда на ямистой дороге стадо стало догонять машина, красненькая такая, приметная коробочка. Это была Дита. Разве она знала, что у нее есть слезы и они зальют ей глаза, и она собьется с пути и будет кружить по степи, пока не развернет машину к тому же месту, где оставила она мать? Сейчас она найдет этот подгорок и подымет мать в машину, и придумает что-нибудь. Но дорогу перегородило стадо.
Свистнул бичом пастух, сгоняя коз на обочину от греха подальше, только не знал он, что за рулем сидела молодая деваха в распалении души. «А слабо мне сбить эту рыжую? – думала деваха. – Поддам ей сейчас в самый бок, заверну ей копыта в небо». И уже ускорилась машинка-коробочка, разворачивая туповатую морду в Розкин шевелящийся бок. Никакая техника ничто супротив человеческого духа. Если так еще никто не сказал, то это сказал пастух. В три прыжка он оказался между машиной и Розкой и так хлестнул бичом по не просыхающей в ухабе луже, с таким закрутом взвизгнул его бич, что стала машина черной от грязи, повернулась мордой в другую сторону и рванула в объезд стада, дверцами цепляясь за траву и временами ощущая ужас, что еще чуть-чуть и завертятся колеса в пустоте неба.
Дита не видела ничего, потому что стекла были заляпаны грязью всласть и со смаком. Едва выбравшись уже впереди стада, хотелось дать задний ход, чтоб сбить с ног эту пастушью сволочь, который крутил бич над головой. Но ей было страшно. Ей давно не было страшно ничего. А тут стало так, что заледенели руки и ноги. И она слепо доехала до какой-то речонки, и сама вымыла машину, стянув с себя все исподнее для протирания стекол.
Так, на голой заднице, она и умчалась дальше, ни кто, ни откуда неведомо.
А пастух вкусно рассказывал потом, как он трахнул одну курву на дороге, но не в прямом смысле, больно надо, страшней войны, а в смысле уделал ее так, что только ее и видели.
– А за что? – спрашивала Феня. И тут пастух правды, что защитил козу, не сказал, потому что давно по жизни знал: правда бывает лишняя, и чем меньше людей про нее знают, тем им спокойнее. Особенно, если это касается отдельного человека, такого, как Феня, которая приняла чужую. А ведь еще не факт, что та скоро помрет. Долго болеющие очень часто оказываются долгоживущими. Он это и по козам знает, и по собакам. Совсем, казалось бы, жизни нет, а всех перескрипит. И это убеждало в очень простой мысли: смерть – не от болезни тела, она от Бога. Когда Он сочтет нужным, тогда и рассчитается. Забирает часто совсем хороших и крепких, и у докторов морды делаются глупыми, как у их бывшего секретаря райкома. Ну, просто не то что следа мысли там или соображения, а одно крупное пятно, через которое сквозь видно. Попы бормочут: Бог дал, Бог взял… А на «почему дал» и на «почему взял», у них тоже одно надувание щек и сразу обвинение: «Богохульство и ересь – такие вопросы. С чего бы ему тебе отвечать, подумал? Я вот даже в сане, не смею вторгаться в тайну жизни и смерти».
Пастух не сказал Фене, что стерва целилась в Розку, что дура пьяная перла, так сказать, конкретно. Он сказал, что машина ехала на стадо, пришлось ударить, свистнуть бичом, что машина аж крутанулась. А козы и не заметили, что он их загородил. И забылась история, как и не было.
* * *
И пошла жизнь своим путем. Розка – в стадо, Феня ножничками чик-чик-чик – подсолнух. Старуха лежит-полеживает, не объедает, две ложки супа в нее вольешь – и уже головой мотает. Правда, молочко любит. Не все люди звери, соседка для бабки всегда молочка принесет от себя, не за деньги. И все подбивает Феню написать в телевизор, где ищут всяких пропащих, может, кто и спохватится, что бабка пропала, но и нашлась. Но Феня – человек не активный, будет она писать. Как же! Кто-то бабку специально кинул на дороге, а дальше она ползла, как подбитая собака. Хата – крайняя? Крайняя. А сарайка еще крайнее. Вот и заползла. Ее счастье. Могло же и машиной переехать, и собаки загрызть могли, и дети камнями запросто бы закидали. Что, она детей не знает?
Но Феня знает и другое. Машины ездят раз или два в неделю и смотрят во все глаза, такая у них колдобистая дорога. Чтоб загрызли собаки, такого у них сроду не было. Собаки смирные и слабые. А дети? Где они, дети? Пять штук совсем маленьких, да трое десятилеток, всех старших спроворили в город.
Так и живут в согласии житейском и несогласии мысленном, но разве не так всюду и везде?
* * *
Машину Дита вернула даже раньше срока. Она была спокойна, как многопудная гиря. Все уже случилось. Она спускалась к матери, но та смотрела на нее мертво, глупо и фиолетово. Тоже фокус природы. Подберут ее, если живая, вон, может, даже тот пастух, который где-то свистит кнутом. Дита немножко постояла тогда, ожидая возникновения жалости в себе или, там, страха, или вдруг даже стыда. Приди они, в отдельности или вместе, может, и потащила бы она мать в машину, но чувства не пришли, зато мозг задал очень простой вопрос: «Тебе есть куда ее везти? Ты знаешь, где поблизости есть психушка? И разве ты взяла документы?» И Дита села в машину и развернула ее назад. Она немного заблудилась в степи, вернулась, казалось, на старое место, набрела на пастушье стадо, – то или не то? – и ей даже захотелось сбить рыженькую козу, что растопыренно теряла гроздочки виноградно-черных какашек. Но рассвирепел пастух. Так вжарил по луже, что пришлось отмывать машину исподним.
Была в ней слабость, была – те слезы, что заставили ее кружить по степи. Ну и что? Умный пастух ударил бичом, она испытала ужас своей смерти, а это, скажу я вам, похлеще, чем ужас чужой. Умирать за что-то или кого-то – чушь собачья. Тем более что неподвижные фиолетовые глаза были на самом деле, и они отражали небо, а не ее, склоненную дочь. Небо – ведь другое пространство. И матери оттуда тоже было наплевать на нее.
Прохоров принял возвращенный «жигуль» не глядя, и Дита сама ему предложила еще раз опробовать сиденья. И они прилично дрыгались, ногой Дита сбила приборную доску, не оставив никаких показателей. Прохоров, честно говоря, просто спятил от напора соученицы, даже боялся кончить раньше времени, но взял себя в руки-ноги, довел девушку до экстаза, после чего она еще немного повалялась на согнутых рваных подушках, дав разглядеть себя Прохорову. «Встреть такую, глаз не задержится, – думал мужик. – Дураки мы, ищем глазом, а надо другим». На этом и задремал.
Ах, как это было неосторожно со стороны Прохорова! Дита сжимала в руке сначала две, потом одну пятисотку и размышляла, достаточно ли вознаграждения сверх всего случившегося, если прибавить просьбу, чтоб Прохоров смолчал про то, что давал ей машину с целью отвезти мать? Но всякий нормальный человек задаст себе вопрос: а какая такая тут тайна, если дочь отвезла мать к родственникам? Так что, может, лучше вообще не касаться этой темы. Брала – вернула, ну и что? Но был пастух, который так хлестнул своим кнутом, что ей казалось – треснет пополам машина и она вместе с ней. Оставила она плохой след. С одной стороны, давно никто никого не ищет, наша милиция давно не по этому делу, но всегда есть опасность, что среди всей этой вористой братии найдется один ретивый. Ей ведь и одного хватит.
Дита смотрела в раскрытый рот Прохорова, который при определенных обстоятельствах скажет как на духу, как она пришла и просила машину, а потом вернула, а что и где она делала, он не знает. Уезжала не по шоссейке, по грунтовке, что ведет в степь. Шея у Прохорова была грязная, но под грязью белая и нежная. При такой черной морде такая белость, можно сказать, почти феномен природы. И билась на шее жилка. Диту давно интересовала сонная артерия: такое очень уж открытое для смерти место. В распахнутом ее же ногой бардачке лежал нож.
Казалось, это очень просто – полоснуть сонного Прохорова по сонной артерии. Она мысленно водила кончиком ножа, щекотала уснувшего Прохорова по голубой жилке, в которой было столько доставившей ей радость жизни. «Не много ли, девушка, для одного дня?» – спросила себя Дита. Но ведь легче будет выбелить один черный день, чем целую череду, если кто-то начнет искать мать. Но, кто, Господи, кто? Никого нет на всем белом свете, никого. И Дита – опять же мысленно – решительно вернула нож в бардачок. Живи, Прохоров, я сегодня добрая. Она даже укрыла его брезентом, в котором лежала запаска. И спокойно пошла в свой бывший дом. Соседка поила ее чаем, а она рассказывала, что оставила мать в совхозе им. Чапаева, их, чапаевских хозяйств, не меньше ста в этом регионе. Что мать слегка сдурела от дороги и бормотала незнамо что. Она будет посылать родичам деньги каждый месяц, ведь никто не обязан за так, верно? Пока не сумеет забрать мать к себе.
– А кем они вам приходятся, родственники? – спросила соседка.
Плохой вопрос, за него можно и наказать. Но Дита сегодня добрая, хотя и отмечает мысленно тонкую, в один обхват шею соседки.
– Двоюродные братья, тоже детдомовские. Все они жертвы войны. Под Сталинградом жили.
Сталинградская битва – святое. Ею можно все прикрыть. Соседка сочувственно никнет головой: какая же трудная у людей была жизнь, это ж и не сообразить! Ее вот Бог от детдома миловал.
А Дита идет к новым хозяевам своей квартиры. Они уже чуть попривыкли. Сидят на диване.
– Ах, – говорит Дита, – пришла вас побеспокоить, хочу забрать вещи. Не ахти что, но есть покупатели. Теперь же в магазине такие цены.
Беженцы лотошатся, все тут никуда не годится, но на месте-то стоит, прижилось, а у них-то ничего. И клопов нету, слава Богу. Собирают по карманам денежки. И Дита им «уступает», хотя в другом месте… «Да ладно, вы так настрадались…»
Теперь ей надо как можно скорее оказаться в Москве. Нужно там засветиться горячо, чтоб в этом свете сама по себе сгинула эта филологиня с Украины. Даже смешно думать, что она может быть кому-то интересна в нынешней ситуации раздельных государств.
В тот же день Дита вернулась в общежитие, сообщила, что мать умерла, вынула из камеры кейс и села составлять план диссертации «Поиски истины и сомнения в ее существовании в письмах Антона Чехова».
«Это будет бомба», – чирикнула синичка.
Кто будет сверять текст, если название определяет совсем другую тему? Потом на кафедре она взяла все нужные бумаги о болезни профессора-руководителя, в связи с этим – об отсутствии количественного состава кафедры для защиты, ходатайство от ректора, личное письмо преподки английской литературы ее бывшему мужу доценту по второй половине девятнадцатого века с просьбой «оказать содействие способной аспирантке». Она в отличие от Рахили пойдет в педунивер. Надо будет просмотреть в компьютере все данные, чтобы не было ненужных пересечений.
Они были. Была обозначена тема докторской Бесчастных и приблизительный срок защиты.
А она должна защититься раньше во что бы то ни стало. Думай, Дита, думай. Пусти трамвай по нужному пути. Надо было с кем-то посоветоваться, «обболтать» ситуацию. Она листает адреса, фамилии, которые ей дали в дорогу. Никого подходящего. Общежитие, куда ее пустили на недельку-две, такое же, как все. Пьют, сплетничают, сживают кого-то со свету. Мелкие страсти. Ей слегка приятно, что ее страсть крупнее, забористей, уже не студенческого ума дело.
В кухне, наливая кипяток в чашку, слышит разговор.
– Ты дура, да? Да любую хвалебку на себя можно купить задешево. Платишь наличку – и пишут, что ты великий актер там или певец. А другой закажет, что ты говно. Просто надо знать, кому дать.
Откуда она это может узнать? Есть у нее одна фамилия из газеты. Учился с нею два курса, а потом перешел на заочный, подался в писатели, не вышло. Свил гнездо пониже – в журналистике.
Нашла. Он ее не узнал.
– Да ты что, Коля, можно подумать, что прошло сто лет. Не пугай меня, Бога ради!
– А! – сказал Коля. – Вот заговорила – и узнал. У тебя очень противный голос.
Хотелось дать ему в рожу, но он улыбался нагло и по-своему дружелюбно.
– Хотела дать в рожу? Не стоит. Просто говори тоном ниже. Знаешь, в бизнесе жизни все имеет значение, голос там, жестикуляция. Москва, она барыня, она любит ласкающие голоса, чтоб по подлежащему, по подлежащему… Слушай битого и обученного.
Если б можно было сказать всю правду. Но нет, как ее скажешь. Полправды, четвертушку… Пересечение научных интересов, ей надо уязвить одну авторшу, которая списала у нее «кое-какие слова». Вот так, все наоборот, но складненько.
– Вообще-то на ученые книжки мы обычно рецензии не даем. Это же скучно.
– Будет весело! – говорит Дита тоном ниже. – Я напишу сама.
Он смотрит на нее заинтересованно.
– Небось, уже и написала?
– А вот и нет! – еще ниже звучит ее голос. – Но сделаю в момент, если в момент поставишь.
Коля молчит, а потом смеется.
– Ты обучаемая природа, голос поправила. Но знай: подлянки стоят дороже.
Она смеется в ответ. «По прейскуранту, сэр!» – И они идут пить в кофейню напротив редакции.
Дита чувствовала, как шипела в ней от напора неизрасходованная внутренняя сила, как она требовала выхода, чтоб потом…
Чтоб потом… Что потом? Квартира с картинки, широкие квадраты пола, эти новомодные окна из стеклопакетов. Низкое лежбище любви, телевизор на кронштейне, высокие сапоги в прихожей на будто бы стеклянном каблучке и бесконечно звонящий мобильник.
«Эдита Николаевна! Не сделаете ли нам…» Она ведь не просто пальцем сделанная аспирантка, она кандидат наук, черт вас дери. Жизнь! Ты у меня получишься, ты у меня сложишься. Иначе получишь в рыло.
* * *
В этот день у нее вынули трубки, и Рахиль смогла повернуться на левый бок. Обычно она не спала на левом боку, но когда две недели прикован к правосторонней позиции, можешь словить кайф и от такой малости, как левый бок. Она задремала спокойно, можно сказать, счастливо. Берта-Боженка взяла на себя все хлопоты с защитой, приглашение в Мюнхен оставалось в силе, хотя и несколько откладывалось. Прилетел муж и сидел у нее полдня, такой опущенный и потерянный, что ради его спасения ей просто необходимо было вставать на ноги.
Проснулась она от легкого шелеста, так тихо здесь ходят сестрички, но не стала открывать глаза, уж больно покойно и сладко было на душе. И завсегдашняя мысль – пугаться радости и миру как предвестникам неприятностей – не пришла. Все плохое ведь уже прошло, она ведь здесь после операционного стола, а не просто мимо шла и прилегла отдохнуть. Так она и лежала, с нежностью думая о муже, Берте-Боженке, о Мюнхене, которого никогда не видела, фиксируя всплывающие в памяти немецкие фразы. Немецкий в школе – в университете был английский – давался ей легко, мама объясняла это тем, что в младенчестве Рахиль нянчила старенькая немка, из приволжских, и пела ей немецкие колыбельные. Потерявшаяся в пучине революций и войн, тюрем и ссылок, совсем старенькая фрау бормотала ей, так говорила мама, «баюшки-баю» на немецкие слова.
Хотелось сейчас, навстречу Мюнхену, что-то вспомнить, и слова-не слова, голос вспыхивал в памяти печалью. Рахиль не открывала глаза, и в ней стала складываться фраза:
Ich weiss nicht was soll das bedeuten…
И уже не от няньки, а четко написанная фраза у Лермонтова:
Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahler Hoh.
Да, да… Одинокая сосна на голой вершине. Надо вспомнить, надо вспомнить. Мешал откуда-то возникший сыроватый запах. И она открыла глаза. Две розы лежали у нее на груди в завернутой газетке. Она развернула ее, листочки розы были мокрые и прилипли к большой статье «Филологическое мародерство». Взгляда хватило, чтобы понять: это ее книгу размазывали по стенке, не оставляя ей права не то что на защиту, а на саму жизнь. Ибо она, Рахиль, была примитивна, глупа, скудоумна, стара, наконец, и не современна.
Ей захотелось закричать, потому что вместе с этими словами в нее вошла боль, и Рахиль понимала, что эту боль ей не вынести, что это уже конец конца, и нет сил и времени ни объясниться, ни оправдаться. А потом боль ушла, и ушло все. И она уже не видела паники, реанимационных усилий, отчаянное лицо мужа и Берту, которая непрерывно звонила кому-то по мобильнику.
* * *
Как это оказалось легко! То, что защита будет отложена, уже не вопрос. Но это полдела. Теперь все зависит от сердца этой Рахильки – такая жалкая лежала в постели после операции, она ходила смотреть специально, что легкой подушки бы хватило ей на морду, но это был бы перебор. Пусть сердце само по себе разорвется. У этих прошлых дам, вскормленных гуманистическими идеями, оно, как правило, слабое. Сейчас она думала: смыться ли ей из Москвы, будто ее тут и не было или бояться нечего? Она ведь, собрав все документы для Москвы, допрежь уехала как бы ставить маме памятник, у мамы ведь тоже износилось сердце, но не от интеллигентской дури, а от тяжелой метлы – туда-сюда, туда-сюда, шкреб-шкреб, шкреб-шкреб… Выскреблось. В Москве, в переходе, она купила черный гипюровый платочек, узелок тугонько под подбородок, ну сама печаль-горе. Самое то для могилы, но Дита крутилась возле больницы. Попросила девчоночку, что пришла навестить кого-то, положить розы в газете в такую-то палату.
– У меня некстати пошли сопли, – объяснила она девчонке, – лучше не идти, от греха подальше. А подруга, что лежит, просила эту газету. – На ней под косыночкой был белый парик, под мадам Лавальер, самый дешевый, можно сказать, из пакли. И темные очки в пол-лица. Ведь по первости она сама хотела войти в палату, но вовремя скумекала, что это совсем дурной вариант, даже если она не зайдет в палату, а засунет презент в дверную ручку. А если дверь будет открыта? А если в палате кто-то будет? Нет, нужен был чужой человек «от подруги». Лучшие «подарки» дарят именно они. Давно замечено.
Поэтому в библиотеке Дита спокойно села за работу, написанную Рахилью, в которую она вкрапляла заметки Володи. Традиционный элегический тон исследования Рахили просто взрывался Володиной нервностью. И сшивать эти несшиваемые концы было для Диты сплошной радостью. Получалось, им обоим она была нужна со своим умением сплести кружево из чужого опыта и непрожитой неумелой страсти, из глубокого понимания и бесшабашности мыслей по случаю.
Ай да Дита, ай да молодец! – восхищалась она собой. Это будет не работа, а бомба. Открывая как бы заново Чехова, она напоследок так хлопнет по нему дверью, что ему ничего не останется, как еще раз попросить шампанского и сказать: «Ich sterbe». И по-русски, по-чеховски, тихо добавить: «Теперь уже насовсем, дамы».
Навела справки. Бесчастных была в коме. Кома давно занимала Диту, как и сонная артерия. Пребывание ни в тех, ни в сех предполагало возможность неких новых постижений. Если этого нет, то в коме как явлении жизни нет никакого смысла. А кома считается жизнью. А если она все-таки смерть? Сорван с грядки недозрелый помидор. Он живой или мертвый? Мертвый, если сравнить со срезанным цветком, но помидор лежит на подоконнике и дозревает, доходит до кондиции – жизни или смерти? Мы вгрызаемся зубами в брызжущий соком плод – мы съели живое или мертвое? Человек в коме – он кто? Помидор для дозревания или сломанный цветок? Или он в медленном темном переходе к завершению пути. Ах, какая жалость! Человека в коме не поставишь в вазу, чтоб насмотреться ссушенных лепестков, и не положишь на подоконник, чтоб, наоборот, увидеть дозревание. Дите было весело думать эти абсолютно сумасшедшие мысли, некоторые она записывала. Мало ли! Кто знает, в каком состоянии создавали свой великий бред Гоголь и Достоевский? Может, это тоже вид пребывания в коме. Ее творческая разновидность.
* * *
Не будь Берты, все давно бы кончилось. Как говаривал один хирург-остроумец с Украины, «и вси поминальни пырожкы покакалы бы». Но она вызвала специалистов-немцев, те долго колдовали над несчастной Рахилью, говорили непонятные немецкие слова, ничего не обещали, но присылали какие-то новые лекарства, и случилось чудо чудесное: Рахиль открыла глаза и узнала всех сразу. Правда, никто не знал, что она помнила, что вчера (а прошло три месяца) она видела ужасающую статью про себя, и ей тут же захотелось вернуться в блаженное незнание, но все были настороже, и фокус с возвращением назад у нее не получился. А через какое-то время муж увез ее домой. Берта навзрыд плакала в купе, подворачивая под ноги Рахили одеяло.
– Успокойся, Боженка, – отвечала Рахиль. – В конце концов, я жива.
– В конце концов, ты обязательно приедешь в Мюнхен, тараторила Берта. – И ты будешь нам читать свои замечательные лекции.
– Traurin bin, – прошептала Рахиль.
Она не знала, что Берта чувствовала себя виноватой во всей этой истории. Это она растрезвонила среди филологов-славистов, какая замечательная филологиня Бесчастных. Будто она не знала русских! Пять лет ведь училась среди них. Набиралась ума и исследовала характер этого народа, богато-нищего одновременно, щедро-завистливого и изысканно-жестокого. Только русский мог завернуть розы в подлый пасквиль и положить на грудь тяжело больной женщине. Берта знала, что это была блондинка в косыночке, умолившая глупую девчонку сделать пакость своими руками. Берта узнала подлинную фамилию автора статьи – некрасивая брюнетка из Волгограда, Дита Синицына. Она позвонила в Волгоград и узнала, что Дита ставила памятник на могилу матери в дни комы Рахили. Россия огромна. Могла быть и другая завистница, и третья. Значит, самое важное – не искать злодейку, а спасти Рахиль, оставить ее жить. Боже, справится ли с этим ее муж? Он такой слабый с виду мужчина. Берта дала себе слово отслеживать все чеховские защиты в Москве и Петербурге. Она догадалась: одна из диссертаций будет та, что будет сворована у Рахили. Только бы уследить, только бы не пропустить. Хотя как уследить за просторами России? Диссертант может всплыть где-нибудь в Красноярске или Томске. Ну и как она найдет? Но почему-то думалось: замысел был московский. Очень соблазнительно было кому-то въехать в столицу на Чехове Рахили. Как же она подвела кого-то, оставшись жить! Очень хорош был бы слух о смерти Рахили или хотя бы о полной ее невменяемости. Подталкивая одеяло под ноги Рахили, Берта наметила, кому и что надо сказать, кого предупредить, кого осторожить.
– Боженка ты моя! – обнимала ее Рахиль. После болезни она будто забыла, что та – Берта. Берта с именем. Берта с положением. Она обнимала полячку, едва связывавшую когда-то скользкие русские слова. Но древнее библейское имя молодой преподавательницы русской литературы всегда говорилось легко и правильно. «Боженка моя!» – отвечала Рахиль.
* * *
Рахиль выздоравливала частями. Первой заработала рука. Однажды она взяла ручку и написала строчки:
Да не сокрушится дух мой прежде тела.
Господи! Тебе ведь все равно,
Сделай так, чтоб птицей отлетела,
А не завалилась, как бревно.
Она забыла напрочь, чьи слова писала рука, но пальцы держали ручку грамотно, крепко. Вечером она сумела сама налить себе заварку. Через какое-то время на виске завихрился подраставший волос. Правда, он был почему-то совсем седой, но поворот его, даже некая лихость были прежними, почти как в молодости. И волосы, будто услышав зов вожака, забуянили, завернулись в колечки, глядишь – и шапочка нарядила голову, ну и что, что седая! Теперь это называется платиной.
Рахиль потихоньку узнавала себя. Совсем забыла, какая у нее ямочка на подбородке, провела рукой – своя, родная, ни у кого такой: левая половинка подбородка чуть меньше правой. Но вот к письменному столу она не подходила. Те строчки, что она написала на вырванном листке телефонной книжки, были написаны стоя, на кухне. Главный же стол, рабочий, пугал и отталкивал. На нем всегда стояли цветы и фотографии, лежали камушки Коктебеля, железно-задумчиво сидела на пне сто лет живущая в доме печальная черная лиса. В ней было столько скорби, будто она просила прощения за всех лживых и коварных вертихвосток своего племени. Когда-то из-за этой железной лиски Рахиль отказалась от горжетки, которую ей хотела подарить тетка. У лисы-горжетки была хищная морда, и стеклянные глазки смотрели с такой лютой ненавистью, что возникал вопрос о посмертной жизни мехов и чучел, о странной профессии чучельника и скорняка: кто они в системе передачи информации в мире? Отказавшись от горжетки, Рахиль была отторгнута от дома тетки, а она, садясь работать, клала себе на колени лиску, чтоб забыть ту страшную меховую морду.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.