Текст книги "Волк среди волков"
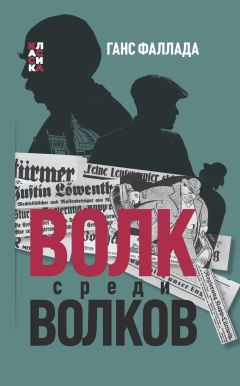
Автор книги: Ганс Фаллада
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 68 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
– А твой стих, Аманда?
Ах да, они поют духовные песнопения. Обычно каждый должен был назвать по своему усмотрению какой-нибудь стих из молитвенника, а затем все пели его сообща. Иногда получалась отчаянная мешанина из молитв вечерних, заупокойных, покаянных, причастных; для большинства, однако, это служило развлечением и вносило некоторое разнообразие в сонную скуку вечерних часов. Даже у барыни, сидевшей за фисгармонией, разгорались щечки, так быстро приходилось ей листать свою нотную тетрадку и перескакивать с одного напева на другой.
– «Да исправятся пути мои…» – торопливо выпалила Аманда, чтобы фырканье не перешло в хохот.
Барыня кивнула:
– Верно, тебе это очень не помешало бы, Аманда!
Аманда прикусила язык, дернуло ее вспомнить именно этот стих, как сама в руки барыне и далась. Усаживаясь, она покраснела.
Но по крайней мере не было паузы, так как фрау фон Тешов знала этот стих наизусть. Сейчас же вступила фисгармония, и все запели. За Амандой шла Минна-монашка, и эта лицемерка, конечно, выбрала: «Из бездны моей к тебе взываю…»
И снова все запели…
Но Аманда Бакс уже не позволяла себе никаких мечтаний, а сидела, выпрямившись, начеку, она не хотела, чтобы ее еще раз подняли на смех. Некоторое время все шло гладко. Пение продолжалось, хотя уже без всякого подъема, так как людям надоело, да и барыня устала, она все чаще фальшивила и сбивалась с такта. Потом фисгармония стала как-то странно посвистывать, гнусить и кряхтеть, девчонки на задней скамье снова захихикали, а фрау фон Тешов вся побагровела, но все же прибрала к рукам фисгармонию.
«Она устала, – решила Аманда. – Надолго ее, пожалуй, не хватит. Может быть, у нее и охота пропала трепаться насчет всей этой истории, и я скоро смогу удрать к моему Гензекену».
Но Аманда Бакс понятия не имела о том, как горячо вот такая старушенция может принимать к сердцу чужие грехи, как она может снова ожить от того, что сестра ее оступилась. На минуту можно было подумать, что барыня решила на этом и кончить. Но затем она, видимо, спохватилась. Старуха встала перед своей маленькой паствой, откашлялась и сказала чуть торопливо и чуть смущенно:
– Да, дорогие дети, теперь мы могли бы прочесть нашу заключительную молитву и спокойно разойтись по домам и лечь спать в благой уверенности, что праведно завершили свой день. Но так ли это на самом деле?
Старушка смотрела то в одно лицо, то в другое, ее смущение исчезло. Она уже подавила в себе голос проснувшейся было совести, который подсказывал ей, что она собирается совершить нечто, строжайше ей запрещенное.
– Да, так ли это на самом деле? Если мы заглянем в Нейлоэ, а тем более в Альтлоэ, где люди, конечно, еще сидят в трактире за вином, мы можем быть собой довольны. Но если мы заглянем в свою душу, то как обстоит там дело? Мы, люди, слабы, и каждый из нас грешит каждый день. Поэтому хорошо, если мы, время от времени, покаемся публично и расскажем собравшимся братьям нашим во Христе, в чем мы согрешили. Только грехи одного дня, и я сама начну…
С этими словами старая фрау фон Тешов поспешно опустилась на колени и уже стала готовиться в молчаливой молитве к исповеданию вслух своих грехов. Однако среди ее овечек прошло едва сдерживаемое движение, ведь каждой из них было известно, что и пастор Лених, и даже господин суперинтендант во Франкфурте строжайшим образом запретили барыне публичное покаяние. Ибо это глубоко противоречит и учению Христа, и учению Лютера, это пахнет армией спасения, баптизмом и прежде всего отдает пагубной ересью католической исповеди.
Никто из собравшихся не встал и не вышел в знак протеста из комнаты, хотя старая барышня фон Кукгоф и слуга Элиас и не побоялись бы это сделать; однако и они жаждали услышать дальнейшее. Ибо едва ли найдется на свете хоть один человек, который слушал бы рассказ о чужих грехах без приятных мурашек, пробегающих по спине. Каждый надеялся, что его минует кара, каждый наспех перебирал в памяти грехи, совершенные им за последнее время, и тайные, и ставшие явными, и приходил к выводу, что дела его обстоят не так уж плохо.
Но одна из грешниц, знавшая, что она неминуемо окажется в числе тех двух или трех, которых вызовет фрау фон Тешов, и знавшая, что нарушение пасторских и суперинтендантских запретов произошло единственно ради нее, эта грешница сидела точно каменная и виду не подавала, что тревожится. С раздражением и гневом слушала она лепет старухи, которая, вероятно, очень была взволнована, так как все время путалась и то и дело икала так, что, если бы не напряженное настроение, сидевшие в зале расхохотались бы. Перечисляя свои грехи, она заявила, что опять читала безнравственный роман в газете – ик! – и что была несдержанна со своим дорогим мужем – ик! причем назвала его «невежей» – ик! ик! – и что снова велела подмешать маргарину в масло для прислуги – ик!
Аманда Бакс смотрела на старуху с нетерпеливой, сердитой и презрительной гримасой. Ведь кругом сидят люди и слушают эту дурацкую болтовню в десять раз внимательнее, чем слушали слово божье, а все это сплошное вранье! Про настоящие-то грехи барыня тоже небось словечком не обмолвится. Тут все ее благочестие насмарку идет. Маргарин они и так учуяли, незачем было расписывать. Насчет романа – вздор, а часто ли она ссорится со «своим дорогим мужем», тоже всему дому известно. Все очковтирательство и вранье! Лучше бы она при всех созналась, что представление это устроила только затем, чтобы ее, Аманду Бакс, взгреть как следует, – вот это было бы покаяние! Да разве она сознается!
А между тем у Тумбы от волнения щеки стали пунцовыми, она пыхтела как паровоз, ее высокая грудь вздымалась и китовый ус, сжимавший ее талию, то и дело потрескивал. А Минна сидела дура дурой и так разинула рот, точно ожидала жареных кур.
И у Аманды Бакс пылали щеки, но не от волнения и стыда, а от злости и упрямства. И вот барыня, бессовестная, заговорила-таки о вчерашнем вечере, о том, что она застала одну девушку, – увы, девушку из этого дома! застала ее, когда та в темноте лезла в комнату к мужчине (ик!).
Словно ток прошел по всему собранию, и Аманда увидела, что лица у людей словно поглупели и застыли в восторге ожидания: начинается!
Но еще не началось, так как барыня принялась каяться, ежеминутно прерывая себя икотой, что она-де позволила гневу овладеть ею и, вспылив, разбранила девушку и пригрозила ей расчетом, а следовало помнить, что все мы грешны, что и эту заблудшую овцу надо терпеливо вести в овчарню к пастырю. Старуха покаялась в том, что не выполнила своего долга, ибо эта молодая девушка была вверена ее попечению, и теперь она молит, чтобы он укрепил в ней снисходительность и долготерпение в борьбе со злом…
С глубоким презрением и гневом слушала Аманда эти разглагольствования, и если раньше она приняла одно решение, то теперь сменила его на другое. Едва фрау фон Тешов вымолвила последнее «аминь» и поднялась, не успев даже указать словом и пальцем на следующего грешника, который должен был преклонить колени на скамеечке для кающихся, как Аманда вскочила – ее щеки пылали, глаза потемнели от гнева – и крикнула, что барыня напрасно хлопочет, она, Аманда, отлично знает, кого барыня имеет в виду, и вот она тут. Ну что же, барыня теперь довольна?
После чего Аманда Бакс обернулась и как фурия зашипела на Минну-монашку, толкавшую и пихавшую неисправимую грешницу в спину, чтобы та вышла и встала перед общиной как полагается:
– Убери свои поганые лапы с моего чистого платья! Не дам я себя вытолкнуть вперед, а тебе-то уж во всяком случае, потому что господь бог, да всякие раскаяния, да наказания в этой комедии ни при чем!
Отделав таким манером свою противницу, она обратилась снова к собранию и заявила, так как теперь уже вошла в азарт: ну да, это она вчера вечером влезла в окошко, и если они желают знать все в точности, так это было окно конторы, окно управляющего Мейера! И ничуть ей не стыдно, и она может назвать по крайней мере десятерых здесь, которые тоже лазили в разные окна к другим мужчинам.
Тут она подняла палец и ткнула им в Минну-монашку, а та заверещала и спряталась за других. Аманда же вновь подняла палец, но так и не успела ни на кого указать, так как позади, в темном углу, грохнулась скамейка, на которой сидели подростки, – они слишком поторопились спрятаться.
Тогда Аманда Бакс рассмеялась (и увы, увы, многие из присутствующих рассмеялись вместе с ней), но смех перешел у нее в плач.
– Лучше бы жалованье приличное платили! – воскликнула она гневно и, неудержимо рыдая, убежала в темный парк.
В зале же рухнула не только скамейка, многое рухнуло и для старой барыни. Дрожа и горестно всхлипывая, сидела она в своем кресле, и даже старая подруга Ютта Кукгоф, стоявшая перед ней, безжалостно и строго выговаривала ей:
– Видишь, Белинда, кто тронет навоз, замарается.
А люди торопились выбраться из зала. Правда, они примолкли и казались даже подавленными, но можно было не сомневаться, что по пути домой они, конечно, очень скоро обретут дар речи. И чье имя начнут тогда трепать, тоже было совершенно ясно, уж, конечно, не Аманды Бакс, ведь та вышла из борьбы победительницей!
Правда, Аманда, все еще бегавшая по парку, расстроенная и зареванная, вовсе этой победы не чувствовала. Напротив, она обзывала себя идиоткой и дурой за то, что так навредила себе и Гензекену. На мгновенье она остановилась, увидев, как что-то копошится у забора: это был тайный советник. Аманда уже решила набраться храбрости и просить его заступиться, но преждевременный жизненный опыт подсказывал ей, что лучше ни о чем никого не просить.
Итак, Аманда побежала дальше и постепенно начала успокаиваться. Она умылась прохладной водой из пруда и направилась к своему Гензекену. Но заявилась она как раз в ту минуту, когда тайный советник стучал в окно, вызывая управляющего Мейера. И она услышала, как в комнате Мейера испуганно взвизгнула женщина.
7. Фрау Пагель и Минна укладывают вещи
Быстро тает последний вечерний свет, переходя в темноту. Десятый час. Уже горят на улицах фонари. Вдовствующая фрау Пагель стоит у окна в комнате Вольфганга. Она смотрит вниз, на сады, которые уже почти неразличимы. Но позади них что-то пламенеет и мигает, над городом стоит красноватое зарево, и она спрашивает себя, под какой же лампой сидит сейчас ее сын и проматывает украденные деньги.
Она отвертывается от окна – в комнате, на свету, старая Минна укладывает сундук, и фрау Пагель нетерпеливо бросает:
– Запирайте, Минна! Он может каждую минуту прийти за вещами.
Старая Минна, не поднимая глаз, смотрит на мешочки, в которые бережно всовывает надетые на колодки башмаки.
– Он же не придет, барыня, – говорит она.
Фрау Пагель раздражена – Минна словно нарочно старается убедить ее в том, что столь страстно ожидаемое посещение не состоится. И она отвечает коротко:
– Вы отлично знаете, Минна, что я имею в виду. Ну, так он пришлет кого-нибудь за вещами!
Минна продолжает укладывать сундук, очень неторопливо, без всякой спешки.
– А шкаф-сундук отдавать бы незачем. Когда вы, барыня, весной поедете в Эмс, у вас не будет приличного сундука!
– Глупая женщина, – отвечает барыня и смотрит в окно. Густые кроны деревьев заслоняют улицу, но здесь, в этой глубокой тишине, слышен каждый шаг, каждый подъезжающий автомобиль.
– Купальный халат тоже класть, барыня? – осведомляется Минна.
– Что? – спрашивает фрау Пагель. – Ах да, купальный халат. Конечно. Все, что ему принадлежит, должно быть уложено.
Минна надулась.
– Тогда надо еще лезть на чердак и принести ящики с книгами. Не знаю, может, дворник уже лег. Я одна не донесу.
– Книги подождут, – заявляет старуха в досаде на эти постоянные осложнения. – Вы же можете спросить, когда он придет, хочет ли он их взять с собой.
– Он не придет, барыня, – повторяет старая Минна тем же тоном, но убежденно.
На этот раз фрау Пагель не слышит, на этот раз ей не приходится возмущаться тупостью своей служанки. Она насторожилась, высовывается из окна, прислушивается… шаги…
Служанка, хоть и стоит к ней спиной, но чувствует: что-то произошло. Она перестает укладывать, оборачивается, держа в руке купальные трусы, видит, что фрау Пагель прислушивается, и говорит с мольбой:
– Барыня!
– Вольфганг? – кричит та в окно, сначала нерешительно, затем уверенно. – Вольфганг! Подожди, мальчик, я иду! Сейчас я отопру тебе!
Она делает крутой поворот, ее лицо покраснело, глаза под белыми волосами сияют и блестят как бывало.
– Скорее, Минна! Ключи! Молодой барин ждет внизу! Беги!
И, не обращая внимания на уговоры Минны, она опережает ее и мчится в темную переднюю. Фрау Пагель зажигает свет, хватает с подзеркальника наугад какие-то ключи и, сопровождаемая Минной, спешит вниз по лестнице.
Она пытается отпереть входную дверь. Ключи не подходят. В тревоге она кричит:
– Живей, Минна! Главное скорей, вдруг он раздумает, он всегда был нерешителен.
Минна молча нажимает на дверную ручку, парадная дверь не была заперта, она отворяется. Фрау Пагель бежит через узкий палисадничек, толкает железную калитку на улицу:
– Вольфганг! Мальчик! Где же ты?
Одинокий ночной прохожий, чудак, который предпочел барам и суете центральных улиц свежий воздух и запах зелени, удивленно вздрагивает. Он видит перед собой в мигающем свете одинокого газового фонаря старую, седую, очень взволнованную даму, а за ней пожилую служанку с купальными трусами в руках.
– Что вы сказали? – растерянно спрашивает прохожий.
Старая дама так быстро остановилась и повернула обратно, что чуть не упала. Пожилая служанка с трусами в руках бросает на прохожего сердитый взгляд и уходит за ней следом. Она берет старую даму под руку, и обе исчезают в ближайшем подъезде.
– И не заперли, – констатирует прохожий. – Дуры набитые, так напугать человека!
И он отправляется искать для прогулки еще более тихую улицу.
Обе старые женщины медленно, без единого слова, поднимаются по лестнице. Барыня опирается на руку Минны, и та чувствует, как эта рука дрожит. Служанка замечает, как трудно ее хозяйке подниматься по лестнице. Дверь квартиры раскрыта настежь, площадка ярко освещена. Они входят, Минна запирает дверь. Она не уверена, куда хочет пойти барыня, в комнату молодого барина или в свою собственную. Лучше, если бы барыня, после всех волнений, легла. Но Минна, тупая, недогадливая Минна, научилась в жизни тому, чему большинство женщин никогда не научаются: что есть время для слов и есть время для молчания. Сейчас время для молчания.
И она идет вместе с барыней по коридору, та слегка тянет ее за локоть, ясно, что она хочет вернуться в комнату молодого барина. Когда обе входят, они видят перед собой сундук, он широко раскрыт. Один ящик выдвинут, в нем сверху лежит купальный халат молодого барина в белую и синюю полосу.
При виде халата фрау Пагель останавливается. Откашлявшись, она сухо приказывает:
– Вынь купальный халат, Минна!
Минна вынимает халат и кладет на диван.
– Все вынимай! – продолжает фрау Пагель еще резче. – Тебе придется все уложить заново. Мне никак не обойтись без сундука.
Безмолвно начинает Минна вынимать вещи. Барыня стоит рядом, и лицо у нее суровое, жесткое. Она наблюдает за Минной. Может быть, она ждет одного нерешительного движения, ничтожнейшего знака, говорящего о занятой Минной позиции. Но деревянное лицо Минны ничего не выражает, движения, которыми она вынимает белье и платье, не слишком торопливы и не слишком медленны.
Вдруг фрау Пагель оборачивается.
Ей хочется быстро выбежать и укрыться в своей темной комнате. Но ей не успеть. Нахлынувшие слезы застилают глаза, и она, неудержимо рыдая, прислоняется к косяку.
– Ах, Минна, Минна, – шепчет она, всхлипывая. – Неужели мне суждено и его потерять, последнее, что я еще люблю?
А старая служанка, которая всю свою жизнь, – на кухне, в каморке для прислуги, только и думала о старой барыне, только на нее и работала, которую то призывали, то отсылали прочь, смотря по настроению ее госпожи, и которую в ту же минуту опять забывали, – старая служанка хватает руку своей повелительницы.
– Он же вернется, барыня, – шепчет она настойчиво. – Непременно! Вольфи вернется.
8. Зофи в «христианских номерах»
Зофи Ковалевская, бывшая камеристка графини Муцбауэр, провела вечер в «Христианских номерах» весьма недурно. До ужина она копалась в своих вещах – до чего же это приятно, на положении окончательной владелицы, рассматривать все, что она перетаскала у своей хозяйки. А перетаскано было немало! Зофи могла сказать, что гардероб у нее не только богатый, но даже роскошный. Нейлоэ лопнет от зависти, когда все это увидит.
Рассмотрев свои туалеты, она, конечно, стала их примерять. Надо же было надеть к ужину в этих номерах что-нибудь подходящее. С тем особым инстинктом приспособления к окружающей среде, в котором была главная сила Зофи, она выбрала синий костюм. К нему кремовую блузку из чесучи. Для поистине благочестивых людей юбка была, пожалуй, коротковата, но тут уж ничего не поделаешь. У Зофи нет более длинных юбок, и она твердо решила не закидывать ногу на ногу. Слишком глубокий вырез блузки она прикрыла пестрым шелковым шарфиком.
Только легкое прикосновение губного карандаша, только чуть-чуть краски на щеки… Зофи готова и спускается в столовую. Изречения на стенах, частью выжженные по дереву, частью написанные на цветном картоне, привели ее в восхищение. На столах с уродливыми, но претенциозно изогнутыми ножками были постланы скатерти из серой вафельной бумаги. Пятна на скатерти были тоже прикрыты бумажными салфетками – это экономно и практично, но, как уж тут полагается, пребезобразно, решила Зофи.
Суп был жидок и сварен из концентрата, зато в зеленый горошек не поскупились навалить муки, свиная котлетка оказалась крошечной, сало вонючим. Все же Зофи, избалованная Зофи, ела эту жратву с искренним удовольствием. Ее забавляло, что она в гостях у благочестивых людей. Значит, вот они как живут, вот каким лишениям подвергают друг друга, чтобы научиться презирать земное и быть в хороших отношениях с богом, которого вовсе и нет!
С особенным интересом рассматривала Зофи официанток. Она старалась угадать, кто они, уж не падшие ли, но раскаявшиеся девушки, и нравится ли им их теперешнее занятие. Ну, если они и пали, рассуждала Зофи, то это было, наверно, очень давно, ведь они такие пожилые. А раздражительными казались все: должно быть, вопреки изречению, висевшему над сервантом, это не слишком тучная нива.
Когда Зофи кончила ужин, было всего половина девятого, нельзя же так рано заваливаться спать. Она постояла в нерешительности у окна столовой, созерцая сырую от дождя Вильгельмштрассе. До сих пор Зофи бывала только в Вестене; может быть, посмотреть рестораны на центральных улицах…
– Нет, нет! – Она твердо решила лечь вовремя и вообще вести себя весь отпуск вполне солидно: о том, чтобы выйти сегодня, не может быть и речи.
Слава богу, Зофи увидела дверь с надписью «Кабинет для письменных занятий», и теперь она знает, как провести вечер. Должна же она сообщить своему другу Гансу о том, что «сестра» скоро навестит его.
В пустой и унылой, скупо освещенной комнате для писания писем сидел только седой господин в длинном черном сюртуке, определенно – пастор. Когда она вошла, он вздрогнул и растерянно взглянул на нее поверх газеты, а может быть, просто очнулся от дремоты и что-то пробормотал. Да, он явно смутился, вероятно, не был уверен, следует ли ему оставаться наедине со столь нарядной девицей.
Зофи, проскользнув мимо него с дочерней улыбкой – по крайней мере она считала ее дочерней – и взобравшись на винтовой стул перед письменным столом, сказала себе, что этот старый ханжа, кажется, очень кроткий дядя. Пастор Лених в Нейлоэ – тот будет пожестче. Она отлично запомнила, какая тяжелая у него бывала рука, когда не выучишь стих из его тетрадки, особенно же когда тебя накроют с мальчишками.
Однако ни кротость, ни старость, ни благочестие нисколько не мешали седому господину поминутно отрываться от газеты и поглядывать на ее ноги. Зофи сердито одернула юбку, насколько юбка позволяла – почти до колен. Она находила, что нехорошо пастору так смотреть. Обычно ее забавляло, когда мужчины поглядывали на ее ноги. Но пастору этого не полагается, у пастора другие дела, ему не до того, чтобы находить ее ноги приятными, не за то он жалованье получает.
Когда Зофи в третий раз перехватила взгляд седого господина, она пристально посмотрела на него. Он тут же покраснел, пролепетал что-то и, окончательно смутившись, поспешил прочь из комнаты.
Зофи вздохнула. Этого она тоже не хотела, для одиночества комната была слишком уныла.
Все же на почтовой бумаге стоял гриф: «Христианские номера». Очень удачно. В тюрьме к такому грифу, разумеется, отнесутся с почтением, благодаря такому письму она, конечно, получит желанное разрешение на свидание. Она предусмотрительно сунула в свою сумочку с десяток бланков и конвертов, они ей, наверно, еще пригодятся.
Правда, даже самый благочестивый гриф не мог облегчить ей труд писания: что утром, что вечером занятие это было одинаково тяжелым, и она долго сидела над письмом.
В конце концов оно было готово. Нельзя сказать, чтобы она очень расписалась, – всего какие-нибудь пять-шесть фраз. Но их было достаточно, чтобы подготовить Ганса Либшнера (а заодно и тюремную администрацию) к посещению «сестры». Вот Ганс посмеется, получив ее послание! Какой приятной будет встреча, если он, – а у него удивительный талант на такие штуки, – если он будет обращаться с ней в точности как с сестрой. Она уже ощущала его дерзкий братский поцелуй на глазах у полицейских, или какие там еще сторожа в этой тюрьме.
Тем временем пробило половина десятого. Больше делать нечего, можно на худой конец лечь спать. Медленно стала она раздеваться. Сейчас ей совершенно не хотелось спать, хотя днем она вечно чувствовала себя усталой. Сна ни в одном глазу. А на улице под ее окном скользили мимо и давали гудки автомашины. Уныло раздеваясь, она отчетливо видела, как мужчины с глупой важностью или плохо разыгранной небрежностью входят сейчас в бары, отрывисто кивают девушкам и взбираются на высокие табуреты, заказывая свой первый коктейль или стакан виски.
Но нет! Сегодня она ни за что не выйдет!
Как хорошо, что на ночном столике рядом с кроватью лежит черная книжечка с красным обрезом. На ней золотая надпись: «Священное писание».
С самой конфирмации Зофи в руки не брала Библию, да и тогда ее занятия этой книгой сводились к выучиванию заданных пастором Ленихом стихов, а чаще к поискам соблазнительных мест. Но сегодня вечером у нее есть время; и вот она взяла Библию и, чтобы уже почитать как следует, начала с самого начала. (Если понравится, она сунет это превосходное и бесплатное чтиво в свой чемодан и возьмет с собой на отпуск.)
Надо же знать, чем так прославилась эта книга? История сотворения мира заинтересовала ее средне: пожалуйста, ей-то что! Могло быть так, могло быть и иначе, это не важно. Важно то, что ты существуешь на свете, а существуешь ты благодаря сотворению Адама и Евы во второй главе и грехопадению – в третьей.
Значит, вот оно, знаменитое грехопадение, насчет которого образованные мужчины так часто поучают девушек в барах (пока сами еще ломают комедию, нагоняя на них тоску). Зофи все нашла, все было на месте: древо познания, яблоко – наверное, из-за него до сих пор говорят «сорвать яблочко» – и змий. Однако Зофи отнюдь не была согласна с тем, как дело изображалось в Библии: если читать как написано, то сразу же станет ясно, что бог ничуть не запрещал женщине вкусить от древа познания. Мужчине он запретил, верно, но еще до того, как была сотворена женщина. Хорошенькое дело – наказывать женщину за то, что ей вовсе не запрещено! Только мужчины способны на это!
«Если так начинается, – сердито размышляла Зофи, – то что же будет дальше? Сплошное вранье! Надо быть дурой, чтобы попасться на такую удочку! И вся их братия еще до сих пор морочит нас всякой чепухой! Ну, пусть хоть один ко мне теперь со всем этим сунется!»
Она сердито захлопнула книгу. «Взять с собой на отпуск? И речи быть не может! Чтобы вечно злиться? Потому-то они и кладут эту книгу на виду – никто на нее не позарится!»
Зофи выключила свет, она лежит в темноте.
Ее гнев прошел, но под одеялом слишком жарко, от закрытых окон в комнате слишком душно. Она встала и распахнула их. Доносятся звонки трамваев: каждый, сворачивая на Краузенштрассе, звонит. Она слышит шаги пешеходов, иногда одного, – очень громкие, иногда многих, – беспорядочный шум и разнобой. Машины проносятся мимо, стрекочут, дают гудки, мчатся дальше.
Тело у нее зачесалось; она поскребла там, поскребла здесь. Легла так, легла этак. Потом заставила себя не двигаться, приняла позу, в которой обычно засыпала: на правом боку, обе руки под правой щекой. Закрыла глаза. Уже близился сон.
Тут она почувствовала, что ей хочется пить, пришлось встать и выпить стакан воды, вода была затхлая. Зофи снова легла и стала ждать сна. Но сон не шел; казалось, он никогда больше к ней не придет. Тщетно представляла она себе, какую усталость испытывала еще сегодня утром в своей каморке, платье перемято, во рту приторный вкус от выпитых ликеров, подошвы горят, – как она боролась со сном, когда выжимала из себя эти несколько строк Гансу, а за ее спиной храпела эта колода кухарка. Тщетно, сон не шел. Она принялась считать до ста.
Тысячи женщин подобно ей лежали сейчас в своих постелях без сна, не находя покоя. Те, чьи последние деньги были истрачены. Те, кто в похмелье утра поклялся сидеть дома и хорошо высыпаться, ночь за ночью. Те, кто устал от вечной охоты и отказался ночь за ночью искать чего-то, чему они даже имени не знали. Как и Зофи Ковалевская, беспокойно ворочались они с боку на бок. Не жажда спиртного, не тоска по объятиям лишали их сна и заставляли в конце концов снова вскакивать. Они не могли оставаться в одиночестве и уснуть тоже не могли. Чернота их комнат напоминала им о смерти. Они достаточно насмотрелись на смерть и наслушались о ней: ведь уже четыре года, как внутри страны и вне ее люди только и делали, что умирали. Да и сами они умрут рано – слишком рано умрут они. Но сейчас они еще были живы и потому хотели жить!
Как и другие, Зофи Ковалевская встает, торопливо одевается, словно боясь опоздать на неотложное свидание, словно ни за что не желая упустить очень важное дело. Она поспешно сбегает с лестницы и выходит на улицу.
Куда ей пойти? Она смотрит направо, налево. Собственно говоря, все равно куда. В душе она знает: повсюду то же самое. Но, помнится, ей хотелось посмотреть рестораны на центральных улицах. Очутившись среди людей, она вдруг перестала спешить и медленно направилась к центру.
9. Праквиц приглашает Штудмана
Долгая спокойная прогулка по Тиргартену протрезвила бывшего администратора фон Штудмана и дала возможность его другу, ротмистру фон Праквицу, описать ему Нейлоэ, это поместье, лежащее в глубине Неймарка, почти у польской границы, в кольце лесов. Праквицу и в голову не приходило изобразить его в более розовом свете, чем на самом деле, он не хотел вводить друга в заблуждение. Но вышло как-то само собой, что посреди этого сбитого с толку, развращенного, обезумевшего города образ поместья Нейлоэ вставал более чистым и тихим, там каждое лицо знакомо, каждый человек виден до конца, и ни зверье, ни былье не заражены бешенством.
Перед лицом этих фасадов – внизу мраморная отделка магазинов, наверху грубо размалеванные световые рекламы и потрескавшаяся, облупленная штукатурка – фон Праквицу было легко восклицать:
– Нет, мои постройки, хвала господу, не то что эти! Скромный, но добротный настоящий кирпич.
А когда они увидели выжженные газоны и заросшие сорняками клумбы Тиргартена, на уход за которыми уже не хватало средств (несмотря на обилие денег), он был вправе сказать:
– У нас тоже была большая засуха, но урожай все-таки богатый. Совершенно неожиданно!
В розарии розы оборваны, многие кусты поломаны. Видно, некоторые торговцы цветами снабжаются не на рынке, а здесь.
– У нас тоже воруют, но, хвала господу, не уничтожают!
Они сели на скамейку. Сухой воздух уже выпил дождевую сырость. Перед ними лежало Новое озеро с заросшими зеленью островками. Над ними высились безмолвные кроны деревьев. Из зоологического сада глухо доносился рев зверей.
– Мой тесть, – сказал господин фон Праквиц мечтательно, – пока еще сохранил свои восемь тысяч моргенов леса. И хотя старик и скупердяй, на разрешение охотиться он не скупится, ты мог бы пострелять там косуль.
Да, отсюда, в густеющих сумерках, Нейлоэ казался тихим, уединенным островом, и господин Штудман вовсе не был глух к его призыву. Еще утром он отвергал всякую мысль о бегстве в деревню. Но затем начался день с его непредвиденными событиями и доказал, что этот век может расшатать нервы даже фронтовику, провоевавшему четыре года. И дело было не столько в фантастическом и неприятном эпизоде с бароном фон Бергеном. К счастью, всемирная история знает не так уж много опасных сумасшедших, невозбранно бегающих по улицам, почему и столкновение с ними никак нельзя предусмотреть в своих жизненных расчетах.
Но этот печальный эпизод мучительным образом вскрыл всю бесчеловечность машины, которой фон Штудман до сих пор отдавал все силы, усердие, труд. Он надеялся, что тщательнейшим исполнением своих обязанностей заслужит если не признательность, то хоть уважение. А теперь испытал на себе, что падший, будь он последний лифтер или хоть главный директор, может рассчитывать лишь на бесстыдное, наглое любопытство окружающих. Не вмешайся в это дело тайный советник Шрек с его бурным характером и несколько своеобразными воззрениями на душевнобольных, Штудман был бы тут же бесцеремонно отстранен от работы, словно он преступник.
А так – его перед уходом все-таки обласкали, главный директор Фогель, несмотря на всю свою грузную тусклость, гибко лавируя между «с одной стороны» и «с другой стороны», уплатил ему деньги – разумеется, в валюте, – и осыпал его самыми теплыми заверениями…
– Я уверен, высокочтимый коллега, что этот незначительный, хотя и крайне неприятный эпизод, еще обернется для вас к лучшему. Если я правильно понял господина тайного советника Шрека, он ожидает от вас большого счета… очень большого.
– Нет, – заявил, сидя на скамье в Тиргартене, господин Штудман, как бы отвечая на свои мысли. – Я не хочу наживаться на моральной неполноценности этого фрукта.
– Что? – воскликнул фон Праквиц, вздрагивая. Он рассказывал другу об охоте на кабанов. – Нет, конечно, нет! Это я вполне понимаю. Да тебе и незачем.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































