Текст книги "Вечер у Клэр (сборник)"
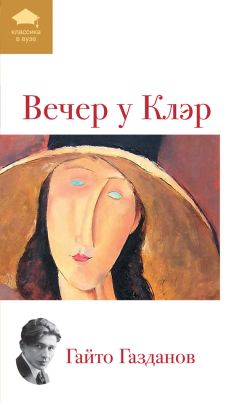
Автор книги: Гайто Газданов
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
– Плачу крупную сумму за неопровержимое доказательство того, что луна действительно плавает и что липы делаются из кружева.
И художник Северный, находившийся тут же, замечал с печальной улыбкой:
– А вы все шутите... – так как сам он никогда не шутил, потому что был к этому не способен и из-за этого недолюбливал шутников; он был всегда и неизменно грустен.
– Непобедимый человек, – сказал про него Белов, – и чемпион меланхолии. Но самое удивительное в нем то, что нет на земле другого мужчины, который обладал бы таким невероятным аппетитом.
– Северный, ну почему вы все время грустите? – спрашивала его какая-нибудь барышня. И Северный, с ожесточением улыбаясь и рассеянно глядя перед собой, отвечал:
– Трудно сказать...
Но великолепную паузу, следовавшую за этой фразой, прерывал Белов, декламировавший: кому повем печаль мою? При этом Белов оказался не только шутником; однажды, когда я пришел к нему невзначай, я услышал, приближаясь к его дому, как кто-то играл на скрипке серенаду Тозелли, и увидел, что играет сам Белов.
– Как, вы играете на скрипке? – изумился я. Он сказал просто, не шутя и не смеясь, как обычно:
– Нет ничего в мире лучше музыки.
И затем прибавил:
– И обидно не обладать никакими талантами. – Потом он сейчас же спохватился и, повторив фразу о том, что нет ничего лучше музыки, – но уже другим, всегдашним, своим тоном сказал: – Разве, пожалуй, дыни?.. – И сделал вид, что задумался. Но я уже знал то, что он считал нужным скрывать (он, вышучивавший всех, пуще всего боялся насмешек), – и после этого Белов стал относиться ко мне более сдержанно, чем раньше.
Художник Северный был человеком очень ограниченным. Он обыкновенно молчал, но зато если принимался разговаривать, то непременно говорил глупости. Он был очень доволен своими картинами, своей наружностью и успехом у женщин.
– Вы знаете, – рассказывал он, – ведь я недурен собой. Вот выхожу на днях из театра, ко мне нервно подбегает одна известная артистка и говорит: кто вы такой? Как ваша фамилия? Вы слышите? Я вас жду у себя сейчас... Что мне было делать? Я печально улыбнулся (он так и сказал: я печально улыбнулся) и ответил: моя дорогая, я не люблю артисток. Она закусила губу до крови, ударила себя веером по подбородку и, резко повернувшись, ушла. Я пожал плечами.
– Я запишу этот рассказ, – сказал Белов. – Так, вы говорите, закусывала губы и резко поворачивалась, не считая ударов веера, которые она наносила себе по подбородку? А вы печально улыбались?
Северный ничего не ответил и стал говорить о своем ателье. Его ателье было, кстати сказать, маленькой аккуратной комнатой с симметрично развешенными картинами. Белова, который как-то туда пришел, поразила нарисованная птичья голова, держащая в клюве какой-то темный кусок, отдаленно напоминавший обломок железа. Под картиной было написано: этюд лебедя. Белов недоверчиво спросил: это этюд?
– Этюд, – твердо сказал Северный.
– А что такое этюд?
– Видите ли, – ответил Северный, подумав, – это такое французское слово. – И он посмотрел вокруг себя, и взгляд его остановился на Смирнове, его ближайшем товарище и поклоннике его таланта. Смирнов кивком головы подтвердил слова Северного,
Смирнов ничего не понимал в живописи, как не понимал ничего выходящего за пределы его знаний, весьма скромных. Он учился в той же гимназии, что и я, но был тремя классами старше и во времена своей дружбы с Северным числился студентом местного университета. Он всегда носил с собой революционные брошюры, прокламации и готовый запас мыслей о кооперации и коллективизме; но он знал все эти вопросы только по популяризаторским книгам, а в истории социализма был слаб и не имел представления ни о сектантстве Сен-Симона, ни о банкротстве Оуэна, ни о сумасшедшем бухгалтере, прождавшем всю жизнь великодушного чудака, который пожелал бы ему дать миллион, с тем чтобы потом устроить при помощи этих денег счастье сначала во Франции, потом на всем земном шаре. Я спрашивал Смирнова:
– Тебе не надоели эти брошюры?
– Они помогут нам освободить народ.
Я не стал ему возражать; но в разговор вмешался Белов.
– Вы твердо уверены, что народ без вас не обойдется? – спросил он.
– Если все будут так рассуждать, мы никогда не станем сознательной нацией, – ответил Смирнов.
– Смотрите, – обратился ко мне Белов, – до чего довели этого симпатичного человека брошюры. Никогда нигде не существовало сознательных наций. Почему вдруг при помощи безграмотных книжонок мы все станем сознательными? И Смирнов нам будет читать об эволюции теории ценности, а Марфа, наша кухарка, жена чрезвычайных добродетелей, об эпохе раннего Ренессанса? Смирнов, предложите эти брошюры Северному. Скажите ему, что это этюды.
Но тут оказалось, что Северный давно уже коммунист и член партии. Белов очень обрадовался этому, пожимал Северному руку и говорил:
– Ну, голубчик, поздравляю. А я думал, что это он этюды все рисует?
Смирнов, говоривший всегда странным и напыщенным, специально агитационным языком, заметил:
– Ваша пустая ирония, товарищ Белов, может оттолкнуть от наших рядов ценных работников.
– Это не человек, – убежденно сказал Белов, обращаясь ко мне и к Северному. – Нет. Это газета. И даже не газета, а передовая статья. Вы передовая статья, вы понимаете?
– Я понимаю, может быть, больше, чем вы думаете.
– Какие глаголы! – насмешливо сказал Белов. – Понимать, думать. Кооперативная идеология не приемлет таких вещей.
Но насмешки Белова не могли подействовать ни на Северного, ни на Смирнова, так как, помимо того, что они были глупы, они еще находились во власти господствовавшей тогда моды на политические разговоры и социально-экономические рассуждения. Меня эта мода оставляла равнодушным; я интересовался только такими отвлеченными идеями, которые могли бы мне быть близки и имели бы для меня дорогое и важное значение; я мог часами сидеть над книгой Бёме, но читать труда о кооперации не мог. И время разговоров на политические темы – Россия и революция – мне представлялось странным, но смысл его, вернее, его движение казалось мне совершенно иным. Я вспоминал о нем, как и обо всем другом, чаще всего ночью: горела лампа над моим столом, за окном было холодно и темно; и я жил точно на далеком острове; и сейчас же за окном и за стеной теснились призраки, входившие в комнату, как только я думал о них. Тогда в России был холоден воздух, был глубок снег, чернели дома, играла музыка и все текло передо мной – и все было неправдоподобным, все медленно шло и останавливалось – и вдруг снова принималось двигаться; одна картина набегала на другую – словно ветер подул на пламя свечи и по стене запрыгали дрожащие тени, внезапно вызванные сюда Бог весть какой силой, Бог весть почему прилетевшие, как черные немые видения моих снов. А когда мои глаза уставали, я закрывал их, и перед моим взглядом как бы захлопывалась дверь; и вот из темноты и глубины рождался подземный шум, которому я внимал, не видя его, не понимая его смысла, стараясь постигнуть и запомнить его. Я слышал в нем и шорох песка, и гул трясущейся земли, и плачущий, ныряющий звук чьего-то стремительного полета, и мотивы гармоник и шарманки; и, наконец, ясно доходил до меня голос хромого солдата:
Горел-шумел пожар московский...
И тогда я вновь открывал глаза и видел дым и красное пламя, озарявшее холодные зимние улицы. Тогда вообще было чрезвычайно холодно: и в гимназии, например, – я был в шестом классе, – мы сидели, не снимая пальто, и преподаватели ходили в шубах. Им очень редко платили жалованье – и все же они всегда аккуратно являлись на уроки. Бывало несколько предметов, по которым некому было преподавать, образовывались свободные часы – и мы пользовались этой свободой, чтобы распевать всем классом каторжные песни, которым нас учил Перенко, высокий малый, лет восемнадцати, живший на неспокойной окраине города, росший среди будущих воров и, может быть, убийц. Он носил с собой финский нож, говорил всегда воровскими словечками, как-то особенно щелкал языком и плевал сквозь зубы. Он был прекрасным товарищем и плохим учеником – не потому, однако, что не обладал никакими способностями, а по другой причине: родители его были люди простые. Никто в семье не мог ему помочь в его занятиях. В маленькой квартире, прилегавшей к столярной мастерской, которую держал его отец, никто не знал ни Столетней войны, ни войны Алой и Белой роз, и все эти названия, и иностранные слова, и запутанные события новой истории, точно так же, как законы теплоты и отрывки из французских и немецких классиков, – все это было настолько чуждо Перенко, что он не мог этого ни понять, ни запомнить, ни, наконец, почувствовать, что это имеет какой-то смысл, который был бы хоть в незначительной степени для чего-нибудь пригоден. Перенко мог бы заинтересоваться этим, если бы духовные его потребности не нашли другого применения. Но, как большинство людей такого типа, он был очень сентиментален; и каторжные свои песни он пел чуть ли не со слезами на глазах: они заменяли ему те душевные волнения, которые вызывают книги, музыка и театр – и потребность которых была у него, пожалуй, сильнее, чем у его более образованных товарищей. Большинство преподавателей этого не знали и считали Перенко просто хулиганом; и только учитель русского языка относился к нему с особенной серьезностью и вниманием и никогда не смеялся над его невежественностью, за что Перенко сердечно его любил и отличал от других.
Этот учитель казался нам странным человеком – потому что на своих уроках говорил не о тех вещах, к которым мы привыкли и которым я учился пять лет в гимназии, до тех пор, пока не перевелся в другую – именно в ту, где преподавал Василий Николаевич; его звали Василий Николаевич.
– Вот я назвал вам имя Льва Толстого, – говорил он. – А ведь в народе о нем совсем особенное было представление. Моя мать, например, которая была совсем простой женщиной, швеей, как-то хотела идти к Толстому после смерти моего отца, советоваться с ним: что ей делать дальше; положение было плохое, она была очень бедная. А к Толстому хотела идти потому, что считала его последним угодником и мудрецом на земле. У нас с вами другие взгляды, а мать моя была проще и, наверное, психологии Анны Карениной и князя Андрея и уж особенно графини Безуховой, Элен, не поняла бы; мысли у нее были несложные, зато более сильные и искренние; а это, господа, большое счастье. – Потом он заговорил о Тредьяковском, объяснил разницу между силлабическим и тоническим стихосложением и в заключение сказал:
– Тредьяковский был несчастный человек, жил в жестокое время. Положение его было унизительное; представьте себе, при тогдашней грубости придворных нравов, эту роль – нечто среднее между шутом и поэтом. Державин был много счастливее его.
Сам Василий Николаевич напоминал раскольничьего святого – в седой бородке, в простых железных очках; говорил он скоро, тем северорусским языком, который звучит на Украине так неожиданно. Одевался он очень плохо и бедно; и не знающий его человек, увидя его на улице, никогда бы не подумал, что этот старичок может быть прекрасным и образованным педагогом. В нем было что-то подвижническое: я вспоминал его хмурые седые брови и покрасневшие глаза, глядящие сквозь очки; его искренность, мужество и простоту, он не скрывал ни своих убеждений, которые могли показаться чересчур левыми при гетмане и слишком правыми при большевиках, ни того, что его мать была швеей, – а в этом редко кто признался бы. Мы учили тогда протопопа Аввакума, и Василий Николаевич читал нам длинные отрывки:
«...Егда же рассветало в день недельный, посадили меня на телегу и растянули руки, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря, и тут на чепи кинули в темную полатку, ушла в землю, и сидел три дни, ни ел, ни пил; во тме сидя, кланялся на чепи, не знаю – на восток, не знаю – на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысть же я в третий день приалчен, – сиречь, есть захотел, – и после вечерни ста предо мною не вем – ангел, не вем – человек, и по се время не знаю, токмо в потемках молитву сотворил, и, взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил, и лошку в руки дал, и хлебца немношко, и штец дал похлебать, – зело привкусны, хороши! – и рекл мне: «полно, довлеет ти ко укреплению». Да и не стало его... Отдали чернцу под начал, велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и за чепь трогают, и в глаза плюют. Бог их простит в сий век и в будущий: не их дело, но сатаны лукаваго».
«Таже ин началник, во ино время, на мя рассвирепел, – прибежал ко мне в дом, бив меня, и у руки огрыз персты, яко пес, зубами. И егда наполнилась гортань его крови, тогда руку мою испустил из зубов своих и, покиня меня, пошел в дом свой. Аз же, поблагодаря Бога, завертев руку платом, пошел к вечерне. И егда шел путем, наскочил на меня он же паки со двемя малыми пищальми, и близ меня быв, запалил из пистоли, и, Божиею волею, на полке порох пыхнул, а пищаль не стрелила. Он же бросил ея на землю, и из другия паки запалил так же, и Божия воля учинила так же, – и та пищаль не стрелила. Аз же прилежно, идучи, молюсь Богу, одиною рукою осенил его и поклонился ему. Он меня лает; а я ему рекл: «благодать во устнех твоих, Иван Родионович, да будет!» Сердитовал на меня за церковную службу: ему хочется скоро, а я пою по уставу, не борзо; так ему было досадно. Посем двор у меня отнял, а меня выбил, всего ограбя, и на дорогу денег не дал».
Он читал очень хорошо; и мой товарищ, Щур, один из самых способных и умных, каких мне приходилось встречать, говорил мне:
– Ты знаешь, Василий Николаевич сам похож на протопопа Аввакума; такие вот люди и шли на костер.
– Кто из вас не знает легенды о плясуне Богоматери? – спросил однажды Василий Николаевич.
Легенду эту знал только один человек в классе: это был еврей с нежным детским лицом, по фамилии Розенберг; он был такой маленький, что на вид ему можно было дать двенадцать или одиннадцать лет, а на самом деле ему уже исполнилось шестнадцать. По утрам гимназистки восьмого класса, встречая его на улице, кричали ему: мальчик, мальчик, беги скорей, опоздаешь! – и Розенберг обижался до слез. Он был гораздо умнее и развитее, чем можно было ожидать в его возрасте: он очень много читал и помнил и нередко знал странные вещи, прочитанные им когда-то в большом календаре и оставшиеся в его памяти: способы удобрения в Мексике, религиозные суеверия полинезийцев и анекдоты, относящиеся ко временам зарождения английского парламентаризма. И этот Розенберг знал легенду о плясуне Богоматери – потому, говорил он, вызванный на объяснения Василием Николаевичем, что кто же ее не знает? Но все-таки большинство учеников никогда не слыхали об этой легенде; и Василий Николаевич рассказал нам ее: все слушали внимательно, и Перенко, разглядывавший перед тем свой финский нож, так и остался сидеть, не отводя глаз от белого металла и глубоко задумавшись. Дня через два Василий Николаевич советовал нам прочесть то начало позднейшей биографии Толстого, где говорится о муравейных братьях, – и о муравейных братьях ничего не знал даже Розенберг. В тот же день на меня обиделся новый священник, только что прибывший в гимназию, носивший шелковую рясу и лакированные ботинки. Он вошел в первый раз в класс, перекрестился с особой, как мне показалось, кокетливостью, осмотрел учеников и сказал:
– Господа, теперь такое время, когда Закон Божий и история церкви, кажется, не в моде. – Он покачал головой, скривил губы и иронически хихикнул несколько раз. – Может быть, среди вас есть атеисты, не желающие присутствовать на моих уроках? Тогда, – он насмешливо улыбнулся и развел руками, – пусть они встанут и уйдут из класса. – Дойдя до слов «уйдут из класса», он стал серьезен и строг, как бы подчеркивая, что теперь с насмешкой над невежественными атеистами покончено и что, конечно, никто об уходе из класса не подумает. Этот человек был пропитан гордостью и никогда не упускал случая напомнить, что религия теперь гонима и что подчас от служителей ее требуется незаурядное мужество, – как это бывало во времена начала христианства, – и он приводил священные цитаты, причем постоянно ошибался в текстах и заставлял святого Иоанна произносить слова, принадлежащие чуть ли не Фоме Аквинскому; я думаю, впрочем, что это не имело в его глазах большого значения: он защищал не догматическую религию, в которой был нетверд, а нечто другое. И это другое выражалось в том, что он привык к положению «гонимаго» и мало-помалу так сжился с ним, что если бы религия вновь вошла в почет, то ему решительно нечего было бы делать и стало бы, наверное, очень трудно и скучно.
Я встал и вышел из класса. Он провожал меня глазами и сказал:
– Помните место в богослужении: «Оглашенные, изыдите!»?
Через неделю Василий Николаевич спросил меня:
– Вы, Соседов, в Бога верите?
– Нет, – отвечал я, – а вы, Василий Николаевич?
– Я очень верующий человек. Кто может до конца веровать, тот счастлив.
Вообще слова, которые он употреблял чаще всего, были «счастливый» и «несчастный». Он принадлежал к числу тех непримиримых русских людей, которые видят смысл жизни в искании истины, даже если убеждаются, что истины в том смысле, в котором они ее понимают, нет и быть не может. Преподавание русского языка всегда было связано у него с замечаниями о других вещах, нередко не имевших непосредственного отношения к его предмету, с рассуждениями о современности, религии, истории; и во всем этом он обнаруживал удивительные познания. Вдруг выяснялось, что он был за границей, долго жил в Швейцарии, Англии, Франции, хорошо знал иностранные языки, и ко всему, что он видел там, он отнесся со вниманием: он все искал свою истину – везде, где только ни был. Я часто потом думал: найдет ли он ее, хватит ли у него мужества обмануть себя – и умрет ли он спокойно? И мне казалось, что даже если бы ему почудилось, что он ее нашел, он, наверное, поспешил бы отречься от нее – и снова искать; и, может быть, его истина не носила в себе наивной мысли о возможности обретения того, чем мы никогда не обладали; и, уж наверное, она не заключалась в мечте о спокойствии и тишине, потому что умственное бездействие, на которое это обрекло бы его, было бы для него позором и мучением. Василий Николаевич был одним из тех преподавателей, которых я любил за все время моего пребывания в разных учебных заведениях. Все остальные были людьми ограниченными, заботились только о своей карьере и на преподавание смотрели как на службу. Хуже других были священники – самые тупые и невежественные педагоги. Только первый законоучитель, академик и философ, казался мне человеком почти замечательным, хотя и фанатиком. Он не был педантом: в пятом классе, когда я подолгу расспрашивал его об атеистическом смысле «Великого Инквизитора» и о «Жизни Иисуса» Ренана, – тогда я читал «Братьев Карамазовых» и Ренана, а курса не учил и не знал ни катехизиса, ни истории церкви, и он целый год не вызывал меня к ответу, – в последней четверти, однажды, поманив меня к себе пальцем, он тихо сказал:
– Ты думаешь, Коля, – он называл всех на «ты» и по именам, так как преподавал у нас с первого класса, – что я не имею никакого представления о твоих познаниях в катехизисе? Я, миленький, все знаю. Но я все-таки ставлю тебе пять, потому что ты хоть немного религией интересуешься. Ступай.
Когда он произносил свои проповеди, на глазах у него стояли слезы; в Бога, впрочем, он, кажется, не верил. Он напоминал мне Великого Инквизитора в миниатюре: он был непобедим в диалектических вопросах и вообще был бы более хорош как католик, чем как православный. И у него был прекрасный голос – сильный и умный, – потому что мне неоднократно приходилось замечать, что голос человека, так же как его лицо, может быть умным и глупым, талантливым и бездарным, благородным и подлым. Его убили спустя несколько лет, во время Гражданской войны, где-то на юге – и известие о его смерти мне было тем более тягостно, что я вообще не любил священников и, следовательно, поступал нехорошо по отношению к этому человеку, которого теперь уже нет в живых.
Я не знал, собственно, почему я питал неприязнь к людям духовного звания; пожалуй, в силу какого-то убеждения, что они стоят на более низкой социальной ступени, чем все остальные, – они и еще полицейские. Им нельзя было подавать руку, нельзя было приглашать их к столу; и я помнил длинную фигуру околоточного, приходившего ежемесячно получать взятку – Бог знает за что, – терпеливо ожидавшего в передней, пока горничная не выносила ему денег, после чего он молодцевато кашлял и уходил, звеня огромными шпорами на лакированных сапогах с чрезвычайно короткими голенищами, какие носили только околоточные да еще почему-то регенты церковных хоров. С взятками же священникам мне пришлось столкнуться однажды, когда я учился в третьем классе, заболел за две недели до Пасхи и не говел в гимназической церкви; и отец Иоанн сказал мне, что необходимо осенью принести в гимназию свидетельство о говении, иначе меня не переведут и оставят на второй год. То лето я проводил, как почти всегда, в Кисловодске. Дядя мой, Виталий, скептик и романтик, оставшийся навеки драгунским ротмистром за то, что вызвал на дуэль командира полка, а в ответ на его отказ драться дал ему пощечину в офицерском собрании и сидел потом пять лет в крепости, откуда вышел очень изменившимся человеком и где он приобрел удивительную и вовсе уж для офицера необыкновенную эрудицию в вопросах искусства, философии и социальных наук и затем продолжал служить в том же полку, но не продвигался в чинах, – дядя мой сказал мне:
– Возьми, Коля, десять рублей и пойди к этому долгогривому идиоту. Попроси у него свидетельство о говении. В церковь тебе нечего ходить, лоботрясничать. Просто дай ему деньги и возьми у него свидетельство.
Дядя Виталий всегда всех ругал и всем был недоволен, хотя в личном обращении и отношении к людям был, в общем, добр и снисходителен, и когда тетка собиралась наказывать своего восьмилетнего сына, он брал его под защиту и говорил:
– Оставь ты его в покое, он не понимает, что он сделал. Не забывай, что этот ребенок поразительно глуп; и если ты его высечешь, он умнее не станет. Кроме того, бить детей вообще нельзя, и этого не знают только такие невежественные женщины, как ты.
Почти каждую свою речь дядя начинал словами:
– Эти идиоты...
– Мне священник не выдаст свидетельства так просто, – сказал я, – ведь я должен сначала говеть.
– Это все глупости. Заплати ему десять рублей, и больше ничего. Делай так, как я тебе говорю.
Я пошел к священнику. Он жил в маленькой квартире с двумя креслами ярко-желтого цвета и портретами архиереев на стенах. В ответ на мою просьбу о свидетельстве он сказал:
– Сын мой, – меня покоробило это обращение, – приходите в церковь, сперва исповедуйтесь, потом причаститесь, потом можно будет через недельку и свидетельство выдать.
– А сейчас нельзя?
– Нет.
– Я бы хотел сейчас, батюшка.
– Нельзя сейчас, – сказал священник, начиная сердиться на мою непонятливость. Тогда я вынул десять рублей и положил их на стол, а на священника не посмотрел, потому что мне было стыдно. Он взял деньги, засунул их в карман, отбросив полу рясы и обнаружив под ней узкие черные штаны со штрипками, и позвал: – Отец дьякон! – Из соседней комнаты вышел дьякон, жуя что-то; лицо его было покрыто потом от сильной жары, и так как он был очень толст, то пот буквально струился с него; и на его бровях висели светлые капельки.
– Выдайте этому молодому человеку свидетельство о говении.
Дьякон кивнул головой и тотчас написал мне свидетельство – особенным квадратным почерком, довольно красивым.
– Что я тебе сказал? – буркнул дядя. – Я, брат, их знаю...
Тетка ему заметила:
– Ты бы хоть мальчику таких вещей не говорил.
И он ответил:
– Этот мальчик, как и всякий другой мальчик, понимает нисколько не меньше тебя. Я, матушка, это прекрасно знаю. Уж если ты меня начнешь учить, то мне только повеситься останется.
Вечерами Виталий сидел на террасе дома, погруженный в задумчивость.
– Почему ты так долго сидишь на террасе? – спрашивал я.
– Я погружаюсь в задумчивость, – отвечал Виталий и придавал этому выражению такой оттенок, точно он действительно погружался в задумчивость – как в воду или в ванну. Изредка он разговаривал со мной:
– Ты в каком классе?
– В четвертом.
– Что же ты теперь учишь?
– Разные предметы.
– Глупости тебе все преподают. Что ты знаешь о Петре Великом и Екатерине? Ну-ка, расскажи.
Я ему рассказывал. Я ждал, что после того, как я кончу говорить, он скажет:
– Эти идиоты...
И он действительно так и говорил:
– Эти идиоты тебе преподают неправду.
– Почему неправду?
– Потому что они идиоты, – уверенно сказал Виталий. – Они думают, что если у тебя будет ложное представление о русской истории как смене добродетельных и умных монархов, то это хорошо. В самом же деле ты изучаешь какую-то сусальную мифологию, которой они заменяют историческую действительность. И в результате ты окажешься в дураках. Впрочем, ты все равно окажешься в дураках, даже если будешь знать настоящую историю.
– Непременно окажусь в дураках?
– Непременно окажешься. Все оказываются.
– А вот ты, например?
– Ты говоришь дерзости, – совершенно спокойно ответил он. – Таких вопросов нельзя задавать старшим. Но если ты хочешь знать, то и я сижу в дураках, хотя предпочел бы быть в другом положении.
– А что же делать?
– Быть негодяем, – резко сказал он и отвернулся.
Он был несчастен в браке, жил почти отдельно от семьи и хорошо знал, что его жена, московская дама, очень красивая, была ему неверна; он был намного старше ее. Я приезжал в Кисловодск каждое лето и всегда заставал там Виталия – до тех пор, пока меня не отделили от Кавказа движения различных большевистских и антибольшевистских войск, происходившие на Дону и на Кубани. И только за год до моего отъезда из России, во время Гражданской войны, я опять приехал туда и снова увидел на террасе нашей дачи согнувшуюся в кресле фигуру Виталия. Он состарился за это время, поседел, лицо его стало еще более мрачным, чем раньше.
– Я встретил в парке Александру Павловну (это была его жена), – сказал я ему, здороваясь. – У нее прекрасный вид.
Виталий хмуро на меня посмотрел.
– Ты помнишь пушкинские эпиграммы?
– Помню.
Он процитировал:
Тебе подобной в мире нет.
Весь свет твердит, и я с ним тоже:
Другой, что год, то больше лет,
А ты, что год, то все моложе.
– У тебя очень недовольное выражение, Виталий.
– Что делать? Я, брат, старый пессимист. Ты, говорят, хочешь поступить в армию?
– Да.
– Глупо делаешь.
– Почему?
Я думал, что он скажет «эти идиоты». Но он этого не сказал. Он только опустил голову и проговорил:
– Потому что добровольцы проиграют войну.
Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня не очень интересовала. Я хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в Белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в Красную армию. Но меня удивило, что Виталий, старый офицер, относится к этому с таким неодобрением. Я не вполне понимал тогда, что Виталий был слишком для этого умен и вовсе не придавал своему офицерскому чину того значения, какое ему обычно придавалось. Но все же я спросил его, почему он так думает. Равнодушно поглядев на меня, он сказал, что они, то есть те, в чьих руках находится командование антиправительственными войсками, не знают законов социальных отношений.
– Там, – сказал он, оживляясь, – там вся северная голодная Россия. Там, брат, идет мужик. Знаешь ли ты, что Россия крестьянская страна, или тебя не учили этому в твоей истории?
– Знаю, – ответил я. Тогда Виталий продолжал.
– Россия, – говорил он, – вступает в полосу крестьянского этапа истории, сила в мужике, а мужик служит в Красной армии.
У белых, по презрительному замечанию Виталия, не было даже военного романтизма, который мог бы показаться привлекательным; Белая армия – это армия мещанская и полуинтеллигентская.
– В ней служат кокаинисты, сумасшедшие, кавалерийские офицеры, жеманные, как кокотки, – резко говорил Виталий, – неудачные карьеристы и фельдфебели в генеральских чинах.
– Ты все всегда ругаешь, – заметил я. – Александра Павловна говорит, что это твоя profession de foi[27]27
Букв.: исповедание веры (фр.)– изложение взглядов.
[Закрыть].
– Александра Павловна, Александра Павловна, – с неожиданным раздражением сказал Виталий. – Profession de foi. Какая глупость! Двадцать пять лет, со всех сторон и почти ежедневно, я слышу это бессмысленное возражение: ты все ругаешь. Да ведь я думаю о чем-нибудь или нет? Я тебе излагаю причины неизбежности такого исхода войны, а ты мне отвечаешь: ты все ругаешь. Что ты – мужчина или тетя Женя? Я Александру Павловну упрекнул за то, что она все какую-то Лаппо-Нагродскую читает, и она мне тоже сказала, что я все по обыкновению ругаю. Нет, не все. Я литературу, слава Богу, знаю лучше и больше люблю, чем моя жена. Если я что-нибудь браню, значит, у меня есть для этого причины. Ты пойми, – сказал Виталий, поднимая голову, – что из всего, что делается в любой области, будь это реформа, реорганизация армии, или попытка ввести новые методы в образование, или живопись, или литература, девять десятых никуда не годится. Так бывает всегда; чем же я виноват, что тетя Женя этого не понимает? – Он помолчал с минуту и потом отрывисто спросил:
– Сколько тебе лет?
– Через два месяца будет шестнадцать.
– И черт несет тебя воевать?
– Да.
– А почему, собственно, ты идешь на войну? – вдруг удивился Виталий. Я не знал, что ему ответить, замялся и наконец неуверенно сказал:
– Я думаю, что это все-таки мой долг.
– Я считал тебя умнее, – разочарованно произнес Виталий. – Если бы твой отец был жив, он не обрадовался бы твоим словам.
– Почему?
– Послушай, мой милый мальчик, – сказал Виталий с неожиданной мягкостью. – Постарайся разобраться. Воюют две стороны: красная и белая. Белые пытаются вернуть Россию в то историческое состояние, из которого она только что вышла. Красные ввергают ее в такой хаос, в котором она не была со времен царя Алексея Михайловича.
– Конец Смутного времени, – пробормотал я.
– Да, конец Смутного времени. Вот тебе и пригодилась гимназия. – И Виталий принялся излагать мне свой взгляд на тогдашние события. Он говорил, что социальные категории – эти слова показались мне неожиданными, я все не мог забыть, что Виталий – офицер драгунского полка, – подобны феноменам, подчиненным законам какой-то нематериальной биологии, и что такое положение если и не всегда непогрешимо, то часто оказывается приложимым к различным социальным явлениям. – Они рождаются, растут и умирают, – говорил Виталий, – и даже не умирают, а отмирают, как отмирают кораллы. Помнишь ли ты, как образуются коралловые острова?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































