Текст книги "Приключения Ромена Кальбри"
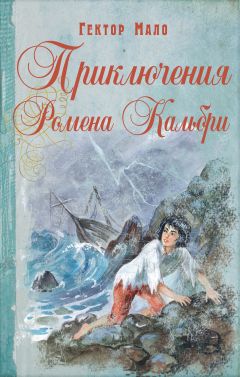
Автор книги: Гектор Мало
Жанр: Детская проза, Детские книги
Возрастные ограничения: +6
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Минут через пять мы встретили жандарма. Он остановил нас и спросил, почему девочку несут на руках.
Рабочий рассказал ему все, что услышал от меня.
– Пойдемте в приемный покой! Как бы девочка-то не умерла, – обеспокоился жандарм. Вскоре мы подошли к какому-то дому, над дверями его висел красный фонарь. В большой комнате около камина, в котором трещали дрова, сидели жандармы.
Так как Дьелетта не могла говорить, то допрашивали меня, и я опять рассказал свою историю.
– Я, право, думал, что она умерла, – сказал рабочий, – а ко мне идти далеко, да и доктора у меня нет…
– Нет, она жива, но очень больна, и ее надо отнести в центральное отделение.
– Ну, а ты? – спросил меня дежурный полицейский. – Есть у тебя средства к существованию?
Я смотрел на него, ничего не понимая.
– Есть у тебя деньги?
– У меня есть двадцать су.
– Ты можешь идти, но если тебя найдут на улице, тебя арестуют.
Дьелетту положили на носилки, завернули в одеяло, потом вместе с носилками покрыли простыней и унесли.
Рабочий звал меня с собой, но я отказался. Я решил идти за Дьелеттой, чтобы все узнать о ней.
Я был обескуражен, поскольку не предполагал, что она так больна. Нужно было узнать, куда ее понесут, и хоть мне и сказали, что если меня найдут на улице, то арестуют, я все-таки решил следовать за носилками.
Мы расстались с добряком-рабочим, – он оказался шорником, – и я поблагодарил его за помощь.
– Смотри, малый, пропадешь, – сказал он мне и сунул в руку какую-то монету. Но я так был занят мыслью о Дьелетте, что даже не посмотрел, сколько он мне дал, и опустил деньги в карман.
Мы шли долго. Перешли Сену, пришли на площадь, где была большая красивая церковь. Мне позволили войти вместе с ними. Господин в черном подошел к носилкам, открыл простыню, Дьелетта лежала красная, как пион.
Он начал ласково ее спрашивать, я подошел и отвечал за нее на его вопросы. Здесь мне пришлось в третий раз рассказать мою историю.
– Хорошо, – сказал он холодно, – у нее сильное переутомление и воспаление легких. Ее надо отправить в больницу.
Он написал несколько слов на бумаге. Мы вышли и опять пошли по скользкому снегу. Идти было трудно. Ноги скользили. Носильщики отдыхали несколько раз, тогда я подходил к носилкам и заговаривал с Дьелеттой. Несколько раз она отвечала мне слабым голосом, но под конец перестала отвечать. Этот путь был еще продолжительнее первого. Наконец, на одной малолюдной улице мы остановились перед зеленой дверью и вошли в большую прихожую. К нам подошли люди в белых передниках.
Мы с Дьелеттой поняли, что должны расстаться.
Она отбросила простыню, посмотрела на меня блестящими глазами и тихо спросила:
– Ты меня покинешь?
Я думал только о ней, о нашей разлуке, я видел ее на носилках, с умоляющим взором, и ответил:
– Нет, я тебя не оставлю.
Она едва успела поблагодарить меня взглядом, и ее унесли. Я стоял, недоумевая и не двигаясь с места, пока служитель не велел мне уходить.
– Могу ли я увидеть ее?
– По воскресеньям и четвергам.
Я опять оказался на улице.
Наступала ночь. В некоторых домах уже горели огни. И тут впервые мне в голову пришла мысль, где я буду ночевать? О том, как я буду жить в Париже, пока Дьелетта поправится, я подумал только на другой день. У меня не было никакого плана, да и привычка к лишениям сделала меня равнодушным ко всяким случайностям.
Однако я ничего не мог придумать и просто шел наудачу. Я не знал, что в этом громадном городе живут тысячи таких же несчастных, как я, которые тоже не знали, где они будут спать и что они будут есть, но все-таки находили и место для ночлега, и пищу. Прожив бо́льшую часть жизни в деревне, я мог представить себе лишь такие места для ночлега, какие пришли бы на ум крестьянину: овин, конюшня, сарай, сеновал, – но здесь, в большом городе, я не видел ничего подобного, только дома, дома и опять дома.
Выйдя из госпиталя, я повернул направо и вышел на широкий бульвар с громадными деревьями. Я не знал, куда он ведет, и меня это не занимало. Не имея определенной цели, я шел наугад, и любая улица годилась для того, чтобы я мог по ней идти. Я шел медленно, потому что очень устал и передвигался с большим трудом. Мои ноги так замерзли, что я их не чувствовал.
На боковой аллее бульвара дети устроили каток, я машинально остановился, чтобы посмотреть на них. Между ними я вдруг заметил знакомое лицо. Это был мальчик, которого я видел в Фалезе, где он был в труппе Виньяли, звали его Бибош. Наши балаганы стояли рядом, и мы с Бибошем играли вместе, когда в цирке не было представлений. Он узнал меня и подошел ко мне сам.
– Что ты делаешь в Париже? А ваш лев тоже здесь? Пойдем, я хочу видеть Дьелетту.
Я ему рассказал, что убежал от Лаполада, что в Париже я только с сегодняшнего утра и сейчас нахожусь в большом затруднении, так как не знаю, где бы мне переночевать. Я не сказал ему ничего о Дьелетте и только спросил его, как он думает, примут ли меня в их труппу?
– Наверное, примут, если ты парень фартовый!
Я не знал, что нужно уметь, чтобы быть «фартовым», но мне так нужно было пристанище, что я ответил, что, вероятно, окажусь не хуже других.
– Ну, так по рукам! – воскликнул Бибош.
– А как же хозяин?
– Какой там хозяин, вот чучело! Это я тебя приглашаю, ты вступаешь в нашу труппу, и я научу тебя лямзить.
Я не понимал его нового языка. Без сомнения, это были парижские выражения, и я не хотел казаться удивленным. Хотя мне все-таки было странно, что Бибошу нет еще одиннадцати лет, а он толст, как хорек, и уже начальник труппы.
– Тебе холодно? – спросил он меня, видя, что весь я дрожу. – Иди за мной, я тебя согрею.
Он повел меня в винный погребок, где заставил выпить стакан теплого вина.
– Теперь идем ужинать.
Но вместо того, чтобы идти к центру Парижа, мы повернули налево и долго шли по улицам, где прохожих было совсем мало и дома имели вид грязный и бедный. Бибош заметил, что я несколько удивлен.
– А ты думал, что я тебя буду принимать в королевском дворце? – спросил он, смеясь.
Мы вышли за город. Хотя была уже ночь, но еще не совсем стемнело. Мы свернули с дороги и пошли прямо через поле по тропинке. Перед какой-то ямой Бибош остановился.
– Здесь, – сказал он, – дай мне руку, да смотри – не упади.
Мы спустились в какую-то каменоломню. Сделав несколько поворотов, мы вошли в подземную галерею. Бибош вынул из кармана огарок свечи и зажег его, а я уже едва сдерживал удивление.
– Еще минута – и мы придем.
Почти тотчас же я заметил красный свет в глубине каменоломни. Это была жаровня, около нее, растянувшись, лежал мальчик одних лет с Бибошем.
– Никого еще нет? – спросил Бибош.
– Нет еще.
– Прекрасно. Это мой приятель, – продолжал он. – Поищи ему, пожалуйста, ботинки, они ему очень нужны.
Мальчик встал, отошел в боковую галерею и почти тотчас же вернулся с запасом обуви. Можно было подумать, что я попал в сапожную лавочку.
– Выбирай, – сказал Бибош. – Может быть, тебе надо и носки? Ты только скажи, тебе дадут.
Не могу вам выразить того блаженства, какое я испытал, когда мои истертые замерзшие ноги согрелись в нитяных носках и новых ботинках.
Когда я переменил обувь, пришли два мальчика, потом третий, потом четвертый, потом еще трое, одетые во все новое.
Бибош представил им меня:
– Это мой приятель, я его знал, когда работал в цирке, он фартовый парень! Ну, показывайте, кто что сделал.
Каждый стал опустошать карманы и мешки: один принес ветчину, другой бутылку. Кто-то вытащил из кармана небольшую бутылочку с серебряным детским рожком.
При виде рожка в труппе поднялся шум, послышались шутливые замечания и смех.
– Ничего! – сказал Бибош. – И это хорошо. Он будет пить из рожка, – и он указал на меня.
Все уселись вокруг жаровни прямо на землю. Бибош пригласил и меня ужинать и, как гостю, мне предложили поесть первым. Давно я уже не видел такой роскоши. Признаться, что ни дома, ни у де Бигореля я никогда не имел случая принять участие в таком роскошном пире. После ветчины была холодная индейка, потом пирог с гусиной печенкой. Я был так голоден, что приводил в изумление всю труппу своим аппетитом.
– На здоровье, – говорил за всех Бибош, – приятно угощать друзей, которые так уписывают еду.
От обильного ужина, тепла и усталости я отяжелел, и меня потянуло ко сну.
– Ты хочешь спать, – сказал Бибош, видя, как у меня слипаются глаза, – не стесняйся. К сожалению, я не могу предложить тебе ни подушки, ни перины, но ты и так будешь крепко спать, не правда ли? Еще стакан доброго пунша, и мы пожелаем тебе спокойной ночи, – предложил он.
От пунша я, к великому изумлению всего общества, отказался. Я попросил только указать мне место, где я могу лечь.
– Сейчас я тебя провожу.
Бибош зажег свечу от жаровни и, идя впереди, проводил меня в боковую галерею каменоломни, где на полу лежал толстый слой соломы, покрытый тремя одеялами.
– Спи спокойно, завтра мы поговорим с тобой, – и он оставил меня одного, унеся и свечу.
Я не чувствовал себя спокойно в этой каменоломне, где мои глаза ничего не могли различить во тьме, к тому же я был сильно заинтригован. Мне хотелось узнать, кто были мои новые товарищи. Их мешки с бутылками и ветчиной казались мне подозрительными, но усталость взяла свое: едва я завернулся в одеяло, как тотчас же уснул. «Мы поговорим завтра», – сказал Бибош. Да, завтра будет время объясниться. А сегодня у меня есть пристанище, и я хорошо поужинал.
Я слишком много пережил за этот день и уснул так крепко, что ни крики, ни смех пьющей компании в нескольких шагах от меня нисколько не мешали мне спать.
На другой день Бибош разбудил меня. Без него я бы, наверное, проспал целые сутки.
– Вставай, одевайся, вот тебе одежда.
Я сбросил свое тряпье и надел платье, которое мне подал Бибош: панталоны и куртку из пушистого, мягкого сукна.
Слабый свет дня проникал под своды этого глубокого подземелья.
– Ну, мой друг, – говорил Бибош, пока я одевался, – я думал о тебе и вот к чему пришел: ты, наверное, не мастер в ремесле, не правда ли?
– Вероятно, да.
– Я не сомневаюсь: это видно сейчас же. Но если ты думаешь приняться за дело не обучаясь, это к добру не приведет, а потому я дам тебе учителя, ты будешь для него «мышонком».
При всем моем желании не показать себя невеждой в знании парижского языка, невозможно было оставить это слово без объяснения. Если мне предстоит «стать мышонком», то должен же я знать, как?
– Ты кончил одеваться? – спросил Бибош, видя мое недоумение.
– Да.
– Чудесно, пойдем теперь завтракать, а после я отведу тебя к своему другу.
Я последовал за ним. Жаровня погасла, и никаких следов не осталось от вчерашнего пиршества: все было чисто и пусто. Свет проникал в помещение через вход и освещал только два столба, поддерживающих свод, да развалы камней.
Из углубления в стене Бибош достал бутылку, хлеб и остатки ветчины.
– Отрежем кусок и позавтракаем у твоего нового хозяина, – сказал Бибош.
Я набрался смелости спросить, кто он и что я должен буду делать.
– Не смейся, пожалуйста, надо мной, – сказал я ему, – ты знаешь, что я не бывал в Париже и здешнего языка не знаю. Объясни мне, что такое «мышонок»?
Этот вопрос привел его в такое веселое расположение духа, что я боялся, как бы он не задохнулся от смеха.
– Ах, какие чудаки эти провинциалы, – сказал он. – Так ты не знаешь, что значит «мышонок»? Это значит мальчишка, – понимаешь? Такой, как ты, как я, не очень тупой и не очень проворный. Ты, вероятно, не знаешь, как многие купцы закрывают свои лавки в то время, когда они обедают в кухне?
Я не понимал, какую связь он усматривает между этими двумя понятиями: что такое «мышонок» и как закрывают купцы на обед свои лавочки?
– Они их закрывают посредством маленькой планочки, – продолжал Бибош, передавая мне бутылку, которую он наполовину опорожнил. – Эта планочка сдерживает пружинку, которая соединяется со звонком, и вот когда кто-то входит, отворяя дверь, он толкает планку, та передает толчок звонку, и звонок звенит, а купец, который сидит спокойно в кухне или в задней комнате, выходит посмотреть, кто пришел. Догадываешься теперь, для чего нужен «мышонок»?
– Совсем не догадываюсь. Не для того же, чтобы заменять звонок?
Бибош расхохотался до слез, закашлялся от смеха, а когда он перестал кашлять, я получил от него хороший тумак.
– Если ты будешь говорить подобные вещи, то, пожалуйста, предупреждай заранее, иначе ты меня уморишь. Не заменять звонок, нет! «Мышонок» должен помешать звонку звонить, а для этого надо войти в лавку без звонка. Войти надо тихонечко, без шума, пробраться к ящику, взять деньги из кассы и передать тому, кто стоит снаружи. Тот берет деньги и помогает «мышонку» вылезти; купец лишится своих денег, не подозревая об этом! Теперь понимаешь?
Я был поражен.
– Но это значит, что тот, кто взял деньги из кассы, вор?
– Ну, так что же?
– Но ты разве вор? Ты – сам?
– А ты-то кто? Ты дурак?
Я стоял и ничего не мог ему ответить. Я припомнил все, что я видел накануне, и понял, что Бибош имел полное право назвать меня дураком. Однако надо же было мне все разъяснить.
– Послушай, – сказал я, – если ты рассчитывал на меня в этом деле, то ты ошибся.
На этот раз он не рассмеялся, а рассердился ужасно. Он подумал, что я его обманул, и если он теперь меня выпустит, то я пойду и донесу на него.
– Так нет же! – вскричал он. – Ты не донесешь, потому что не выйдешь отсюда!
– Нет, я уйду, и ты меня не остановишь.
Но он уже набросился на меня. Хотя он был гибкий и ловкий, но я был сильнее него. Борьба наша была непродолжительна: нападение было неожиданным, он успел меня опрокинуть, но я пришел в себя и вскоре уже сидел на нем верхом.
– Отпустишь меня?
– А ты не донесешь?
– Нет.
– Поклянись!
– Даю честное слово…
Я встал.
– Но ты действительно дурак, – сказал он с раздражением, – настоящий дурак. Вот увидишь, как ты будешь жить со своей честностью. Если бы ты вчера не встретил меня, ты бы уже умер, и если ты еще жив, то только потому, что ел краденую ветчину и пил краденое вино. Если ты не отморозил ноги, то только потому, что я дал тебе краденые ботинки, и если не замерз насмерть, то только потому, что на тебе краденое платье.
Ах, это платье, такое хорошее и теплое! Я не думал уже о том, как мне хорошо в нем.
– Дай мне, пожалуйста, свечу, – сказал я.
– Для чего тебе?
– Я хочу надеть свое старое платье.
– Я тебя не упрекаю этим платьем. Я тебе его дарю.
– Но я его не хочу.
Он пожал плечами и повел меня в галерею, где я спал.
Я снял новую теплую одежду, которую мне дал Бибош, и надел свое тряпье. Я не скажу, что почувствовал себя хорошо, но когда я хотел надеть свои ботинки, то увидел, что один из них совсем развалился. Бибош смотрел на меня, не говоря ни слова. Я хотел отвернуться от него – мне было стыдно своей нищеты.
– Ты хочешь быть дураком, и у тебя это прекрасно получается – ты достаточно глуп, – сказал он мягко. – Но то, что ты делаешь сейчас, меня очень трогает, вот тут, – он указал на сердце. – Должно быть, приятно сознавать себя честным человеком.
– Почему же ты не хочешь быть честным?
– Слишком поздно.
– Подумай, когда тебя арестуют и осудят, что скажет твоя мать?
– Моя мать? Ах, если бы у меня была мать… Но не будем говорить об этом.
Я хотел его перебить.
– Нет, пожалуйста, без проповедей! – воскликнул он. – Оставь меня в покое. Я только не хочу, чтобы ты уходил в таком виде. Я понимаю, что ты не хочешь надевать краденое платье, и я хочу предложить тебе то, которое я носил, когда работал в Фалезе. Я за него дорого заплатил своим трудом. Если у тебя есть сердце, ты не должен отказаться от него. Возьми его, пожалуйста.
Я согласился.
– Хорошо, – сказал он с видимым удовольствием, – пойдем, я тебе дам его.
Мы вышли и отправились в город. Он привел меня к дому около заставы, где сдавались меблированные комнаты. Мы вошли в одну из комнат, и он достал из шкафа знакомые мне куртку и панталоны, которые я видел на нем в Фалезе, и ботинки, не совсем новые, но еще достаточно крепкие.
– Ну, теперь прощай, – сказал он, когда я переоделся, – если ты увидишь моих товарищей на улице, постарайся не узнавать их.
Еще не было и десяти часов, когда мы расстались с ним. У меня был целый день впереди, чтобы подумать, где я буду ночевать. Было сухо, я был тепло одет и хорошо обут, не голоден, а потому пока никак не мог сосредоточиться на вопросе о ночлеге, хотя и понимал, что мне необходимо найти пристанище в Париже.
Идти сегодня к Дьелетте было нельзя, и я пошел бродить по улицам. Может быть, какой-нибудь случай поможет мне определиться.
Прошло два часа, а я так ничего и не нашел и ничего не придумал, хотя миновал уже много разных кварталов. Тогда я сказал себе, что будет гораздо лучше, если я пойду случаю навстречу, и направился к Сене. Я решил вернуться на рынок к той доброй женщине, которая дала мне вчера двадцать су. Если она сама не даст мне работу, то хотя бы укажет, к кому можно обратиться.
Сначала она меня не узнала, поскольку я был переодет в платье Бибоша, но когда я ей напомнил вчерашнюю историю, она спросила меня, что я сделал с сестрой. Я рассказал ей все, что произошло вчера. Она была тронута. Потом я ей сказал, что не хочу покидать сестру, хочу остаться в Париже, пока она поправится, а для этого надо работать. Но я здесь никого не знаю, кто мог бы мне помочь, и я подумал… я надеялся…
– Ты решил обратиться к тетке Берсо, – перебила она меня, – и хорошо сделал, мой мальчик. Мне приятно, что ты догадался, что я не из тех женщин, кто позволит ребенку умирать на мостовой; я не богата, но стараюсь быть доброй и не оставлять без помощи тех, кто в ней нуждается.
Она позвала своих соседок, и они составили совет, чтобы придумать, на что я могу быть годен. Это было довольно трудно, так как не было такого обычая, чтобы дети работали на рынке.
Наконец, после долгих совещаний и споров, после того как они раз десять меня переспросили, что я умею делать, им стало ясно, что я умею хорошо писать. Решено было единогласно, что меня надо послать на аукцион, и если только там есть место, меня примут писцом.

Она позвала своих соседок, и они составили совет, чтобы придумать, на что я могу быть годен.
Я не присутствовал при переговорах обо мне. Мне только сказали, что место будет, и на другой день я был водворен с пяти часов утра за пюпитром на рыбном аукционе. Я должен был переписывать маленькие билетики. Для меня это было очень легко. Я писал быстро и четко. Вечером тетка Берсо пришла узнать, довольны ли моей работой? Ей ответили, что все идет хорошо и я могу рассчитывать на тридцать су в день. Это было немного, но так как тетка Берсо позволила мне ночевать в ее лавочке, то это было больше, чем мне было нужно, чтобы не умереть с голоду.
Дьелетту положили в госпиталь в понедельник, и я с большим нетерпением ждал четверга. Закончив работу на аукционе, я тотчас отправился в госпиталь. На рынке мне дали апельсинов, ими были наполнены все мои карманы. Я беспокоился, спешил и пришел слишком рано: дверь была еще заперта. Как-то она себя чувствует? Жива ли она? Может быть, умерла… Эта мысль приводила меня в ужас.
Когда мне указали палату, где она лежала, я бросился бежать со всех ног, но служитель остановил меня и сказал, что шуметь нельзя, иначе меня выведут вон. Тогда я пошел на цыпочках.
Дьелетта оказалась жива, и ей стало лучше. Никогда не забуду выражения ее глаз, когда она увидела меня!
– Я знала, что ты придешь, если только ты не замерз.
Она заставила меня подробно рассказать, как я теперь живу. Когда я рассказал об одежде и о каменоломне, она сказала:
– Ты, мой брат, поступил очень хорошо.
Никогда еще она не звала меня братом.
– Поцелуй меня, – сказала она, подставляя щеку.
Когда она узнала, что сделала для меня тетка Берсо, ее глаза наполнились слезами и она сказала:
– Какая она добрая!
Потом пришла очередь Дьелетты отвечать на мои вопросы.
Она рассказала, что долго была без сознания, в жару и бредила, но за ней так хорошо ухаживают, особенно сестра милосердия, которая так добра к ней.
– Но все-таки, – прибавила Дьелетта тихо, – я хотела бы поскорее уйти отсюда, потому что я боюсь. Предыдущей ночью маленькая девочка умерла вот на этой кровати, и когда ее перекладывали на носилки, со мной сделался обморок.
Дьелетта ошибалась, считая, что ее скоро выпустят из больницы. Она скучала и рвалась на волю, но выздоровление шло медленно, и она пробыла в больнице больше двух месяцев.
Впрочем, у нас все шло хорошо. За это время Дьелетту все полюбили, от доктора и сестры милосердия до последней сиделки. Всех она подкупала своей миловидностью и добротой. Все знали нашу историю, правда, в том виде, как мы ее рассказали. Любовь к Дьелетте распространялась и на меня, и когда я приходил к ней по воскресеньям и четвергам, меня все встречали как своего.
Наконец был назначен день выхода Дьелетты из больницы. Выписывая ее, доктор и сестра милосердия объявили, что они нашли средство избавить нас от путешествия пешком в Пор-Дье. Один поставщик кормилиц согласен взять нас с собой. Он отвезет нас до Вира. Там он возьмет нам места в дилижансе до Пор-Дье. Для этого они устроили подписку в палате, где лежала Дьелетта, и собрали двадцать пять франков. Это было больше, чем нужно. Я сам за эти два месяца экономил по шесть-восемь су каждый день, имея в виду наше путешествие, и у меня собралось двадцать два франка.
Какая разница в нашем положении два месяца тому назад, когда мы пришли в Париж, и теперь, когда мы уезжаем! Добрая тетка Берсо сама проводила нас до кареты, она снабдила нас и провизией в дорогу.
Экипаж для кормилиц был большой, не очень комфортабельный рыдван с двумя дощатыми скамейками в длину и соломой посередине. Но нам он казался великолепным.
Был конец января. Время не очень холодное, и путешествие было приятным. Мы не были избалованы вниманием, а потому ехали в добром согласии с кормилицами, которые возвращались домой с детьми. Когда дети кричали или когда их перепеленывали, мы выходили из кареты и шли пешком.
В Вире нас усадили в дилижанс, и мы доехали почти до самого Пор-Дье. Это было в воскресенье, ровно шесть месяцев спустя после того, как я ушел.
Мы шли несколько минут молча, не зная, с чего начать. Наконец Дьелетта заговорила первой:
– Пойдем помедленнее, я хочу поговорить с тобой.
Лед был сломан.
– Я тоже хотел поговорить с тобой: вот письмо, которое ты передашь моей матери.
– Почему только письмо? – спросила она кротко. – Почему ты не хочешь сам пойти со мной? Почему ты не отведешь меня к матери? Как же ты узнаешь, примет ли она меня? И если она меня не примет, что же мне тогда делать?
– Не говори так, ты не знаешь моей матери.
– Если бы я даже ее хорошо знала… Простит ли она мне, что я не сумела тебя удержать? Сможет ли поверить, что я тебя хорошенько просила не уезжать? Что ты проводил меня сюда и не захотел зайти к ней, чтобы поцеловать ее? Разве можно так поступать?
– Все это правда, и я ей пишу обо всем в письме. Я ей пишу, что если я ухожу, не повидав ее, то это потому, что я хорошо знаю, что если увижу ее, то не уеду; а если я не уеду, я должен буду возвратиться к дяде. Ведь контракт никто не отменял, а дядя не из тех людей, кто отказывается от того, что они считают принадлежащим им по праву.
– Твоя мама, может быть, сумела бы найти способ не отправлять тебя к дяде.
– Мама может меня не отправлять к нему только в том случае, если она заплатит ему неустойку. Вот видишь, я обо всем подумал.
– Я ничего не знаю. Я не знаю всех этих дел, но я чувствую: то, что ты делаешь, нехорошо…
Я сам не был уверен в том, что поступаю правильно, и потому не мог слышать без гнева тех слов, которые сам себе говорил не раз.
– Так это нехорошо?
– Да, нехорошо. И если твоя мама подумает, что ты ее не любишь, я не смогу защищать тебя. Я сама буду так думать.
Я ничего не ответил ей и шел молча. Я был взволнован, огорчен и близок к тому, чтобы уступить, но я все-таки устоял.
– Разве я когда-нибудь злился на тебя?
– Нет, никогда.
– Но ты думаешь, что я могу быть злым по отношению к другим людям.
Она смотрела на меня молча.
– Отвечай же.
– Нет.
– Так ты думаешь, что я не люблю маму и хочу только заставить ее страдать?
Она ничего не отвечала, а я продолжал:
– Ну, так если тебе хоть немножко жаль меня и ты думаешь, что я не могу быть злым, то и не говори так: ты, может быть, и убедишь меня остаться, но это будет несчастьем для нас всех.
Она не прибавила ни слова, и мы шли рядом молча, оба взволнованные и печальные.
Я пошел прямо через поля, где, я почти был уверен, мы никого не встретим; так мы дошли до канавы, за которой начинался наш двор. Мать, наверное, была дома.
– Идти надо вот тут, – я показал Дьелетте наш дом сквозь терновые кусты – дом, где я жил и где меня так любили.
Она поняла по моему дрожащему голосу, что я взволнован.
– Ромен! – сказала она.
Я притворился, что не понимаю той мольбы, которую она вложила в это слово.
– Иди же, – сказал я ей быстро, – ты отдашь ей письмо и скажешь: вот письмо от вашего сына. Ты увидишь – когда она прочтет его, она не оттолкнет тебя. Через полгода я приеду. Я напишу вам из Гавра. Прощай.
Я хотел убежать, но она бросилась мне на шею.
– Не удерживай меня! Пусти. Ты видишь – я плачу.
Она разжала руки.
– Ты не хочешь, чтобы я тебя поцеловала?
Я уже успел сделать несколько шагов, но вернулся, обнял ее и поцеловал. И почувствовал ее слезы на своей щеке.
Мне стало ясно, что если я не убегу сейчас, то ни за что не уеду. Я освободился из ее объятий и, не оборачиваясь, убежал.
Но у дороги я остановился, вернулся ползком обратно и спрятался в терновнике. Дьелетта прошла уже в наш двор и вошла в дом.
Долго никого не было видно, и меня охватило беспокойство. Что если матери там нет? Что если и мать, как и Дьелетта, тоже больна…
Но в этот момент на пороге показалась Дьелетта, а следом за ней мать.
Мать была взволнована. Она держала Дьелетту за руку. У обеих глаза были красными. Я бросился вниз через канаву и через три часа уже сидел в дилижансе, а через два дня через Канн и Гонфлер прибыл в Гавр.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































