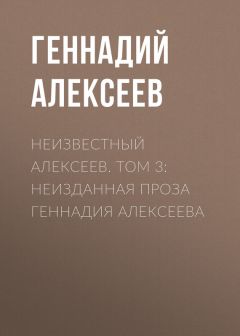
Автор книги: Геннадий Алексеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Геннадий Иванович Алексеев
Неизвестный Алексеев
Том 3
Неизданная проза Геннадия Алексеева
Геннадий Иванович Алексеев
Геннадий Иванович Алексеев вошел в мою жизнь в 1975 году. В тот год я стала студенткой архитектурного факультета Ленинградского инженерно-строительного института (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет). Геннадий Иванович весь первый курс читал нам лекции по истории искусств. Вчерашних обычных школьников и даже выпускников художественных школ его лекции ошеломили. Это было не сухое перечисление стилей, исторических дат, эпох. Он давал нам картину мира, вечного, непознанного, со всеми бесконечными проблемами, такими же, какие настигали и нас. И странно, что после лекций Алексеева великие мастера прошлого как-то приближались, становились понятнее. Лекции Алексеева скорее напоминали размышления о минувших эпохах, в которых присутствовали не только архитекторы, скульпторы, художники, по и музыканты, философы, поэты, и обычные ремесленники, крестьяне, воины, кухарки, трактирщики… На Алексеева ходили из других институтов. Сработало студенческое сарафанное радио. Студенты из Политехнического, из Военмеха сбегали со своих занятий, чтобы посетить лекции Алексеева по истории искусств. Что-то было такое в его монологах, сопровождавших видеоряд репродукций и фотографий, чего нам тогда, в конце 1970-х очень не хватало. По крайней мере, таким было моё восприятие этого удивительного человека. А потом вышла книга его стихов. Верлибров. И опять ошеломление. Какая-то тайна сопровождала личность Геннадия Ивановича. Дистанция между преподавателем и учеником позволяла только наблюдать издалека. Его внешность дореволюционного петербургского интеллигента, некоторая отстраненность, взгляд, как-будто обращенный в другое измерение…
После первого курса Геннадий Иванович руководил нашей обмерной практикой. Нам досталось выполнение архитектурных обмеров исторических надгробий на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Именно наша группа, состоящая из четверых студентов, занималась обмерами надгробия певицы Анастасии Вяльцевой. Геннадий Иванович приходил каждый день, давал короткие консультации. Но чаще прохаживался по дорожкам Никольского кладбища или одиноко стоял в отдалении. Дни были дождливыми. Я так и запомнила его темный силуэт под зонтиком среди старых деревьев. Один раз перехватила его задумчивый взгляд – он смотрел на барабан с утраченной луковкой над часовней надгробия Вяльцевой.
Курс лекций по истории искусств закончился. Сдали экзамены. Теперь я встречала его только в коридорах института. Очень редко в городе. Один раз в Эрмитаже. Потом он читал нам курс лекций по истории модерна. Тогда этот стиль был только-только реабилитирован. И опять это были не лекции, но погружение в тот ушедший мир особой эстетики, сложных переживаний, отношений, музыки поэзии, моды. Отголоски этого мира таились в пространстве города, который окружал нас.
Один раз, очень волнуясь, я звонила Геннадию Ивановичу с просьбой встретиться с участниками одного литературного объединения. Он легко согласился. Читал тогда свои стихи, отвечал на вопросы. Помню, что удивилась, как легко по окончании этой встречи его обступили участники, просили посмотреть их сочинения. А я робела. По-прежнему он казался мне окруженным тайной, недоступным. Тогда, в литературном объединении, он подошел ко мне, сказал, что надо бы нам встретиться, но его тотчас отвлекли. Я все думала, что решусь еще раз позвонить, показать ему свои стихи. Но опоздала. Помню прощание в Доме писателей на улице Воинова, 18 (теперешней Шпалерной). Очень пожилую женщину, его мать. Помню слова, с которыми к нему обращались друзья, писатели. И даже помню погоду за окнами Дома писателей. Петербург с ним прощался.
А потом началось странное. Сначала в архитектурную мастерскую, где я работала по окончании института, кто-то из сотрудников принес рукопись неизданного романа Геннадия Алексеева «Зеленые берега». Я читала всю ночь. И это было некое открытие его жизни. Я вспомнила надгробие Анастасии Вяльцевой, его лекции по истории модерна, перечитала его верлибры. Он действительно умел жить одновременно в разных временах. Он был человеком другой эпохи, опоздавший со своим рождением. И Петербург помогал ему возвращаться к самому себе.
Потом была выставка художественных работ Алексеева в Доме Архитекторов. Потом новая книга верлибров. Посмертная. Верлибр – не очень понятный жанр для русского читателя. Лично я люблю только верлибры Геннадия Алексеева. Его спасает самоирония и удивительное чувство юмора.
В 1990-е годы на ленинградском радио у меня был цикл литературных передач «Петербургские новеллы». Одна из передач называлась «Так долго не было меня…» и была посвящена творчеству Геннадия Ивановича. После этого многие, кто знал его при жизни, стали рассказывать мне о нем. Его сотрудники, друзья. Что-то я узнавала из этих рассказов. Не то, чтобы подробности жизни, но детали, которые запоминались. Например, что его любимыми цветами были розы. Или, что к своему дню рождения он любил сам изысканно сервировать праздничный стол. Что на его рабочем столе, где бы он ни был, даже на отдыхе, всегда стоял портрет Анастасии Вяльцевой.
Был издан роман «Зеленые берега», потом было второе издание. Я перечитывала и поражалась удивительному совпадению автора с Петербургом. Мне казалось, что и после смерти Геннадий Иванович Алексеев продолжает свой одинокий путь в петербургской литературе. Его сочинения до сих пор – для посвященных, для тех, кто чувствует душу Петербурга. Его роман, как драгоценный кристалл, в котором преломляется время, и Петербург существует одновременно и в прошлом, и в будущем, и в настоящем.
Когда я говорю, что Геннадий Иванович вошел в мою жизнь, то нисколько не преувеличиваю. Конечно, я была одной из многих его студентов. Наверное, как и меня, он многих задел своим творчеством. Знаю, что у него есть свои фанаты, не побоюсь этого слова. Но главное, стоит лишь увидеть привычные городские брандмауэры, или остановиться на мосту, или различить в саду силуэт статуи, как тотчас почувствуешь присутствие поэта, архитектора, художника. Никто лучше не сказал о петербургских брандмауэрах.
* * *
Алексеев Геннадий Иваныч уехал.
Куда?
В самый-самый конец века прошлого. Помнишь певицу
Вяльцеву? Очень блистала тогда.
Вот он к ней и поехал. И жизнью пришлось расплатиться
за дорогу в один лишь конец.
Никому не сказал,
не простился ни с кем, был внезапным отъезд и тревожным.
Здесь он был одинок, тосковал, и о ней всё писал.
Нам остались стихи о любви и судьбе невозможной.
О невстрече, о жизни, когда торопились часы
на полвека.
Однажды заветную дверцу
приоткрыли и цену назвали, и сердце,
не задумавшись, бросило жизнь на весы.
Валентина Лелина,
член Союза писателей, член Союза архитекторов
От составителя
Последние тетради дневников Г. И. Алексеева мне передали его жена и дочь с просьбой подготовить дневники к публикации.
Дневники, включенные в очередной том «Неизвестного Алексеева» занимают в творчестве поэта особое место. В 1986 году, за год до смерти, Геннадий Алексеев сравнил свою жизнь с жизнью Мопассана, прожившего всего 42 года. Перечисляя написанное им за последние десять лет, кроме стихов, романов и рассказов (два из них включены в данный том) он упомянул 600 страниц «дневниковой прозы», из которых «ни одна страница разумеется не опубликована».
Геннадий Алексеев называл свои дневники литературным произведением. Недаром в дневнике 1967 года он вспоминает, как в 1952 году описал в дневнике «озеро, дорогу, лес и свои чувства», охватившие его от «всей этой красоты и от желания высказать свой восторг». Именно эту запись он считает своим «первым литературным произведением – стихотворением в прозе».
Самая ранняя опубликованная дневниковая запись поэта относится к декабрю 1958 года. Не найдены, а по всей вероятности и не сохранились не только его первые дневники, но и дневники 1972–1979 годов, дневник 1981 года.
Алексеев тщательно готовил свои записи к публикации, иногда датируя отдельные места не тем числом, когда они действительно были сделаны. Последний отредактированный автором и перепечатанный на пишущей машинке дневник относится к 1980 году. Дневники 1982–1987 годов существуют только в рукописном варианте. В них точная дата отдельных записей часто не указывалась.
Ощущение течения времени характерно для всего творчества Алексеева. Он считал, что дневники – «та же машина времени», работающая «в одну сторону – к прошлому, грустная машина».
В дневниках Геннадия Алексеева, очень откровенных, можно найти ключ к пониманию особенностей его мироощущения. Несмотря на свой успех у женщин, обожание студентов, поэт ощущал себя одиноким. Он признавался, что ему не с кем «затеять душевный разговор» и жалел, что не может «поговорить с Гейне или Джоном Рескиным и поболтать с Врубелем или с Леонидом Андреевым».
Именно поэтому Геннадий Алексеев с жадностью читал «всяческие мемуары, автобиографические записки, дневники, думая, будто здесь можно найти какие-то ответы или хотя бы намеки на них».
Хочется надеяться, что читатели дневников Геннадия Алексеева тоже станут искать и может быть, найдут ответы на мучащие их вопросы.
А. М. Ельяшевич
Дневники
1980
1.1
Приветствую тебя, 1980-й! Что сулят мне твои 365 дней? Уповаю на твою благосклонность, на твою осмотрительность, на твою порядочность, на твое великодушие.
2.1
Человек лет сорока. Одет странно: длинное помятое пальто, нелепая, надетая набекрень шапка, кирзовые солдатские сапоги. На лице человека бессмысленная младенческая улыбка. Он тащит за собой на веревочке игрушечный автомобильчик.
7.1
Давно не был на кладбище, давно не навещал могилу отца. Приехал и удивился – кладбище не узнать. Оно превратилось в парк с красивыми зелеными газонами и прямыми, посыпанными желтым песком дорожками. Памятников нигде не видно. Однако наш «семейный склеп» почему-то уцелел, только ограда исчезла. «А без ограды даже лучше», – подумал я и вдруг заметил, что у надгробия отца появился металлический люк. «Что еще за новости!» – рассердился я и, подняв крышку люка, заглянул внутрь.
Вниз шла узкая металлическая лесенка, и оттуда, снизу, доносились человеческие голоса. С замирающим сердцем стал спускаться в отцовскую могилу. «А где же гроб? – недоумевал я. – Куда он подевался?» Подземелье было глубоким, и чем ниже я опускался, тем светлее становилось, тем громче звучали голоса. И вот я очутился в большом, ярко освещенном зале современной архитектуры. Потолок поддерживали тонкие бетонные столбы, стены были облицованы красновато-коричневым мрамором. Тут и там группами стояли люди. Они что-то оживленно обсуждали, о чем-то спорили. Некоторые сидели за столами и что-то читали.
– Как это прикажете понимать? – обратился я к проходившему мимо человеку. – Где останки моего отца, моего деда и моей бабки? Почему не сообщили? Отчего не предупредили? Это безобразие! Это сущий произвол! Кто позволил разорять кладбище? Кто разрешил строить под землей это учреждение? На земле, что ли, места мало?
– Мало, – ответил человек, – на земле уже совсем места не осталось. А от кладбищ никакого проку.
– Но ведь есть же какие-то моральные принципы! – закричал я. Есть традиции, которые нельзя разрушать! Это цинизм! Вы осквернили прах моих родственников!
– Обратитесь к директору, – сказал человек. – Впрочем, его сейчас нет, он придет через час. Вы пока погуляйте.
Целый час я слонялся по подземелью. Оно было обширным. Анфилады высоких светлых залов сменялись узкими полутемными коридорами. Кое-где потолки были стеклянными. Сквозь них проникал солнечный свет.
Открыв какую-то дверь я очутился вдруг на многолюдной улице, которая показалась мне знакомой. «Что же это за улица?» – думал я, стараясь припомнить, как она называется. Но так и не припомнил.
В одном из залов под стеклянной крышей цвели какие-то экзотические цветы, лианы вились по стенам и оплетали мраморные колонны. «Чудеса! – думал я. – Что же это за учреждение? Куда я попал?»
Наконец я вернулся туда, откуда началась моя прогулка по подземелью. Мне показали директора. Он был в грязной рабочей одежде – в ватнике, в заляпанных белой краской штанах. На голове у него была кепка, надетая козырьком назад. За ухом торчал карандаш. «Какой смешной директор!» – подумал я и без обиняков спросил его:
– Где мои родственники?
– Они там, – сказал директор и постучал ногой в пол.
– Где это там? – спросил я строго. – Вы мне голову не морочьте! Я на вас жалобу напишу! В верховный совет, в Организацию Объединенных Наций!
– Пойдемте, – сказал директор, смачно сплюнув в угол и утершись рукавом ватника.
И мы стали спускаться по еще одной лестнице, которая, как мне показалось, вела прямехонько к центру Земли.
– Вот, пожалуйста! – сказал директор, ткнув рукой куда-то в сторону.
Я увидел, что из стены на разной высоте торчат толстые закоптелые деревянные балки. На них положены доски, а на досках навален всякий хлам – колеса велосипедов, жестяные тазы, безногие стулья, поломанные рамы от картин, допотопные радиоприемники и телевизоры. Среди этих предметов я разыскал глазами три гроба. Они были очень старинные, добротные, обитые железом и испещренные какими-то непонятными надписями.
– Вот здесь ваш отец, – сказал директор и постучал согнутым пальцем по крышке того гроба, что стоял поближе. – А вот там ваши дедушка и бабушка, – добавил он, указав на другие гробы.
– Это не те гробы! – заявил я. – Зачем вы потревожили кости моих предков? Зачем вы их переложили?
– Да ну вас! – произнес директор и исчез.
Одно из велосипедных колес сорвалось с досок и подкатилось к моим ногам. Где-то высоко надо мной скрипнула дверь, и тотчас погас свет. «Вот и хорошо, – подумал я, вот и прекрасно!»
8.1
За столом восемь человек: поэт, две поэтессы, актриса, актер, самодеятельная певица, художник и инженер.
Самодеятельная певица неплохо спела арию Маргариты из «Фауста», инженер ловко спародировал одесскую блатную песню, а актриса с большим чувством прочитала стихи Рубцова.
Тогда заговорил поэт. Он дал понять всем присутствующим, что не ставит ни в грош творения Рубцова. И сразу с ним согласились обе поэтессы. Но актер стал возражать, и возник спор. Через полчаса все сошлись на том, что Евтушенко, Вознесенский и Ахмадулина – дерьмовые стихотворцы. Но поэт не унимался и высказал предположение, что современные поэты тоже пишут дрянь. При этом было ясно, что себя он к «прочим» не относит.
Поэтессы спросили: «А Кушнер? А Соснора?» Поэт стушевался и умолк. Тут стали рассказывать анекдоты. Лучше всех это делали инженер и актриса.
Анекдоты имели шумный успех.
Потом кто-то попросил поэта почитать стихи. Поэт насупился и сказал, что после анекдотов он никогда не читает.
– Конечно! Конечно! – закричали поэтессы. – Лучше в другой раз!
– Еще один анекдот! – сказала актриса. – Самый последний, – и она рассказала нечто очень смешное, но крайне непристойное.
– Ну вы даете! – изумился поэт.
Актриса покраснела и нервно засмеялась.
10.1
Отдел художественных открыток в магазине изопродукции.
На витрине лежит открытка с репродукцией «Красного коня» Петрова-Водкина. Перед витриной стоят двое – мужчина пенсионного возраста в меховой шапке и женщина лет сорока в клетчатом шерстяном платке. Мужчина явно городской, а женщина – из деревни. Мужчина обращается к молоденькой, модно одетой продавщице:
– Скажите, девушка, почему здесь, на открытке, красный конь? Ведь красных коней не бывает!
Продавщица улыбается. Не отвечает.
– Нет, вы мне все-таки объясните, – настаивает пенсионер, – чего ради конь стал красным? Что за причуда? Почему художникам разрешают делать такие нелепости? Почему они безнаказанно издеваются над народом? Нет, вы, пожалуйста, ответьте.!
– И зачем разрешают выпускать такие открытки? – подхватывает женщина в платке. – Ведь это же надо придумать! Красный, совершенно красный конь!
Продавщица смеется:
– А я-то тут при чем? Я продаю то, что у меня есть. Не сама я печатаю репродукции!
– Вот именно! – говорит мужчина. – Все умывают руки! Полнейшая безответственность!
13.1
Юбилей Улановой. Ей исполнилось 70. Чествование великой балерины в Большом театре передают по телевидению.
Уланова сидит одна в ложе у сцены. О ней говорят. На экране возникает ее детская фотография – девочка лет пяти со светлой челочкой и с бантиками в коротких косичках. Далее идут кинокадры 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов. Уланова на сцене. Уланова на улицах Лондона. Уланова в тренировочном зале с учениками и ученицами. И снова объектив телекамеры направлен на живую, семидесятилетнюю женщину все с той же светлой челкой над глазами.
Потом актеры, танцовщики, певицы подносят ей цветы. Уланова кладет их пред собой на ограду ложи. Гора цветов все растет, постепенно закрывая балерину. Ее руки и грудь уже скрылись, а цветы всё подносят и подносят.
Читают посвященные ей тексты Бернарда Шоу, Томаса Манна, Ромена Роллана. Она спокойна. Она даже не улыбается, лишь едва кивая головой в ответ на славословия.
Ее называют неповторимой, единственной, несравненной, ослепительной, чудом века. Говорят, что эпитет «гениальный» для нее слишком скромен, что следует придумать какое-нибудь другое, новое слово.
И снова кинокадры, и снова восхваления.
14.1
Пишу рассказ о своей поэме «Жар-птица», о том, как она создавалась и что было с нею после. Мне не нравится то, что я пишу, но, как всегда, мною овладевает неодолимое желание закончить начатое.
С брезгливостью дописываю вполне реалистический и довольно длинный рассказ о поэме, которая появилась на свет 19 лет тому назад и которую я уже давно не люблю.
16.1
Я не от мира сего и не от века сего, и мой удел – недоумение.
Почему эпигонские стихи Мандельштама столь волнуют интеллигенцию? Отчего посредственный прозаик, посредственный актер и посредственный кинорежиссер Шукшин стал любимцем публики? Почему люди часами стоят в очереди, чтобы попасть на выставку авантюриста Глазунова?
Встретил в Доме писателя Глеба Горбовского. Постояли, поговорили.
– Меня по-прежнему не печатают, – пожаловался я.
– Пеняй на себя, – ответил Горбовский, – ты же сам придумал себе такую биографию. Пиши, как все, – будут печатать.
– Теперь уже поздно, – сказал я.
17.1
Истинная поэзия – это всегда формула времени.
Каждая эпоха оставляет нам несколько, всего лишь несколько таких формул. Прочие стихи – лишь приближение к поэзии или бессмысленное противостояние ей. Умение писать, но неумение формулировать порождает потоки подчас красивых, но вовсе не обязательных слов и строчек, которые быстро теряются в пустоте забвения.
Смысл творчества, как и жизни вообще, в постоянном генерировании нового.
Я повторяюсь – значит, я мертв. Я еще могу воскреснуть, но не исключено, что это последнее, окончательное мое исчезновение.
20.1
Она была наделена той очаровательной глупостью, которая так к лицу молодым хорошеньким женщинам. «Ой, – говорила она, – а я и не знала!» Или: «Вы шутите, я вам не верю! Вы просто надо мною смеетесь!»
«Господи, до чего же она глупа!» – думал я, наслаждаясь своим интеллектуальным превосходством.
Но она превосходила меня искренностью, доверчивостью и жизнелюбием.
Акмеисты предали породивший их двадцатый век. Они искусны, но это искусство копиизма.
24.1
В моих картинах и в моих стихах запечатлена суть реальности, а не ее видимая оболочка.
В моем пространстве очень тесно. Его загромождают чудовища. С трудом пробираюсь между их чешуйчатыми когтистыми лапами. Почему мне досталось такое пространство?
Тревожно в мире, по-прежнему тревожно. И все в нем не ново: нетерпимость, коварство, фанатизм, жадность, трусость, властолюбие и недомыслие. Великие идеи по-прежнему требуют человеческих жертв. И жертвенная кровь брызжет в небеса.
А ведь уже побывали на Луне, увидели вблизи Венеру, Марс и даже Юпитер.
Я пишу по-своему. Никто в России не пишет ничего подобного. Я вполне самобытен, и в этом мое несчастье.
Читатель сторонится оригинальности, он предпочитает узнавать в стихах нечто знакомое. Поэтому у меня нет читателя.
Я актер, с усердием играющий свою роль перед пустым залом. Когда я закончу, я поклонюсь в пространство, и аплодисментов не будет.
Мое существование в литературе противоестественно. В его прекращении не было бы ни крупицы трагического. Естественность восторжествовала бы.
25.1
Дом писателя. Литературный вечер, посвященный Крылову. Великий баснописец был неопрятен, много ел и много спал. Спать он умудрялся везде – и дома, и в гостях, и на службе…
14 декабря 1825 года Иван Андреевич весь день простоял на Сенатской площади – наблюдал. Вскоре его вызвал Николай и спросил, зачем он явился на мятежную площадь. «А я думал, что пожар», – простодушно ответил баснописец.
Он был женат на своей кухарке и имел от нее детей. В молодости он уповал на Павла, но когда тот стал царем, в нем разочаровался. Николай его любил и награждал орденами. Частенько его приглашали в Зимний дворец, где он обедал в присутствии царской семьи.
На смертном одре, до самой последней своей минуты, Крылов мутил и балагурил.
27.1
Истина мне неведома, но временами мне кажется, что она где-то рядом.
Поэзия – это сама жизнь. А проза – работа, тяжкое изнурительное ремесло.
Стихотворение – это вздох печали, вопль отчаянья или ироническая улыбка. А роман – большой корабль или многоэтажный дом. Его надо строить и строить. И неизвестно, что получится: поплывет ли кораблю? Не рухнет ли возведенное сооружение?
Сезанн циничен. Он препарирует мир, как патологоанатом. Он говорит: «Поглядите, как просто все устроено – желтая плоскость, серая плоскость, зеленая плоскость… А вы молились этому цветку, этой женской руке, этому облаку!»
29.1
Рукопись моей второй книги сдана в набор два месяца тому назад.
– Чего они тянут? – спрашиваю я в редакции.
– Некому набирать, – отвечают мне, – не хватает наборщиков. А те, что работают, все пьяницы, неделями не появляются в типографии. Если их уволят, типографию вообще придется закрыть.
Три года назад, когда я принес рукопись в издательство, в ней было восемьдесят стихотворений. Сейчас осталось шестьдесят. Среди отвергнутых – все лучшее.
– Да, это действительно самое лучшее, – говорит мой редактор, – но не будем дразнить гусей, они больно щиплются. Если вы хотите иметь вторую книгу, соглашайтесь на жертвы. Поверьте мне, я желаю вам добра!
Я знаю, что у редактора есть нюх и он действительно желает мне добра. И я соглашаюсь на тяжкие жертвы.
Грех жаловаться и не верить в прогресс: моя первая книга провалялась в этом же издательстве целых семь лет.
30.1
Вспоминаю прошлое лето.
«Старая Сильвия» в Павловском парке. Сижу на скамейке. Предо мною зеленый луг. Слева и справа купы густых деревьев. В глубине, на лугу, одинокий раскидистый дуб. За ним роща серебристых ив.
Тихо, тепло. На небе прозрачные волокнистые облака. Вдруг порыв ветра. Шум листвы, ее мерцание под солнцем.
Мимо меня по аллее проходят две женщины. Одна говорит другой: «Никто не знает, никто не знает. И я не знаю, и я ничего не знаю».
Тень от набежавшего кучевого облака упала на лужайку, на дуб, на дальние ивы. Прилетел шмель. Сел рядом со мной на скамейку, поползал, пошевелил усиками. Улетел.
Рижское взморье. Булдури. Пивная на берегу. Сижу, пью пиво, гляжу на море. Оно серое, неподвижное. На горизонте оно сливается с таким же серым небом. По его почти неразличимой кромке медленно ползет небольшое судно. Оно тащит за собой длинный хвост дыма.
По пляжу бродят полуголые люди. Девушка в красном платье босиком бегает по сырому песку у воды. Старик собирает пустые бутылки в большую зеленую сумку.
Поэзия – это крик души. Но она же и игра в слова. Когда только крик или игра, поэзия исчезает. Она боится однозначности.
Не могу сказать о себе как о поэте: «Я пою». Поэзия и музыка существуют для меня отдельно. Но мои стихи не чужды музыке двадцатого столетия.
31.1
Продолжаю вспоминать прошлогоднее лето.
Сигулда. Чистенькая привокзальная площадь. Свежие, незатопленные газоны, цветники. Иду к реке. Справа – старинная белая церковь. Перед ней небольшой пруд. В пруду плавают лебеди.
Длинный пологий спуск в речную долину. С двух сторон на высоких холмах лиственный лес, напоминающий наши пригородные парки. Наконец, мост через реку. Стою и любуюсь пейзажем.
Река неширока и неглубока, но до крайности живописна. В ее красной воде отражается небо. Внизу, под мостом, мальчики ловят рыбу. Они стоят в воде по пояс, то и дело забрасывая свои удочки. Течение быстрое, и поплавки сразу сносит в сторону. По мосту не останавливаясь проходят толпы туристов.
1.2
Русский человек – особенный человек. Никто не способен его понять. Сам себя он тоже не понимает.
Молодой, а точнее, еще не старый поэт из «непризнаваемых» более часу читал длиннейшую поэму о половом акте. Это было написано ровным, величавым классическим стихом в духе Тютчева и Мандельштама. Когда он кончил, я спросил его, к чему он стремится в своем творчестве. «К духовности», – ответил он.
Поэты всех мастей объединились в своей ненависти к Вознесенскому. Они невзлюбили его за успех.
2.2
Проза удручает своим многословием. Так и подмывает убрать все лишнее, выжать воду и оставить субстрат. А он не что иное, как поэзия.
Пишу прозу и мучаюсь.
3.2
Парадная жилого дома на Невском. На полу осколки бутылок, окурки, клочки бумаги, лужа мочи. Стены исцарапаны непристойными надписями.
Прогулка к новой гостинице, построенной на самом берегу залива шведской строительной фирмой. По странной иронии судьбы она находится на том самом месте, где 280 лет тому назад стоял Петр и думал о том, что «отсель грозить мы будем шведу».
Здание воздвигнуто с таким тщанием, которое немыслимо в нашем великом отечестве. Шведы взяли реванш.
С эспланады гостиницы открывается вид на белую, снежную пустыню. На горизонте чуть заметна серая полоска Кронштадта с зубцом собора. У кромки берега еще видны остатки гигантской городской свалки, располагавшейся здесь столь недавно.
Пытаюсь найти свой прозаический стиль. Мне не по душе тягуче-описательная проза. Предпочитаю динамику, упругость и немногословие. Все необязательное следует безжалостно отбрасывать. Главная трудность – точно определить, что обязательно.
Менее всего я ценю в поэзии пресловутую задушевность. Растрогать читателя не так уж трудно. Столь же легко дается внешнее «изящество».
Подлинные стихи – это сложные, многозначные смысловые и ритмические структуры, чья красота подобна красоте мироздания и чья правда, высшая, опаляющая душу правда, доступна лишь немногим.
Адольф Лоос, имея в виду архитектуру, говорил, что орнамент – это преступление. Рифма – тот же орнамент. Она мешает воспринимать само «тело» стиха, его форму. Часто она маскирует отсутствие этого тела, и появляются тысячи стихов-призраков, рифмованных опусов, которые лишь выглядят стихами. Рифма профанирует искусство поэзии и порождает толпы рифмачей.
В непременной рифменной орнаментальности, столь привычной для русских стихотворцев и их читателей, есть нечто восточное, что вообще присуще русской культуре.
5.2
Надо иметь мужество быть в искусстве одиноким.
Я всегда сторонился всяких кружков, сообществ, объединений, я всегда был сам по себе. За это многие меня не любили. И сейчас не любят.
Но одиночество помогало мне сохранить свое лицо, его «необщее выражение».
1945 год. Осень. Орел. После четырехлетнего перерыва я впервые в театре – родители взяли меня на вечерний спектакль, потому что я уже большой, мне тринадцать лет.
В наскоро восстановленном здании показывают пьесу Погодина «Кремлевские куранты». Когда на сцене появляются Ленин и Сталин, все зрители встают и долго аплодируют. И я встаю, и я аплодирую, испытывая волнение от сопричастности к чему-то великому.
Моя поэзия – интонационно-смысловая. Это игра в смысл и бессмыслицу. Это вопросы и ответы. Или вопросы без ответов. Или ответы на никем не заданные вопросы.
Это бесконечные диалоги с тем, кто во мне, предо мною и надо мною.
От природы чувствительный, я борюсь с эмоциями изо всех сил. В этом мне помогает ирония.
Моя борьба небезуспешна: некоторые полагают, что у меня нет эмоций.
1944 год. Лето. Станция Геок-Тепе. В нашем дворе живет девочка лет четырнадцати (мне – двенадцать). Я безумно в нее влюблен.
Я невинен, но тайны половой жизни мне уже известны. Меня мучает вполне осознанное желание к этому длинноногому курносому существу с едва наметившимися женскими формами. По ночам мне снятся сладкие, но пока еще расплывчатые сексуальные сны.
Простота всегда возвращает нас назад, к архетипу, к первозданности и в конце концов к нулю, к пустоте. Сложность же ведет вперед, в неведомое и бесконечное. Будущее в сложности.
Но часто дурная простота лишь притворяется многозначительной сложностью, а настоящая сложность выглядит простоватой.
6.2
Шумная многолюдная улица в центре города. Импозантный фасад бывшего доходного дома в неоклассическом духе. Высокая арка, ведущая во двор. Куча мусора посреди двора (кто-то, развлекаясь, вывалил мусор из жестяных баков). Полутемная лестница. Совсем темная кабина лифта (кто-то для удовольствия разбил лампочку). Огромная коммунальная квартира (семь звонков у входной двери). Большая комната, тесно заставленная старой мебелью. Пожилая интеллигентная женщина с широким округлым лицом и грузным телом.
Говорим о литературе. Она показывает рукописи, фотографии. Потом читает свои стихи и под конец угощает меня чачей. Стихи обыкновенные, каких много. А чача очень крепкая и сразу ударяет в голову.
За окном фиолетовые петербургские сумерки – заснеженная крыша, трубы, телевизионные антенны.
Я пишу стихи, потому что мне надо высказаться.
Поэзия для меня не роковая губительная страсть и не спасительная религия, а средство для выражения моего сокровенного, моей «самости». Поэтому я не испытываю чувства единения со своими собратьями по перу и ощущаю себя так, будто я единственный поэт на свете.
Я одинок, и я должен быть одинок, ибо я есть я, а все остальные – это всего лишь все остальные.
Я одинок, но я должен страдать от своего одиночества, а не упиваться им, ибо упоение одиночеством растворит меня в предельности и я исчезну.
7.2
1945 год. Орел. Мы с отцом собираем грибы в пригородном лесу. Грибов великое множество, а грибников не видно – мы совсем одни. Берем только белые. Они растут под березами и под дубами большими семьями, по 10–15 штук. Никогда в жизни, ни до, ни после этого послевоенного сентября, я не видел такого грибного изобилия. Говорят, что грибы к войне, а это было начало мира. В городском парке еще стояли подбитые «тигры» и «пантеры», а город был в руинах. Перед отступлением, как рассказывали местные жители, немцы методично взрывали дом за домом.









































